5 ОДИН СПОСОБ ПОПАСТЬ В КИНО
5
ОДИН СПОСОБ ПОПАСТЬ В КИНО
На следующий день Мартин Бек распорядился, чтобы время нашего номера было урезано с семнадцати минут до двенадцати. Конечно, он знал, как никто, насколько трудно накануне вечером урезать пять минут от такого импровизированного и легкомысленного фарса.
Мы и не пытались.
Напротив, папа принёс на сцену «Дворца» долларовый будильник. Заводя его, он объяснял публике, что, к нашему сожалению, менеджмент не позволит нам сделать полный номер. Но мы постараемся сделать всё, что сможем, за тот короткий срок, который нам разрешили оставаться на сцене. Он ставил будильник прямо перед огнями рампы. Когда он звонил, мы останавливались независимо от того, чем занимались: дрались, гонялись друг за другом или танцевали. Мы останавливались как вкопанные прямо в середине действия; папа забирал будильник, и мы уходили.
Это был чудесный способ выразить наше возмущение. Публика была с нами на сто процентов, но плохо, что не публика нанимает актёров. Мы закончили сезон, отыграв две недели в театре Лоу. Это было скверно, даже несмотря на то что Лоу платил 750 долларов в неделю — столько же, сколько мы получали у Кейта.
Скверно потому, что мы играли три шоу в день вместо двух. Для артистов высокого уровня вроде нас, всегда работавших на лучших условиях, это означало огромную потерю престижа. Все профессионалы понимали, что ты на закате своей карьеры, если соглашаешься на такое.
Именно тогда успех в Англии имел бы огромное значение, и мы могли бы вернуться туда работать.
Многие знаменитые актёры предпочитали совсем не работать, лишь бы не соглашаться на плохие условия. Мы не были настолько упрямы или глупы. Мы видели, как некоторые из них сидят и ждут годами чего-то более достойного. Для большинства из них эта возможность так и не наступила, и через какое-то время о них забывали.
Мы договорились между собой, что не позволим подобному случиться с нами. Когда настал следующий сезон и мы не смогли получить хороший ангажемент, то подписали контракт на работу в сети театров Пэнтейджеса на Западном побережье. Но вскоре обнаружили, что играть наш грубый и костоломный спектакль три раза в день слишком изнуряюще и болезненно.
Мы умоляли Александра Пэнтейджеса позволить нам делать только два шоу в день. Пэнтейджес был суровый старый грек, который начал сколачивать своё состояние, работая швейцаром в салуне на Клондайке во время золотой лихорадки. Опыт, полученный им на ледяном Севере, не сделал его добрее. «Вы подписали контракт на три шоу, — сказал он, — и будете играть три шоу в день».
Вдобавок к трудностям трёхразовых выступлений папа недавно переключился с пива на крепкий ликёр. Принудительная работа на плохих условиях давала ему лишнее оправдание пьянства. В номерах, подобных нашему, точно выверенное время означало всё. Опоздаешь на полсекунды пнуть или уклониться от удара, и рано или поздно переломаешь кости. Папа никогда не был одним из валящихся с ног алкашей, но этого и не требовалось, чтобы подвергнуть опасности здоровье нас обоих.
«О, со мной всё в порядке», — говорил он, если я напоминал об осторожности, — и не забывай, что я твой отец. Так что не читай мне нотаций». Я пытался взогреть папу во время выступлений, слегка наказать его, но это тоже не срабатывало. Он смеялся надо мной, когда я угрожал, что уйду, если он не бросит пить.
В Сан-Франциско он бывал навеселе слишком часто. Мы собирались двигаться в Лос-Анджелес, чтобы открыться в следующий понедельник в театре Пэнтейджеса. Но в ту неделю в Сан-Франциско я сказал маме: «Я собираюсь бросить шоу».
Мама не возражала. Она сама пыталась отговорить папу от выпивки перед выступлениями. Как бы там ни было, шоу значило для неё гораздо меньше, чем для нас.
Но никто из нас не мог придумать простого способа сообщить папе плохую новость. Он бы не выдержал и разрыдался, как ребёнок, умоляя дать ему ещё один шанс. Я не желал видеть, как мой отец потеряет человеческий облик. Я сомневался, смогу ли это вынести. Хотя не сказал бы, что не был на него как следует сердит.
В общем, мы с мамой ничего ему не сообщили. Пока он был в одном из салунов в вечер перед отъездом в Лос-Анджелес, мы уложили вещи и сели в поезд, шедший на Запад.
Мы даже не оставили ему записку.
Я поехал в Нью-Йорк посмотреть, не удастся ли найти работу "одиночным номером», как говорят в водевиле. Мама отправилась в Детройт некоторое время погостить у друзей.
Когда папа вернулся в отель и увидел, что нас нет, то не стал беспокоиться. Он всегда был оптимистом и решил, что мы уехали в Лос-Анджелес без него, и, только войдя в лос-анджелесский театр Пэнтейджеса, сообразил, что я отменил остаток турне.
Никто не мог сказать ему, где мы. Не зная, что делать дальше, он уехал в Маскигон, надеясь обнаружить нас там. И в Маскигоне он провёл оставшуюся часть зимы.
Наш дом был летним коттеджем без отопления и водопровода, но, за исключением физических неудобств, это было неплохое место для папы. Некоторые из его старых водевильных друзей ушли на покой и жили там круглый год. Дети всё ещё учились в маскигонской школе поблизости, а это значило, что половина семьи была с ним.
На банковском счету хватало денег, и папа не собирался умирать в Маскигоне ни от голода, ни от одиночества. Зная его, я был уверен, что смерть от угрызений совести ему тоже не грозит.
Тем временем в Нью-Йорке я попал в кино. Пробыв месяц в Детройте, мама сжалилась над папой и присоединилась к нему в Маскигоне. Надо было видеть его лицо, когда мама объяснила, чем я занимался. Папа всегда глумился над кино и считал его временной прихотью вроде заниженной талии на платьях, но гораздо менее интересной.
Незадолго до этого Уильям Рэндольф Херст[31], уже занимавшийся кинобизнесом как любитель, убеждал нас делать для него комедии в двух частях[32].
— Что вы говорите? — загремел папа. — Вы хотите показывать «Трёх Китонов» на простыне и за десять центов?
Позже Херст предложил нам контракт на целую серию двухчастевок, основанную на комиксах «Воспитывая папочку», которые печатались в его газетах. Херст сказал, что папа мог бы сыграть Джиггса — главный персонаж. Папа опять отказался.
Как большинство водевильных актёров средних лет, он смеялся, если кто-нибудь предсказывал, что «скачущие картинки», как их всё ещё называли, скоро заменят водевиль в качестве любимого развлечения в стране. В конце концов, услышав ужасные новости обо мне, он простонал: «Наш Бастер в кино? Я с трудом верю в это».
Мама, не более деликатная к папиным чувствам, чем другие многострадальные жёны, всё же не торопилась рассказывать ему, что я отказался от места в большом бродвейском шоу ради работы в кино.
— Мне не хотелось, чтобы у бедняги пошла пена изо рта, — позже объясняла она.
Добравшись до Нью-Йорка в феврале 1917 года, я пришёл прямо в офис Макса Харта, наиболее влиятельного театрального агента в Нью-Йорке. Я сказал ему, что бросил семейное шоу и хочу некоторое время поработать один.
— Я достану тебе любую работу, какую захочешь, — сказал Харт. Он тут же надел шляпу и повёл меня в офис братьев Шубертов на той же улице. Они набирали новый состав для своего годового ревю «Мимолётное шоу», которое тогда было одним из лучших на Бродвее.
Мистер Харт, немногословный агент, отвёл меня прямо в личный офис Джей Джей Шуберта. Как обычно, Джей Джей отбирал людей с помощью вялого шепелявого джентльмена, которого все называли «Мамаша Симмонс».
— Это Бастер Китон, — сказал им Макс Харт, — возьмите его в своё шоу.
Джей Джей оглядел меня и спросил:
— Вы умеете петь?
— Конечно, умею, — ответил я, хотя это был довольно глупый вопрос. Если мистер Шуберт примет меня, то за мою комедию. И он нанял меня, не попросив спеть и не задавая других вопросов.
«Мимолётное шоу» обычно выступало в Нью-Йорке шесть месяцев, а потом отправлялось в дорогу на оставшиеся полгода. Мою зарплату определили в 250 долларов в неделю за Нью-Йорк и 300 долларов за турне. Через пару дней я получил сценарий ревю.
Но за день-два до начала репетиций я натолкнулся на Лу Энгера, комика-голландца, который много раз выступал с нами в одной водевильной программе. Энгер был вместе с Роско (Фатти) Арбаклом. экранным комиком. Представляя нас, он объяснил, что Арбакл недавно ушёл от Мака Сеннетта[33], чтобы делать свои собственные комедии в двух частях. Джо Скенк их продюсировал, а Энгер только что бросил водевиль и стал менеджером студии Джо.
Я видел некоторые работы Арбакла в комедиях Сеннетта и от души восхищался ими. Он сказал, что много раз смотрел наши выступления и они всегда ему нравились.
— Бастер, ты когда-нибудь снимался в кино? — спросил он. Я ответил, что не снимался, и Роско предложил:
— Почему бы тебе не прийти завтра утром на студию «Колони»? Я там начинаю новый фильм. Ты сыграешь эпизод, и, возможно, тебе понравится.
— Мне бы хотелось попробовать, — сказал я.
Студия «Колони» располагалась в большом складском здании на Восточной 48-й улице. Когда я пришёл, всё гудело от бурной деятельности. Помимо компании Арбакла, в других частях студии делали романтические мелодрамы компании Нормы Толмадж, её сестры Констанс и пары других. Мне это показалось удивительным, как будто я попал на огромную фабрику развлечений, где одновременно выпускались различные шоу.
Двухчастевка, которую Роско начал в тот день, называлась «Ученик мясника» (The Butcher Boy). Действие происходило в провинциальной лавке, и мне досталась роль наивного незнакомца, который просто так зашёл в тот момент, когда Роско и Эл Сент-Джон начали швырять друг в друга мешки с мукой. Как и Арбакл, Сент-Джон был одним из «Кистоун копс»[34] у Сеннетта.
У Роско под рукой были коричневые бумажные мешки, наполненные мукой, завязанные и готовые к употреблению. Он, не теряя времени, подключил меня к работе.
— Как только ты войдёшь в лавку, — объяснил он, — я кину один из этих мешков в Сент-Джона. Он присядет, и ты получишь прямо по лицу».
Это казалось пустяком после взбучек, которые я долгие годы принимал от папы.
— Ужасно трудно не уклониться, если ждёшь, что тебя ударит такая штуковина, — сказал Арбакл, — поэтому, когда войдёшь в дверь, оглянись. Как только я скажу: «Поворачивайся!» — ты повернёшься, а она уже летит в тебя.
Так и было.
Арбакл, весивший 280 фунтов, заслужил репутацию мастера по метанию тортов, пока работал у Сеннетта. В тот день я открыл, что он мог вложить всё сердце и каждую унцию своего веса в швыряние мешков с мукой с безошибочной точностью. В этой штуке оказалось достаточно силы, чтобы полностью перевернуть меня. Мои ноги оказались там, где раньше находилась голова, и без какой-либо моей помощи, а в ноздри и рот набилось столько муки, что хватило бы на один из маминых старомодных пирогов. Я был новичком в бизнесе, поэтому меня вежливо подняли и отряхнули, но свободно дышать я смог только через пятнадцать минут.
По сюжету я должен был купить чёрной патоки на 25 центов. Я принёс с собой оловянную бадью, но, зачерпнув, увидел, что уронил свой четвертак в патоку. Роско, Эл Сент-Джон и я по очереди пытались его достать, и к концу этой работы все трое перемазались с головы до ног. В тот день меня к тому же пригласили быть укушенным собакой. Между этими занятиями я говорил себе, что моя долгая карьера в роли Человека-Швабры оказалась самой подходящей для начала работы актёром кино. И всё в новом деле казалось мне волнующим и удивительным.
Как-то раз мне сказали, что моя первая сцена в «Ученике мясника» по-прежнему единственная комедийная сцена, когда-либо делавшаяся с новичком, которую снимали только один раз. Другими словами: мой дебют в кино был сделан без единого дубля.
Роско — никто из знакомых никогда не называл его Фатти, — разобрал передо мной камеру так, чтобы я понял, как она работает и что может делать. Он показал мне, как проявить плёнку, разрезать, а затем смонтировать. Но величайшим явлением в киносъёмке мне показалось то, что она автоматически убирает физические ограничения театра. Так много можно показать на сцене, только если она огромна, как нью-йоркский ипподром.
У камеры нет ограничений. Её сцена — весь мир. Если вам нужны для фона и декораций города, пустыни, Атлантический океан, Персия или Скалистые горы, вы просто берёте туда свою камеру.
В театре вы должны создавать иллюзию путешествия на корабле, поезде или самолёте. Камера позволяет показывать публике реальные вещи: настоящие поезда, лошадей, фургоны, снежные бури и наводнения. Ничто из того, что вы думаете, чувствуете или видите, не выходит из поля зрения вашей камеры.
То же относится к способам обращения со светом в кино. Тогда ещё не умели так эффективно управляться с искусственным освещением, как сейчас. Зато заставляли солнце «работать» на открытых площадках, на крышах или в студиях, где были огромные стеклянные потолки. Солнце давало драгоценную заднюю подсветку, переменную подсветку, и её усиливали рефлекторами. В театре можно использовать только искусственное освещение, а оно всего лишь даёт эффект света, идущего сверху на определённый участок сцены. И все в кино были согласны, что это только начало!
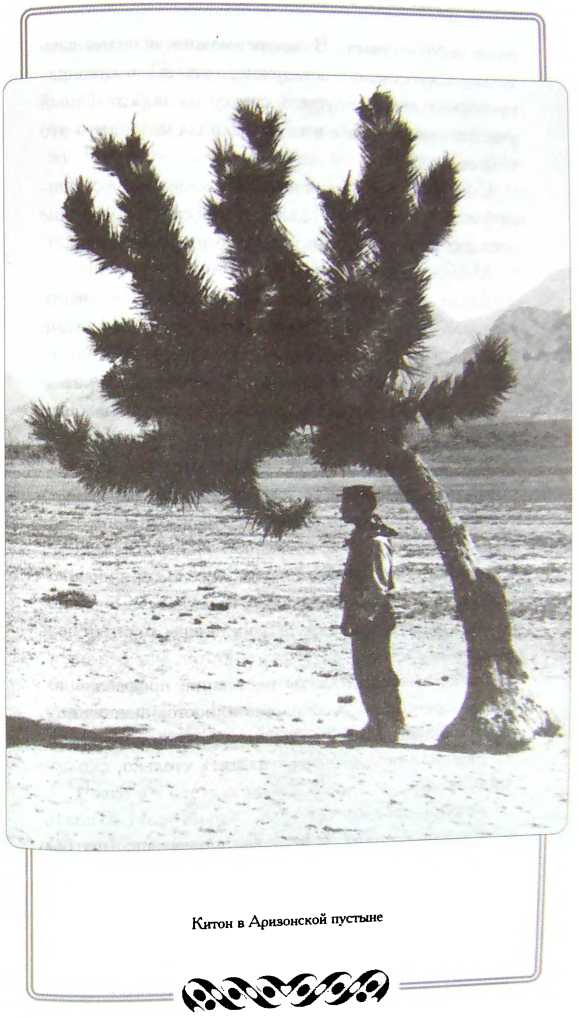
С первого дня у меня не было сомнений, что я полюблю работу в кино. Я даже не спросил, сколько мне заплатят за участие в фарсовых комедиях Арбакла.
Мне было почти всё равно.
Люди, знающие толк в финансовых делах, часто говорили мне, что я распоряжаюсь своими деньгами как тупица. Не сказал бы, что они неправы. Но несмотря на то что всю свою жизнь я занимался самой ненадёжной из профессий, деньги никогда не были важны для меня.
Вполне ясно представляю, что человек может чувствовать себя крайне неудобно, если ему не хватает средств на хорошую еду, крышу над головой и приличную одежду. Но начиная с моих детских лет «Трём Китонам» хватало на всё, чего бы они ни захотели, и ещё немного оставалось. Мы даже смогли положить некоторую сумму в банк на пресловутый чёрный день.
Мне кажется, если ты настоящий профессионал, твоим принципом должна быть постоянная работа. Если сможешь этого придерживаться, твои наниматели рано или поздно начнут платить столько, сколько ты стоишь.
А куда они денутся?
Сказав всё это, я должен признаться, что был очень удивлён, когда в конце моей первой недели в качестве киноактёра обнаружил в конверте всего 40 долларов. Я обратился к Ау Энгеру, и он объяснил, что заплатил мне всё, что позволил ему бюджет. Через шесть недель моя зарплата достигла 75 долларов, а вскоре и 125 в неделю.
Макс Харт, как любой другой театральный агент, был не из тех, кто недооценивает чек на крупную сумму. Но когда я рассказал ему, что хочу уйти из «Мимолётного шоу» с зарплатой 250 долларов в неделю ради работы в кино за 40 долларов, он ответил, что я поступаю очень мудро.
«Изучи всё что можешь в этом деле, Бастер, — говорил он, — чёрт с ними, с деньгами. Кино — вещь многообещающая, поверь мне».
В тот самый день, когда я вошёл в бизнес, где добился своего величайшего успеха, я встретил девушку, позже ставшую моей первой женой. Она пыталась сниматься в эпизодических ролях, но не особенно удачно, а в тот момент работала секретаршей и помощницей Арбакла. Она сразу пленила меня и показалась кроткой, тихой девушкой, очень доброй и полной женственного очарования. Вскоре после нашего первого свидания я встретился с её матерью и остальным семейством. Они были удивительно живыми и весёлыми, с хорошим чувством юмора. Кстати, из-за того, что моё детство прошло на сцене, я никогда не был робким и застенчивым с женщинами. Не могу утверждать, что понимаю их, но, как мне сказали. Сократу, Шопенгауэру и Эйнштейну это тоже не удавалось.
Роско и я сделали только пять или шесть двухчастевок в Нью-Йорке. Затем в октябре 1917-го вся группа отправилась в Голливуд. Моя будущая жена поехала вместе с нами. Как только мы прибыли, я послал за родителями. Джинглс и Луиза, ещё учившиеся в маскигонской школе, присоединились к нам на время летних каникул.
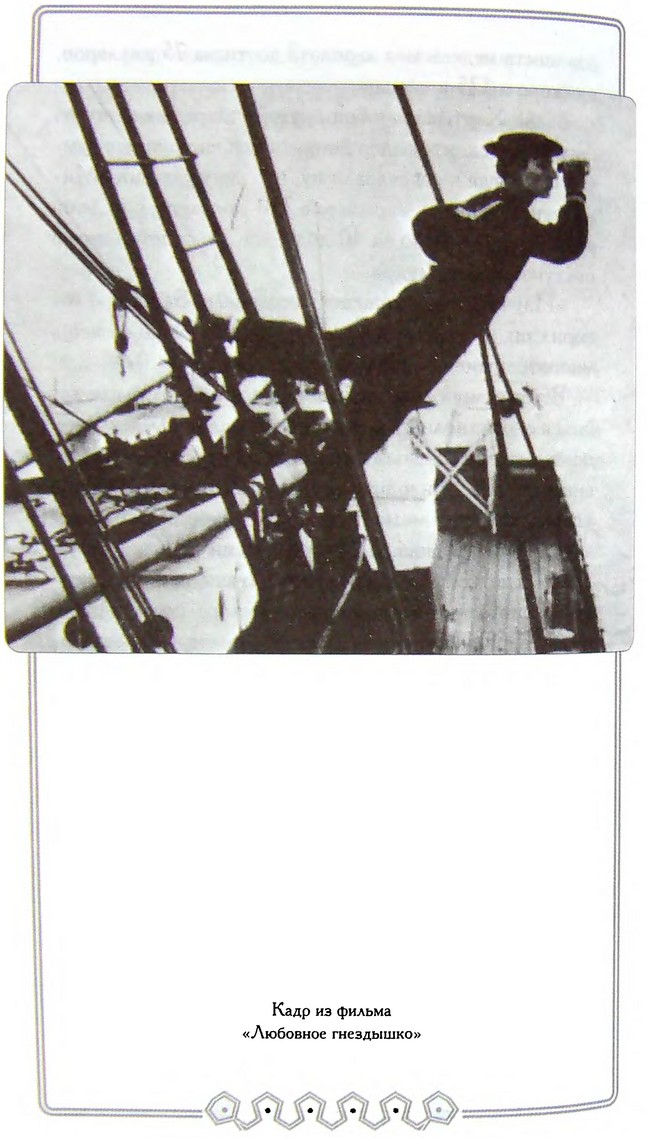
Чем дольше я работал с Роско, тем больше он мне нравился. Я безоговорочно уважал его работу и как актёра, и как режиссёра комедий. Он делал такие падения, на которые другой человек его веса никогда бы не решился, и обладал удивительной способностью придумывать гэги прямо на месте. Роско любил весь мир, и весь мир любил его в те времена. Его актёрская слава росла так быстро, что скоро он уступал только Чарли Чаплину.
Арбакл был необыкновенным, по-настоящему очаровательным толстяком. В нём не было ничего дурного, никакой злобы или зависти. Казалось, всё его забавляет и радует. Он легко давал советы и слишком легко тратил деньги и давал взаймы.
Я не смог бы найти лучшего человека, кто обучил бы меня кинобизнесу, или же более знающего. Мы никогда не спорили, и я могу вспомнить только одну его фразу, с которой не согласился.
«Ты не должен забывать, — сказал он в тот день, — что средний уровень сознания нашей публики — двенадцать лет». Я долго раздумывал над этим, фактически целых три месяца, а затем ответил Роско: «Думаю, тебе лучше забыть идею, что у зрителей мозги двенадцатилетних. По-моему, тот, кто в это верит, не сможет долго продержаться в кино». Я указал, как быстро фильмы совершенствуются технически, а студии всё время предлагают лучшие сценарии, используют лучшее оборудование и нанимают более интеллигентных режиссёров.
«Рождение нации» Гриффита ошеломило тех, кто раньше считал кино не более чем интересной игрушкой. Шедевр Гриффита теперь показывают за два доллара, что не меньше, чем брали в те времена за бродвейские пьесы.
«Кто-то постоянно делает хорошие фильмы, — сказал я, — их придут смотреть люди с сознанием взрослых». Всё обдумав, Арбакл согласился, что я прав. Но замечаю, что низкая оценка сознания публики до сих пор сохранилась в Голливуде. Я иногда думаю: смогло бы телевидение (бесплатное или платное) так быстро догнать и сокрушить киноиндустрию, если бы студийные боссы отвергли этот миф?
Переехав в Голливуд, папа оставался снобом по отношению к кино, но я затащил его поработать в паре арбакловских фильмов. Папины падения потрясли Роско и всех остальных. Трюк, которым папа лишил всех конкурентов дара речи, был таким: он клал одну ногу на стол, затем другую и падал после того, как пару секунд, казалось, сидел на воздухе.
Однажды Роско снимал сцену, в которой папа должен был дать мне пинка. После первого дубля Роско сказал: «Камера снимает не с той стороны. Не могли бы вы пнуть Бастера левой ногой?». Папа проворчал: «Я пинал Бастера в зад почти двенадцать лет, и не надо говорить мне, как это делается». Роско засмеялся и объявил перерыв на обед. Позже, перед началом работы, он переставил камеру на другую сторону площадки так, что папа мог пинать меня в своей традиционной манере.
В июне 1918 года меня призвали в армию Дяди Сэма на Первую мировую войну рядовым пехотинцем за 30 долларов в месяц. Мои заработки на тот момент поднялись до 250 долларов в неделю, и Джо Шенк регулярно посылал моим родителям 25 долларов в неделю всё время, что я был в армии.
Моя будущая жена уехала обратно в Нью-Йорк, родители вернулись в Маскигон, где папа быстро получил работу на военном заводе, выпускавшем корпуса для снарядов. Невзирая на то что я был пехотинцем, папа писал мелом на каждом сделанном им снаряде: «Задай им жару, Бастер!»
Нашей частью была 40-я дивизия, прозванная «Солнечной». Меня направили в лагерь Кирни под Сан-Диего, где я прошёл кратчайшую в истории американских войск подготовку новобранцев. После пары дней в карантине мне сделали прививки в двойных дозах. Все говорили, что нас отправят во Францию, как только наладят транспорт. Они не шутили. У меня было всего лишь десять дней муштры во взводе для новобранцев, которых мне хватило, чтобы освоить команды: «Смирно!», «Стой!» и «Вперёд марш!». Всё это с руками, онемевшими от мощных инъекций.
Затем меня отправили в постоянный взвод. Мои дела могли пойти хорошо, если бы один импульсивный офицер не дал команду, которой я никогда не слышал. Она звучала так: «Кругом марш!». Я шагнул вперёд, а все остальные повернулись и пошли назад. Меня тут же ударил в подбородок и нокаутировал чей-то приклад. Я не терял сознания, но с таким же успехом мог бы и потерять, потому что был не в силах подняться. Пока я лежал в обалделом состоянии, мои братья по оружию, мои дорогие товарищи должны были перепрыгивать через меня или отступать в сторону, чтобы не задеть ногами.
Не понимая, что вызвало все эти прыжки и отступания в сторону, несколько офицеров подбежали сбоку к нашей роте. Только наклонившись и заглянув через ноги солдат, они обнаружили мою маленькую скорчившуюся фигурку.
«Рота, стой!» — закричал самый расторопный из офицеров. Они поставили меня на ноги и спросили: «Ушиблись?» Ушибся! Я был далеко отсюда. Мне показалось, что я ранен и пал в бою с немецкой армией. «Мы победили?» — спросил я. Спросил со всей серьёзностью, но никто этого не понял, и все расхохотались — явление, которое часто даёт человеку незаслуженную репутацию остряка.
Я ничуть не забавлялся, видя, как фарс вливается в мою новую армейскую жизнь. Я воспринимал службу достаточно серьёзно, регулярно штудировал азбуку Морзе, осваивал чтение карт и семафорные сигналы. В конце концов я обнаружил, что оказался самым образованным солдатом в своей части. Фактически за всё время службы я не встретил ни одного завербованного, включая тех, кто присоединился во время испано-американской войны, которые бросили бы больше одного случайного взгляда в армейские учебники.
Нас отправили на Запад, разместили в лагере Аптон, Лонг-Айленд, и продержали там три дня и три ночи, пока шла подготовка к заморской службе. Кроме того, нам делали добавочные медицинские уколы.
У меня не всегда получалось воспринимать эту войну серьёзно. Во-первых, я не мог понять, почему мы, французы и англичане сражались с немцами и австрийцами. Жизнь, проведённая в водевиле, сделала меня интернационалистом. Я встречал слишком много доброжелательных немецких артистов — певцов, акробатов и музыкантов, чтобы поверить, что они могут быть такими злодеями, как их изображали в наших газетах.
Зная немцев, японских жонглёров, китайских фокусников, итальянских теноров, шведов, поющих йодлем и играющих на колокольчиках, ирландских, еврейских и голландских комиков, британских танцоров и вертящихся дервишей из Индии, я считал, что люди во всём мире примерно одинаковые. Не как индивидуальности, конечно, а в целом как группы.
Я к тому же ненавидел свою военную форму, из-за которой выглядел и чувствовал себя смешным. Очевидно, генерал по снабжению никак не ожидал, что человеку ростом 5 футов и 5 дюймов позволят служить в американской армии. Мои штаны были слишком длинными, китель сидел мешком, а трюк с ножными обмотками я так и не освоил. Ботинки восьмого размера, выданные мне, были гораздо больше моей ноги шестого с половиной размера. Из них к тому же торчали гвозди. А кожа, из которой они были сделаны, оказались жёсткой, как шкура носорога. Старожилы в нашей части давно потеряли надежду получить подходящую форму. Они перешивали её у гражданских портных и покупали прочные рабочие ботинки, которые умудрялись достаточно замаскировать, чтобы пройти проверку.
Всё это может объяснить, почему я пару раз забывал о намерении стать хорошим маленьким солдатом. Первое из этих прегрешений произошло в тот день, когда я позвонил своей девушке и она приехала увидеться со мной в лагерь Аптон.
Она прибыла в наш «Гостиный двор» около часу дня на огромном «паккарде», принадлежавшем её семье. У «паккарда» был откидной верх, а за рулём сидел шофёр в ливрее. Моя девушка выглядела ослепительно. «Паккард» тоже. Это сочетание подсказало мне идею. Мы, ничтожные новобранцы, не имели права выходить за пределы лагеря, а наши офицеры имели. В Аптоне стояла жара, и эти высокопоставленные особы не носили кителей, а их рубашки цвета хаки с чёрными трикотажными галстуками выглядели в точности как наши.
Мне казалось, что если я поеду из лагеря со своей девушкой и на такой изумительной машине, то легко смогу миновать часовых. В конце концов, на мне не будет фуражки рядового и безразмерного кителя. Если часовой не заглянет внутрь машины, он никогда не увидит мои мешковатые штаны и неуклюжие ботинки с гвоздями.
Я собирался салютовать часовым так же небрежно, как наши офицеры. Когда рядовой отдавал честь, особенно если он был новобранцем, он делал левую руку дощечкой и резко подносил ко лбу, держа её так, пока офицер не ответит, а затем отдёргивал её назад и прижимал к боку. Офицеры (и профессиональные солдаты-ветераны) не фиксировали руку, пока она не поднималась почти до левой брови. Они не отдёргивали её обратно, а позволяли свободно опуститься.
Если я мог имитировать Гудини, китайский язык и папу на сцене, то подумал, что смогу проскочить, изобразив часовому офицерский салют.
Я спросил у своей девушки, есть ли рядом с Аптоном какое-нибудь место, где можно повеселиться. Она сказала, что мы недалеко от Лонг-Бич; я сел в машину, и мы поехали.
Всё прошло как надо. Внутренний часовой, а потом и наружный чётко салютовали мне, пока мы проезжали ворота, и я отвечал им томным и снисходительным офицерским салютом.
В те дни Лонг-Бич всё ещё оставался фешенебельным морским курортом. Там было чудесное заведение с хорошей едой и танцами — «Воздушные замки», одно из многих предприятий, начатых покойным Верноном Каслом и его женой Ирен на пике их сказочно успешной танцевальной карьеры.
Не могу отрицать, что чувствовал себя весьма по-идиотски, входя в этот импозантный закусочно-танцевальный дворец в мешковатых штанах и неуклюжих ботинках. Но мы великолепно провели время. Это было наслаждение: есть нормальную еду вместо армейской жратвы и пить кофе, похожий на кофе. В тот день мы пробыли вместе восемь или десять удивительных часов. Моя девушка оплатила счёт, потому что у меня не хватило денег, и мы поехали обратно в Аптон, где наружный и внутренний часовые с готовностью отсалютовали мне.
Через день или два мы погрузились на транспорт. Скажу, что раньше я путешествовал более комфортабельно. Мы спали в гамаках по три в ряд, висевших в четыре яруса один над другим. Вши, с которыми мы так близко сошлись позже, уже были на борту.
Нас высадили в английском порту, который по-прежнему засекречен со времён Первой мировой, насколько я знаю. Оттуда пришли пешком в нечто, называемое англичанами «лагерь для отдыха», — их величайшая ошибка с тех пор, как доктор Джекилл превратился в мистера Хайда.
Через два дня нас перевели в другой лагерь для отдыха. В обоих лагерях англичане кормили нас одной и той же дрянью три раза в день. Проблема была в том. что поначалу она нам не нравилась. Еда состояла из кусочка жёлтого сыра размером в две кости домино, одного сухаря и чашки чая без сахара, лимона или молока. Пробыв день во втором лагере, мы погрузились на транспорт, переправивший нас через Ла-Манш в милую Францию, всегда такую радостную, если не идёт война.
Пароход был так переполнен, что мы пересекали Ла-Манш стоя. Там была комната, где можно сидеть, но и её занимали солдаты, которые тоже ехали стоя.
Высадившись, мы прошли восемь миль до другого лагеря. В ту войну я заметил одно свойство французской местности, которое так и не смог объяснить. Куда бы мы ни шли во Франции, казалось, что идём в гору, и так было, когда мы уходили из лагеря и когда возвращались обратно. Ходьба в огромных ботинках с торчащими гвоздями может воздействовать на человеческий мозг гораздо сильнее, чем думают физиологи.
Во французском лагере для отдыха мы спали под круглыми тентами ногами к центру, а головой поближе к сквознякам из огромных дверей. Нам велели не распаковывать мешки, а только достать одеяла. Считалось, что так мы быстрее доберёмся до убежища в случае воздушного налёта. Это было началом испытания, которое я никогда не забуду.
Семь месяцев, что я был солдатом во Франции, все ночи, за исключением одной, приходилось спать на земле или на полу сараев, мельниц и конюшен. В этих постройках ближе к полу всегда сильный сквозняк, и вскоре я почувствовал, что от холода у меня портится слух. На той войне, кроме дождя и грязи, мы мало что видели, но не по этой причине я помню так ясно первый день, когда светило солнце.
В тот день у дороги я нашёл ежевику и собирал её, взобравшись на низкую каменную стену. Стоя наклонившись, я почувствовал, что кто-то находится у меня за спиной. Не разгибаясь, я взглянул между своих ног и увидел кожаные краги офицера и конец его короткой щегольской трости. Это был майор. Я выпрямился, повернулся и встал по стойке «смирно».
«Отставить!» — сказал майор. Меня учили, что после «отставить" я должен немедленно возобновить то, что делал до команды «смирно». Раз я склонившись, собирал ежевику, прежде чем меня прервал майор, то и вернулся к этому занятию. Мне не пришло в голову, что лишённый воображения майор не станет дожидаться, пока мой зад окажется у него перед лицом. Вместо того чтобы сказать что-нибудь остроумное, он ударил меня по спине тростью. Я потерял равновесие и упал головой вперёд в ежевичные кусты и ещё не поднялся, как он пошёл дальше. Я закричал ему вслед: «Надеюсь, вы проиграете свою войну!» Он шёл, пошевеливая плечами, — наверное, забавлялся. Однако он не вернулся, и я мог спокойно есть эту дикую французскую ежевику.
Неважно, какими усталыми и грязными мы были, неважно, что некоторые из нас жаловались, — всегда находились ребята, сохранявшие чувство юмора. Помню, однажды наша толпа вывалилась из переполненного поезда. Мы были грязные до омерзения, и вши поедали нас заживо. Один приятель, моясь, с лицом, залепленным мыльной пеной, прокричал: «Рожать, наверное, очень больно, но если в глазах армейское мыло — это ад!».
Армия не торопилась отдавать нам хотя бы часть нашей месячной тридцатидолларовой платы. Без сомнений, генерал Першинг не хотел, чтобы мы потратили её на разгульную жизнь. Пока не наступил день первой получки, мы думали только о еде. потому что нас не кормили ничем, кроме армейского пайка: бобов, консервированной солонины и горячительных напитков загадочного происхождения. В тот первый день получки мы, позвякивая франками в карманах, бросились добывать всю еду, какая могла поместиться в наших животах.
Паёк пробудил долго дремавшую предприимчивую сторону моего характера. За несколько недель до того мы с другом выторговали у хозяина ближайшей французской таверны право на две тарелки с бифштексом и жареной картошкой. С тех пор вкус этого будущего бифштекса снился нам каждую ночь. Но он должен был стать всего лишь частью нашего большого застолья. Получив деньги, мы ходили с одной фермы на другую и скупали яйца. Одно яйцо стоило франк, а франк равнялся 20 центам. Но мы не остановились, пока не собрали 22 яйца. Потом отнесли их в таверну и попросили хозяина сделать гигантский омлет, который съели в дополнение к бифштексу с жареной картошкой. Мясо было около четверти дюйма толщиной, но на вкус лучше всех «шатобрианов», которые я ел позже.
После перемирия нас отправили на пароходах из Амьена в маленький город недалеко от Бордо. В этом городе с населением 12 000 человек, кроме нашей пехотной дивизии, расквартировались две другие: сапёрная и пулемётная. Всего собралось 45 000 американских солдат. Там мы месяцами ждали отправки домой и снова были вынуждены спать на земле или на полу сараев, мельниц и подвалов.
Мы организовали несколько зрелищ с помощью полкового оркестра. Я делал пародию на змеиный танец[35] и другие номера в этих наспех сколоченных шоу.
Однажды офицер зачитал мне штабную директиву, которая предписывала, чтобы я исполнил змеиный танец на обеде в честь бригадного генерала в его штабе за десять миль отсюда.
Мне пришлось идти туда пешком. Я закончил выступление, и лейтенант спросил, как я собираюсь возвращаться в город. Услышав, что пешком, он сумел одолжить у генерала его казённую машину для меня.
Должен сказать, что все эти ночёвки па земле не улучшили мою внешность. Мои брюки, по-прежнему слишком длинные, отвисли на заду, а на обмотках было полно складок. Некогда изящная фуражка съёжилась от дождей. К несчастью, ботинки восьмого размера на моих ногах шестого с половиной размера совсем не съёжились, и теперь поверх сапожных гвоздей на них были подковы.
На дверцах машины, конечно же, были генеральские знаки, и американский флаг гордо реял над ней. Это подало мне идею. Если бы генеральский ординарец, который вёл машину, посодействовал мне, я мог бы сделать сюрприз своим товарищам, собравшимся в тот вечер на городской площади. Они все решили там быть.
Только что прошёл очередной день получки, а это значило, что каждый, кто не покалечен, придёт туда петь песни, пить доброе французское вино прямо из бутылки и целовать всех девушек, оказавшихся на целовальном расстоянии.
Ординарец согласился помочь, так что я разместился на заднем сиденье, опустил шторы на боковых окнах и попросил ехать к отелю «Гранд». Кроме ратуши, это было самое лучшее здание на площади. Никто из пирующих рядовых, капралов, сержантов и молодых офицеров не видел генерала шесть месяцев, и все они повскакивали, когда машина остановилась перед отелем. Ординарец вышел и помчался вокруг машины открывать для меня заднюю дверцу. На площади раздался стук падающих бутылок, когда рядовые и офицеры подпрыгнули и вытянулись по стойке «смирно».
«Мой» ординарец тоже встал по стойке «смирно», едва я вышел из машины в своей пыльной и мятой форме. Я сказал через плечо: «Сегодня вечером вы мне больше не понадобитесь». Мне дали спокойно пройти около пятнадцати футов, а затем вся банда узнала меня и разразилась проклятиями. Полетели бутылки, помидоры, яблоки и яйца.
«Сукин сын!» — неслось из сотен пересохших глоток. Я кинулся в ближайшую аллею и благодаря тяжёлым сценическим тренировкам развил скорость, которой хватило, чтобы выбежать из города, а потом всю ночь мирно проспал в сарае. С первым лучом зари я прокрался обратно, но сержант засёк меня: «Капитан хочет видеть вас, капрал».
Я не знал, чего хочет мой капитан, но очень хорошо знал, что он вызывает меня не для повышения или награды. Но когда я пришёл в его офис, он сказал: «Вчера вечером вы устроили два отличных шоу. Второе мне понравилось больше. Думаю, что мог бы предать вас военному суду, но вы, несомненно, оживили старую площадь, не говоря о том, что напугали до полусмерти моих молодых офицеров, которые подумали, что вляпались в неожиданную проверку. Мы не дадим им стать слишком самодовольными, правда, капрал?»
Я согласился, что не дадим.
Позже меня приписали к поезду, который вёз около 900 раненых в распределительный центр у Ла-Манша. Я был единственным недемобилизованным в этой поездке. Работа оказалась сложной. Мы должны были достать для раненых амуницию и пайки и разместить больше сорока этих бедняг в 22 товарных вагона.
На обратном пути нам следовало сделать в Париже пересадку на поезд в Бордо, но мы предпочли опоздать на него и остаться на ночь в Париже. Это выходило за рамки задания и фактически означало самовольную отлучку, но к тому же это означало, что целую ночь мы будем спать в кроватях и сможем насладиться настоящим обедом. Для мира у меня было 35 франков.
А сейчас я на некоторое время вернусь к случаю, происшедшему незадолго до того, как меня призвали в армию. Какое-то время Роско, Элу Сент-Джону и мне надоедал своей манерностью один изнеженный Ромео. Он ухаживал за красавицей Анитой Кинг, снимавшейся в фильме на соседней площадке.
Этот недоумок держал её пальто и бросался открывать перед ней дверь; целовал ей руку и поднимал перчатку, как будто она делала ему одолжение, роняя её. Нечего говорить, мы считали всё это тошнотворным.
Однажды я заметил, что этот придурок наблюдает, как мы начали сцену, в которой Роско кидал тортом в Эла, и я, стоявший позади него, принимал торт прямо на лицо. Конечно, не составило труда сделать так, чтобы Анитин слабоутиный рукоцелователь оказался позади меня. Всё, что я сделал, — тоже присел, и жеманный Ромео получил тортом прямо в свой подобострастный рот.
Мы все трое подбежали с громкими извинениями. Притворяясь, что помогаем счистить месиво с его костюма, мы постарались размазать его чуть шире. Он что-то подозревал, но был вынужден поверить нам на слово, будто всё произошло случайно.
В великий вечер в Париже в середине застолья этот человечек, теперь майор, вошёл в ресторан важной походкой. Мы встали по стойке «смирно». Я посмотрел на него и в тот момент, как он сказал «вольно», выбежал через заднюю дверь. Если бы он узнал меня и стал задавать вопросы, то мог бы отдать меня под суд за самовольную отлучку.
К тому времени я почти полностью оглох из-за того, что каждую ночь спал на сквозняках. За месяц до отправки за океан командирам приходилось во весь голос выкрикивать для меня приказы. Однажды поздней ночью я чудом избежал смерти, возвращаясь с карточной игры. Меня окликнул часовой, но я не слышал, как он спрашивал пароль и делал два предупреждения. Затем он передёрнул затвор, готовясь стрелять. Мою жизнь спасло шестое чувство, позволившее услышать этот щелчок и резко остановиться. Выругав меня, часовой выслушал мои объяснения и помог пройти через второй пост.
С того дня боязнь потерять слух постоянно сводила меня с ума. По возвращении в Нью-Йорк меня отправили в госпиталь, который раньше был универмагом Сигела и Купера. Врачи сказали, что я должен остаться на обследование, но заверили, что правильное лечение восстановит мой слух.
Я молился, чтобы они не ошиблись.
Я позвонил домой своей девушке, как только смог добраться до телефона. Офис Джо Шенка был рядом с госпиталем, и она попросила его прийти ко мне. Увидев меня, Джо чуть не расплакался. «Ты выглядишь ужасно потрёпанным, Бастер, — сказал он, — ты так похудел. Я никогда не видел тебя таким больным и жалким».
«Почему бы мне не выглядеть жалким, если красота моя ушла безвозвратно?» — спросил я. Но в тот день я не морочил Джо Шенка остротами. «Ну конечно, у тебя нет денег», — сказал он и дал мне из своего кошелька все деньги, какие там были.
Первым делом я купил приличную военную форму и ботинки нужного размера. Я надел это в первый вечер, когда пришёл обедать к моей девушке и её матери в их апартаменты на Парк-авеню.
Через некоторое время армия отправила меня в госпиталь Джона Хопкинса в Балтиморе на обследование. Доктора обнаружили, что моё здоровье и слух улучшились, и продержали там всего три дня.
Живя в Нью-Йорке, я не мог поверить, что действительно вернулся домой. В один день в Балтиморе врачи позволили мне выйти погулять, и я направился прямо в местный театр Кейта, где в старые времена мы с мамой и папой выступали множество раз.
Я прошёл через дверь позади сцены, и менеджер, музыканты, рабочие и актёры приветствовали меня как давно потерянного старого друга. И тут я понял, что наконец-то дома, в безопасности. В программе был один из моих лучших друзей — Арти Мелингер, певец. Я стоял в кулисах и смотрел его номер «Степ, Мелингер и Кинг», всем сердцем надеясь, что никогда больше не покину шоу-бизнес и его искромётных и радостных талантливых людей.
Набравшись достаточно сил для путешествий, я не мог дождаться возвращения в Калифорнию к работе. Меня призвали на службу в лагерь Кирни, и там же я должен был демобилизоваться. Но клерк ошибся. Он отправил меня в лагерь Кастер, Мичиган, потому что я назвал Маскигон в Мичигане своим домом.
Нечего говорить, в Кастере был большой переполох, но клерк любезно оплатил мне дорогу до Лос-Анджелеса. Ошибка позволила увидеться с родителями и старыми соседями, но я так рвался работать, что пробыл в Маскигоне всего три дня.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Способ передвижения
Способ передвижения Я вернул корову хозяевам и сказал, что пасти ее больше не буду. Но без работы я не остался, опять приступил к обязанностям няньки. Когда Фаина была здорова, я возил ее в детский сад на пятнадцатый поселок за несколько километров от нас. Когда она болела,
ГЛАВА I. Как попасть на Эверест
ГЛАВА I. Как попасть на Эверест 18. Гора Рейир (4392 м) — затухший вулкан рядом с Тихим океаном. Здесь состоялось первое совместное восхождение альпинистов трех странВ конце 1988 года в Одессу позвонил гостренер Владимир Шатаев и сообщил нам сногсшибательную весть: я и
КАК ПОПАСТЬ ЗА КУЛИСЫ К ЛЕОНИДУ УТЕСОВУ
КАК ПОПАСТЬ ЗА КУЛИСЫ К ЛЕОНИДУ УТЕСОВУ Мы приехали в Москву «Красной стрелой» в восемь тридцать декабрьским утром. Адрес у меня был: Лаврушинский переулок, 17. Это было удобно, пока дойдем, люди проснутся, и мы никого не разбудим. Шли мы к Вячеславу Всеволодовичу Иванову —
— 1969 год, я остаюсь один, почти один -
— 1969 год, я остаюсь один, почти один - "…ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный…"(Книга Песни Песней Соломона, 8).Может быть тогда, в праистории так и было. Только ревность переживает и саму
Как попасть на радио
Как попасть на радио Невероятный Жан — Жак! Я любил тебя, и бурный характер наших отношений не помешал взаимной симпатии с годами превратиться в настоящую дружбу Ты не желал ничего слышать об Азнавуре, но, на самом деле, ты его никогда не слушал. Просто не открыл его для
Эпилог Один ребенок, один учитель, один учебник, одна ручка…
Эпилог Один ребенок, один учитель, один учебник, одна ручка… Бирмингем, август 2013 годаВ марте наша семья переехала из квартиры в центре Бирмингема в арендованный для нас особняк на тихой зеленой улице. Но все мы чувствуем, что это наше временное пристанище. Наш дом
Из театра – в кино, из кино – в театр
Из театра – в кино, из кино – в театр Невероятный Иннокентий МихайловичВот собрался писать о кино, а ушел куда-то в другую сторону, в поток обыденности. В сущности, я человек достаточно постоянный. В любви, в привычках, в укладе жизни. Да внутри этой постоянности всегда ищу
Хочу попасть в «Адскую кухню»
Хочу попасть в «Адскую кухню» 5 сентября 2011, 9:05 утраВчера уже начались занятия поварских курсов в Москве. На эту дату я не попал. Машина так и не продана, пока покупатели ездят и смотрят. Жду.Жаль, конечно, что так не быстро все происходит… На днях смотрел телевизор и
«ПОПАСТЬ В СЕТКУ» В ПЕРЕВОДЕ С ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЯЗЫКА «СХВАТИТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ»
«ПОПАСТЬ В СЕТКУ» В ПЕРЕВОДЕ С ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЯЗЫКА «СХВАТИТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ» С момента основания Общественного Российского телевидения (ОРТ) главным для всех, кто работает в «Останкино», стала борьба за то, чтобы попасть в «сетку».«Сетка» — это модель еженедельной
Кино большое – кино маленькое
Кино большое – кино маленькое Однажды меня пригласили в партком «Ленфильма». Парторгом на студии была в то время Ада Алексеевна Лубянцева. Она выполняла свои обязанности бодро-весело. Из всех видов партийной деятельности она предпочитала дальние и долгие выезды в
Кино большое — кино маленькое
Кино большое — кино маленькое Однажды меня пригласили в партком «Ленфильма». Парторгом на студии была в то время Ада Алексеевна Лубянцева. Она выполняла свои обязанности бодро-весело. Из всех видов партийной деятельности она предпочитала дальние и долгие выезды в
ПОПЫТКА ПОПАСТЬ НА АМУР СО СТОРОНЫ БАЙКАЛА
ПОПЫТКА ПОПАСТЬ НА АМУР СО СТОРОНЫ БАЙКАЛА Ко времени прибытия в зейское устье Хабаров еще не знал, что его экспедиция показала пример администрации Енисейска, которая активизировала попытки поисков подходящих путей на Амур со стороны Байкала.В 1650 г. через Енисейск в
Глава 13 Поэзия как способ жить и как способ умереть
Глава 13 Поэзия как способ жить и как способ умереть Быть невеждой значит любить. Ф. Пессоа …Мои мечты печальны только потому, что это мечты, а не жизнь. Ф. Пессоа Божидар Божилов, завотделом поэзии в газете «Литературен фронт» и председатель секции поэтов в Союзе