В СТОЛИЦЕ МИРА
В СТОЛИЦЕ МИРА
Сижу я сейчас на четвертом этаже дома в Ист-Сайде — это в Нью-Йорке, Столице мира. Передо мной табель с моими оценками за последние тридцать лет — вот он висит на стене с моей подписью. Я смотрю на отметки, высокие, низкие, и думаю о себе как об азартном игроке, который одолжил у меня так много денег, что не в состоянии вернуть долг: я не мог ничего поделать. Я уже вспоминал о преподавателе в Чикагском университете, который был настолько талантлив, что не смог найти издателя для своей самой смелой книги и совершил самоубийство. Я не показал, насколько он был талантлив. Решившись привести его в пример, я колеблюсь, и не только потому, что от меня зависит его репутация. Все нужные и полезные мысли, которые я от него услышал, были сформулированы просто и ясно. Из опыта общения с литературными критиками и академиками этой страны я знаю, что ясность изложения они считают ленью, невежеством, характерными для детских книг и дешевых романов. Если идею легко понять, они воспринимают ее как нечто им уже хорошо известное.
То же касается и художественного эксперимента. Если результат положительный и его легко и приятно читать, значит, экспериментатор схалтурил. Единственная возможность заслужить звание бесстрашного экспериментатора — терпеть неудачу за неудачей.
Однажды на какой-то из вечеринок музыкальный критик решил развлечь присутствующих, зачитав список классических композиторов прошлого. Никто из нас не слышал этих имен, но критик сказал, что в свое время они считались величайшими композиторами эпохи. Все они были современниками Бетховена, Брамса, Вагнера, они писали музыку для больших симфонических оркестров.
Мы спросили, почему в наши дни их музыка не ценится. Он ответил, что прослушал множество произведений забытых композиторов и может сказать про них только одно: «Сплошной замах». Он имел в виду, что в них делались музыкальные намеки на гениальные темы, которые непременно последуют, — эдакие музыкальные обещания, одно за другим… и ничего кроме. Современники ценили композиторов за великолепие обещаний, которые те не могли сдержать. Может, сами обещания были такие, что выполнить их не смог бы и архангел.
Мне кажется, что внушительные литературные репутации некоторых моих современников основаны на точно таких же обещаниях.
Вот пример таланта моего преподавателя.
Используя сократовский метод, он спросил свою маленькую аудиторию: «Что делает художник? Скульптор, писатель, живописец…»
У него уже был ответ, внесенный в рукопись той самой книжки, которая так и не была издана. Но он не раскрывал нам его и был готов вычеркнуть совсем, если наши ответы окажутся ближе к истине. На его лекции присутствовали сплошь ветераны Второй мировой войны. Было лето. Нас собрали вместе, чтобы мы могли получать государственное пособие, пока остальные студенты отдыхали.
Я не знаю, понравились ли ему наши ответы. Его собственный ответ гласил:
— Художник говорит: «Я ничего не могу поделать с окружающим хаосом, но я по крайней мере могу привести в порядок этот кусок холста, лист бумаги, обломок камня».
Это и так все знают.
Большую часть своей взрослой жизни я пытался привести в порядок листы бумаги в восемь с половиной дюймов шириной и одиннадцать дюймов длиной. Эта крайне ограниченная активность позволила мне не замечать множества бурь вокруг меня. Она также стала причиной множества бурь, которых я не замечал. Близких часто раздражало, что я уделяю бумаге гораздо больше внимания, чем живым людям.
Я могу ответить, что успех любого начинания зависит от полной сосредоточенности. Спросите любого великого атлета.
Или, говоря иными словами, я не считаю, что умею правильно жить, поэтому прячусь в раковину своей профессии.
Я знаю, что Далила сделала с Самсоном, чтобы лишить его силы. Она не состригла его волосы. Только лишила его способности сосредоточиться.
Лет девять назад меня попросили выступить на собрании Американского института искусств и литературы. Тогда я не был членом этой организации и жутко нервничал. Я ушел из дома и большую часть времени пересчитывал цветы на стене и смотрел фильмы про кенгуру в своей маленькой квартирке на 44-й Ист-стрит. Старый друг с игровой зависимостью только что обнулил мой банковский счет, а в Британской Колумбии мой сын сошел с ума.
Я умолял жену не приезжать, потому что и так был не в своей тарелке. Я просил и женщину, с которой у меня были близкие отношения, не приезжать, по той же причине. В итоге приехали они обе, нарядившись для торжественной казни.
Что меня спасло? Листы бумаги в восемь с половиной дюймов шириной и одиннадцать дюймов длиной.
Мне жаль людей, не умеющих приводить в порядок свои дела. Очень многим охота заниматься кино или телевидением. Главное мое возражение против кино-и телеискусства — их дороговизна. Режиссер похож на Бенвенуто Челлини, легендарного ювелира. Тот тоже работал с баснословно дорогим сырьем — серебром, золотом и платиной.
Дом, в котором я рос, был спроектирован и построен моим отцом в 1922-м — в год моего рождения. Это был дом-музей, полный сокровищ, предполагалось, что его унаследует мой брат, моя сестра или я сам. Мне не хотелось бы там жить. Семь лет мы прожили в эдвардианском доме, в эдвардианском стиле. Это ведь не так много. Для моих родителей, больших любителей музыки, все выглядело так, словно оркестр сыграл семь первых тактов бравурной симфонии, а потом собрал инструменты и разошелся по домам.
Дом, в котором я живу сейчас, был построен в этом оживленном порту коммерческим застройщиком Л. С. Бруксом в начале 1860-х, перед самой войной Севера и Юга. В духовном смысле этот дом не имеет ко мне отношения, потому что Брукс строил его не для кого-то конкретного, по единому проекту.
Первым человеком, которому захотелось тут поселиться (только раку-отшельнику может понравиться пустая раковина), был другой немец, Фердинанд Трауд. Он возглавлял Немецкую общедоступную школу в доме № 142 по 4-й Ист-стрит.
Семья Трауд съехала в 1875-м, вместо нее поселился брокер Джулиус Бруно, которого в 1887 году сменил Питер Гетц. Гетц уехал в 1891 году, освободив квартиру для Луизы Герлах, и так далее.
Я купил дом восемь лет назад у Роберта Готтлиба, главного редактора издательства «Альфред А. Кнопф», который переехал в дом напротив. А тут поселились я и Джилл Кременц, которая стала моей женой.
На первом этаже занимается своим фотографическим бизнесом Джилл. На последнем занимаюсь своим писательским бизнесом я. Два этажа между ними — общие.
Люди этого города были добры ко мне, хотя я и родился далеко отсюда. Они всегда рады тем, кто что-то смыслит в искусстве, а у меня время от времени получались неплохие романы.
Самым приятным проявлением их доброты стало приглашение из епископальной церкви Святого Климента, прихода, который посещает много актеров. Мне предстояло прочесть проповедь на Вербное воскресенье 1980 года. В этой церкви, которая одновременно является театром, есть обычай — раз в год звать проповедника со стороны.
Престол у них переносной, потому что алтарь церкви одновременно является сценой. Пьес, которые в качестве декорации используют стоящий посреди сцены престол, не так много. Так вот, в то утро престол пришлось на время выкатить в декорацию, изображавшую кухню в многоквартирном доме на Манхэттене.
Я не знал, что это за декорации, для какого спектакля. И не спрашивал. Судя по антуражу, действие происходило лет шестьдесят назад, до моего рождения. Предполагал, что пьеса рассказывала об иммигрантах, приехавших в Нью-Йорк из Европы, об их детях. Как потомку иммигрантов, поселившихся в глубине материка, иммигрантов, о которых ньюйоркцы не знают почти ничего и предполагают самое худшее, такое окружение доставило мне особое удовольствие.
Вот что я сказал в тот день:
Меня завораживает Нагорная проповедь. Милосердие, по-моему, единственная стоящая идея, которая у нас есть на сегодняшний день. Может, когда-нибудь у нас образуется другая идея, сравнимая с этой, — и тогда у нас будут две хорошие идеи. Какой может быть вторая хорошая идея? Не знаю. Откуда мне знать? Может быть, она как-то будет связана с музыкой. Я часто думаю, что такое музыка и почему она нам так нравится. Может быть, именно музыка даст нам вторую хорошую идею?
Для проповеди я выбрал первые восемь стихов двенадцатой главы Евангелия от Иоанна, речь в которой идет не о самом Вербном воскресенье, а о вечере перед ним, о кануне Вербного воскресенья, можно сказать «Нардовой субботе». Надеюсь, что это достаточно близко к Вербному воскресенью, чтобы вы не сильно на меня обижались. Я обратился к епископальному священнику за советом, что вам сказать о самом Вербном воскресенье, то есть о въезде Христа в Иерусалим. Она предложила сказать, что это была блестящая сатира на помпезность, пышные приемы и высокие почести нашего мира. Так я и поступил.
Ее зовут Кэрол Андерсон, и она продала физическое здание своей церкви, чтобы сохранить духовный приход. Это недалеко от Бродвея, приход Всех Ангелов, 18-я Уэст. Она продала церковь, но сохранила приходской дом. Полагаю, что большинство ангелов, если не все, никуда не делись.
Теперь насчет стихов о кануне Вербного воскресенья: я выбрал именно их, поскольку в восьмом стихе Иисус говорит знаменательную фразу. Многие мои знакомые сочли ее доказательством того, что Иисуса время от времени доставали люди, которым постоянно требовалось милосердие. Я выбрал исправленный стандартный перевод[21], а не Библию короля Якова, поскольку мне легче его понимать. Кроме того, я постараюсь доказать, что Иисус шутил, а на английском времен короля Якова шутить невозможно. Самая смешная шутка в мире, пересказанная языком Библии короля Якова, неминуемо будет звучать, как Чарльтон Хестон.
Так вот.
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
— Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
— Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
Вот весь отрывок. Хотя я вам и пообещал шутку в конце, хихикать тут вроде не над чем. Из последних фраз можно сделать два весьма неприятных вывода: что Иисус имел склонность жалеть себя и что ближе к завершению своей земной миссии он, пусть и на секунду, раздражался при напоминании о бедняках.
Кстати, в Библии короля Якова последняя строка звучит очень похоже: «нищыя бо всегда имате с собою, мене же не всегда имате»[22].
Что бы там Иисус ни говорил на самом деле Иуде, сказано это было на арамейском — а потом дошло до нас через иврит, греческий, латынь и архаичный английский. Возможно, он сказал что-то похожее на «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда». Возможно, что-то потерялось при переводе. Не забывайте, шутки — первое, что теряется в переводах.
Мне хотелось бы восстановить утерянный смысл. Почему? Просто я, агностик, почитающий Христа, не раз наблюдал нехристианское раздражение бедняками, вдохновленное цитатой «нищыя бо всегда имате с собою».
Я говорю в основном о своей юности, проведенной в Индианаполисе, штат Индиана. Не важно, где я бываю и насколько я стар — темы почти всех моих рассказов вращаются вокруг моей юности в Индианаполисе, штат Индиана. Так вот, когда я был юн, любой серьезный интерес к судьбе бедняков неминуемо натыкался на отпор какого-нибудь уважаемого родственника, тетки или дядьки. Тетка или дядька напоминали, что сам Иисус махнул рукой на бедняков. Он или она перефразировали восьмой стих двенадцатой главы Евангелия от Иоанна: бедняки безнадежны, бедняки будут всегда.
Тут к воспитательной беседе подключались и остальные, замечая, что бедняки безнадежны, потому что они ленивые и тупые, у них слишком много детей, и в ванне они держат уголь. Кто-то, может, даже процитировал бы Кина Хаббарда, газетного юмориста, который сказал, что знавал человека настолько бедного, что у него было двадцать две собаки. И так далее.
И вот:
Вечер перед Вербным воскресеньем. Иисус чувствует усталость и грусть. Он знает, что один из ближайших соратников скоро предаст его из-за денег, что скоро его подвергнут унижениям и пыткам, а потом казнят. Умирая в конвульсиях на кресте, он будет чувствовать такую же боль, как любой смертный. Его пришествие на Землю почти окончено — но осталось прожить еще это «почти».
Пора ужинать.
Сколько ужинов осталось у Иисуса? Пять, если не ошибаюсь.
Его сотрапезники сами по себе — форменное издевательство. Один из них Иуда, будущий предатель. Другой — Лазарь, который еще недавно был трупом. Библия сообщает нам, что Лазарь был мертв четыре дня, его труп уже смердел. Лазарь растерян, он не расположен к разговорам — и, кстати, не факт, что он испытывает благодарность за свое оживление. Возвращение с того света рождает неоднозначные чувства.
Если бы я продолжил чтение, мы бы узнали, что снаружи их ждет толпа, и толпа жаждет видеть Лазаря, а не Иисуса. Для толпы настоящая звезда — Лазарь.
Толпа всегда ставит чудо с ног на голову.
В доме, кроме троих мужчин, находятся Марта и Мария, сестры Лазаря. Они по крайней мере благодарны Иисусу и стараются помочь ему в меру сил. Мария начинает массировать и умащать ноги Иисуса Христа мазью, сделанной из корня нарда. У Иисуса кости обычного человека, одетые в плоть обычного человека, и ему, должно быть, приятно, что Мария массирует его ноги. Если мы предположим, что Иисус при этом закрыл глаза, — сделает ли это нас еретиками?
Для ревнивого лицемера Иуды, который пытается быть святее Папы Римского, это перебор:
— Эй, это не по-христиански! Вместо того чтобы почем зря тратить масло на косметические процедуры, нам стоило продать его и раздать деньги бедным.
На что Иисус отвечает по-арамейски:
— Иуда, об этом не волнуйся. И после моей смерти в бедняках не будет недостатка.
То же самое сказали бы Марк Твен и Авраам Линкольн в сходных обстоятельствах.
Если Иисус на самом деле произнес такие слова, их нужно понимать как черный юмор, очень уместную шутку. Она высмеивает двуличие, а не бедность. Это христианская шутка, благодаря ей Иисус, оставаясь вежливым, уличает Иуду в лицемерии.
— Иуда, об этом не волнуйся. И после моей смерти в бедняках не будет недостатка.
Я могу перевести: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда».
Мой перевод не посягает на истинность слов Библии. Я немного изменил их порядок, не только с целью превратить их в шутку, соответствующую ситуации, но и чтобы приблизить их к словам Нагорной проповеди. Нагорная проповедь рассказывает нам о милосердии без усталости и раздражения.
Это была глупая проповедь. Но я уверен, что вы не были против. Люди приходят в церковь не за наставлениями, но чтобы помечтать о Боге.
Спасибо, что были так добры, изобразив внимание.
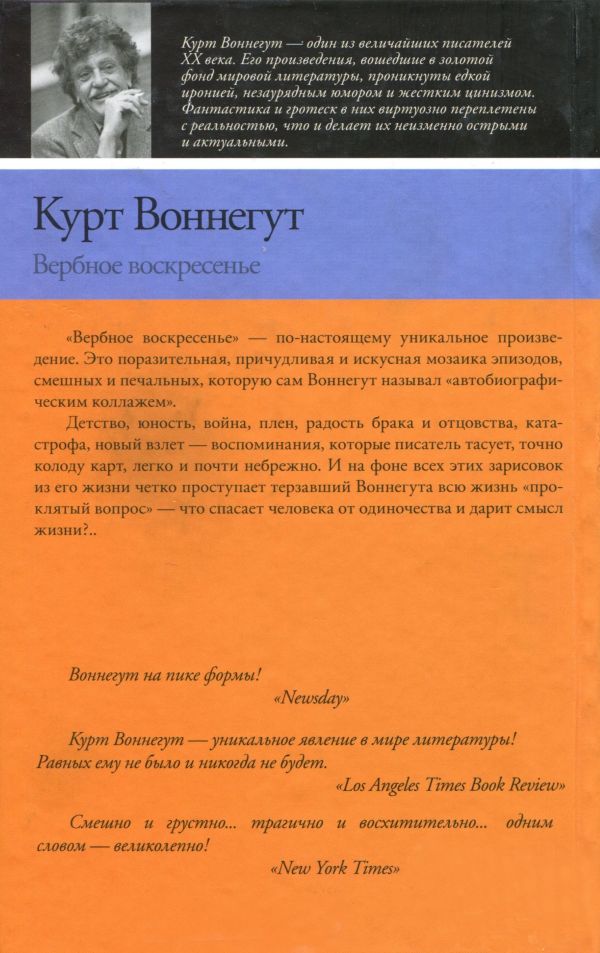
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
В ПОМОРСКОЙ СТОЛИЦЕ
В ПОМОРСКОЙ СТОЛИЦЕ В Архангельске на всех нас сразу же свалилось немыслимое количество дел.Власти поморской столицы встретили нас гостеприимно. Для штаба уполномоченного ГКО было выделено помещение в Доме Советов, оборудованное всеми средствами связи. Мне отвели
Глава 4. В СТОЛИЦЕ
Глава 4. В СТОЛИЦЕ Двадцать седьмого февраля 1769 года Кулибин вместе с Костроминым подъезжал к Петербургу.Зимний день клонился к вечеру. Сани легко скользили по укатанной дороге. Спутники молчали.С волнением ехал Кулибин в столицу. Он был полон радостных надежд. Теперь,
В столице Парагвая
В столице Парагвая До отплытия парохода на Концепсион у нас оставалось часов семь времени и публика предполагала отправиться в город, чтобы в его лице надолго проститься с цивилизованным миром. Но в Асунсион нас не пустили, что Беляев объяснил какими-то новыми
В столице разврата
В столице разврата Царь задержался в этом городе дольше, чем где-либо, но ни в каком другом месте он не причинил большего вреда военной дисциплине. Нет другого города с такими испорченными нравами, со столькими соблазнами, возбуждающими неудержимые страсти. Руф Квинт
Снова в столице
Снова в столице 26 октября 1841 года26 октября 1841 года Наталья Николаевна возвратилась из Михайловского в Петербург. Сестра Александрина в письме брату Дмитрию сообщила их новый адрес: «У Конюшенного моста, дом Китнера».У Конюшенного моста… Однажды сестры уже жили рядом с
Снова в столице
Снова в столице 26 октября 1841 года26 октября 1841 года Наталья Николаевна возвратилась из Михайловского в Петербург. Сестра Александрина в письме брату Дмитрию сообщила их новый адрес: «У Конюшенного моста, дом Китнера».У Конюшенного моста… Однажды сестры уже жили рядом с
III В столице
III В столице 27 февраля 1769 года купец Костромин привез Ивана Петровича Кулибина в Петербург. Сперва они явились к графу Владимиру Орлову, директору Академии наук. Граф оглядел их, подивился музыке в часах и назначил им явиться 1 апреля во дворец. Наряды царедворцев и
В столице Сибири
В столице Сибири В середине XVII века в Сибирь вели две дороги: одна — южная, через Казань, большей частью водой, пригодная в летнее время; другая — северная, через Вологду, зимняя, по преимуществу сухопутная. В черновом отпуске проезжей грамоты намечены следующие пункты,
Дома и в столице
Дома и в столице Еще грохотали пушки, когда Матвей Иванович вернулся домой. Чем занимался? Наверное, какое-то время отдыхал, наслаждался покоем.«Для меня это лучше всякого бала, — говорил он Н. Ф. Смирному. — Мы не рождены ходить по паркету и нежиться на бархатных подушках;
В столице Украины
В столице Украины После службы в Южной группе войск я был направлен на работу в Киев на должность начальника Особого отдела по Киевскому военному округу… Л.Г. Иванов Киевский военный округ(КВО) как оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил
Глава 7 В столице
Глава 7 В столице XIX век скончался, испустив не тихий всхлип, а торжествующий клич. Он гордо шел к концу и мог поднять бокал шампанского в честь наступающего столетия. Отлетающая душа имела все основания быть собой довольной. Она успела сделать немало: с развитием
Прикосновение к столице
Прикосновение к столице До переезда в Восточное Лу Ли Бо среди своих многочисленных передвижений по городам и весям Китая совершил как минимум две поездки по стране, которые оказались не просто путешествиями, а некими структурообразующими стержнями для раскручивания
Снова в столице
Снова в столице В столицу романист-путешественник вернулся 13 февраля 1855 года. Путешествие было завершено. «Два года плавания, — признавался писатель, — не то что утомили меня, а утолили вполне жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и
В СТОЛИЦЕ
В СТОЛИЦЕ В Петербург в тогдашнее время ехать было долго и утомительно. Поездка занимала не меньше двух недель. На почтовых станциях надо было ожидать лошадей, ругаться со смотрителями, отправлявшими путешественников сообразно их чину и званию. Двум молодым студентам,
IV В СТОЛИЦЕ
IV В СТОЛИЦЕ вадцать седьмого февраля 1769 года купец Костромин привез Кулибина в Петербург. Сперва они представились графу Владимиру Орлову — директору Академии Наук. Граф оглядел их, подивился музыке в часах и 1 апреля назначил им явиться во дворец. Наряды царедворцев и