ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
Длинные коридоры, крутые переходы с каменными ступенями. Двери, двери, двери — бесконечный ряд дверей с белыми номерами камер и стальными засовами. У надзирателя связка массивных ключей.
Поднялись на второй этаж. Долго шли коридором. Наконец остановились. Загремел засов. Скрежетнул проворачиваемый в замке ключ, дверь отворилась, и Феликс остался в камере один на один со своими раздумьями.
Опустившись на койку, застланную серым солдатским одеялом, попытался сосредоточиться, но не смог. Однако знал — отчаяния не было.
Он, как и все его товарищи по партии, давно был готов к аресту. Более того, даже гордился тем, что вот пройдет еще год-два, а может, всего лишь месяц, а то и неделя — и наступит его час испытать себя в Цитадели. Молодой революционер, не побывавший в крепости, — может ли быть такое?!
Он огляделся. Серые, в подтеках стены, стол, табурет… Окно высоко: подставил табурет, выглянул во двор, увидел часовых по углам, дерево в середине…
Спрыгнул с табурета, осмотрел себя, переодетого в тюремные штаны и куртку. На голове шапка. Все как должно быть! Тюрьма, заточение…
Допросы следовали один за другим. На одном из них в комнате оказались прокурор Варшавской судебной палаты Бутовский и Янкулио, обложившийся бумагами и какими-то сводами законов.
Поодаль, в кожаном кресле, разместился генерал Брок, начальник жандармского управления Варшавского округа, известный тем, что по любому делу он неизменно добивался самых жестоких приговоров. Его присутствие на этом допросе насторожило Феликса. Он начал догадываться, что получился величайший провал. Следовательно, вести себя на допросах надо соответственно: не поддаваться ни на какие душеизлияния этих волков в человеческом обличье.
Генерал Брок все время допроса молчал, но по его сопению можно было легко догадаться, какой вулкан ненависти клокочет в его холеном остзейском теле! Молчали и сидевшие чуть позади него подполковник Белановский, еще несколько жандармских и штатских чинов.
Феликс, конечно, не знал, что именно в этот день счастливо решилась судьба Секеринского: разгром партии «Пролетариат» поставлен ему в заслугу, за которую его переводят в Петербург. В Варшаве на должность Секеринского заступал подполковник Белановский.
— Нам важно установить, — адресуясь к Кону, заученно произносил прокурор Бутовский, — что побуждает университетскую молодежь, что побуждало вас в частности, примкнуть к революционному движению. — Помолчал, сколько, по его мнению, надо было помолчать после такого вступления, и заговорил снова: — Вот вы, человек из зажиточной семьи, по отзывам профессоров университета очень способный… Перед вами вся жизнь была впереди. Что же вас побудило всем этим пожертвовать?
Феликс подался вперед и переспросил:
— Что побудило? Окружающая мерзость.
Янкулио, приняв «мерзость» на свой счет, с шумом отодвинул стул.
Кресло под генералом Вроком застонало, и из угла, где он сидел, прогремело: — В карцер!
После карцера его не вызывали несколько дней. Но вот со скрежетом вывалился засов, дверь отворилась, и в камеру вошли Белановский, Янкулио и какой-то новый чин — как потом оказалось, только что назначенный начальник Десятого павильона поручик Фурса — в сопровождении трех жандармов. Белановский сел у столика на табурет, Янкулио — на кровать, но подальше от Феликса, а Фурса и жандармы остались стоять у дверей.
Янкулио развернул на коленях папку, вынул какие-то бумаги, заглянул в них и задал первый вопрос:
— Вы знакомы с Александром Дембским?
— Нет, но слышал, что есть такой человек.
— А что еще вы о нем слышали? — подался вперед Белановский.
Феликс знал, что Дембский на воле и поэтому прикинулся раздраженным:
— Пока человек на воле, вам такие подробности ни к чему.
— На воле? Да нет, он довольно удобно поселен у нас, — изволил пошутить Янкулио. — Вот его фотография. — Он вынул из папки любительскую фотокарточку, на которой действительно был изображен Александр, но изображен на какой-то лужайке, в своей любимой позе отдыхающего бездельника. Таким его Феликс видел иногда, когда Александр отдыхал, ускользнув после очередной отчаянной схватки с полицейскими. В самых критических схватках, окруженный со всех сторон, он всегда отстреливался до последнего патрона и всегда уходил без единой царапины. Таким хладнокровием, как у Дембского, обладал еще разве только Бронислав Славиньский.
Попадись Дембский жандармам, ему, конечно, не миновать бы виселицы. Но Александр, провернув какое-нибудь отчаянное дело, спкойно разгуливал по Краковскому предместью или по Крулевской, заходил в ресторан, выпивал стакан вишневки Бачевского, закусывал яичницей с жареной колбасой, запивал все это лимонадом и шел себе дальше своей развалистой походкой, с удовольствием чувствуя холодок оружия разных систем, которое он носил в нагрудном кармане пиджака, в заднем кармано брюк и на ременной петле под мышкой.
На фотографии Дембский был снят года два назад, скорей всего где-то за границей, — и вот эту-то его фотографию подсовывали теперь Феликсу. И он не смог отказать себе в удовольствии щелкнуть их по носу.
— Знаете что, господа, так уж и быть, признаюсь. Совершенно невероятно, но именно эту карточку я видел года два назад!
— Нет, — выкрикнул Янкулио. — Вы путаете. Он сфотографирован в тюрьме.
— Если бы его арестовали, о нем знала бы вся Цитадель.
— Ну, знаете ли, это раньше было возможно, при Александрове. А с тех пор как павильоном заведует поручик Фурса, такое исключено.
— Блажен, кто верует.
Янкулио крикнул старшему жандарму:
— Принесите перо и бумагу. Будем составлять протокол допроса.
Жандарм круто повернулся и вышел, бережно прикрыв дверь.
На мгновение в камере стало тихо. И тут сверху, из камеры раздался голос:
— Эти обезьяны уже ушли?
Феликс громко расхохотался. Белановский и Янкулио одновременно вскочили.
— Где туннель?
— Ищите.
К Белановскому подскочил Фурса:
— Я хорошо расслышал — голос раздался сверху…
— Кто сидит сверху?
— Дегурский и Блёх…
— Быстро!
Все удалились почти бегом. Феликс посмеялся им вслед. Он знал, что ни Блёх, ни Дегурский понятия не имели о туннеле, который был прорыт не прямо, а вкось, из-под стены, разделявшей камеры. А эти двое пожилых рабочих, арестованных в Згеже по делу об убийстве провокатора Франца Гельшера, были буквально сражены арестом и, конечно, ни о каком налаживании связей с соседними камерами и не помышляли.
…В камеру Феликса они вошли, уже сбросив маски добросердечия. Янкулио закричал прямо с порога:
— Укажите, где туннель?
— Я не обязан вам помогать.
— Вы ответите за это!
— Это не меняет дела.
— Но ведь вы же слышали… — начал было Белановский, но Феликс перебил:
— А вы не слышали?!
После карцера Феликса ждала неожиданная радость: по тюремному «телеграфу» с ним связался Ян Пашке.
— Выдает сумасшедший Загурский, — огорошил он Феликса. — Я об этом узнал до ареста.
— Ты это в прямом или в переносном смысле? С чего вдруг Загурский стал сумасшедшим?
— Не вдруг, а после бесконечных допросов. Янкулио и Секеринский старались как могли. А теперь выуживают у Агатона все, что он знает и не знает. Подсовывают ему липовые показания, из которых явствует, будто он убил Судейкина… Об этом рассказал Пиньский.
— Кто такой Пиньский?
— Надзиратель. Отсюда, из Цитадели. Он наш. С ним держат связь Фельсенгарт и Богушевич. Загурский требует, чтобы справились о нем у Бардовского. Он, мол, скажет, что я не виновен. Оказывается, один раз был у него…
— Да, да, — торопливо отстучал Феликс. — Это было при мне. Агатон приходил за черновиком воззвания к военным.
От предчувствия самого страшного, что могло случиться, у Феликса перехватило дыхание.
В июле арестовали Бардовского и Куницкого.
Арест Куницкого — для партии катастрофа, какой она не знала со времени заключения в Цитадель Варыньского. Но тогда на варшавском горизонте появился Станислав Куницкий, прикативший сюда из Петербурга буквально через несколько дней. А кто теперь заменит Куницкого? И сколько бы Феликс ни перебирал в памяти оставшихся на свободе партийных функционеров, он не видел ни в ком и малой доли тех достоинств, которыми обладал Куницкий, этот застенчивый юноша, свято веривший в то, что партия «Пролетариат» сможет успешно соединить в своей деятельности марксистскую классовую теорию революции с террористической практикой «Народной воли».
Но и об этом Феликс не мог думать в первые дни. Из головы не выходила больно жалящая мысль о том, что Куницкого обязательно повесят.
Как бы ни сложилась судьба других арестованных, но Куницкого не выпустят живым — ни на каторгу, ни в одиночное заключение навечно. И то, что он молод, красив, талантлив, только усугубит трагизм его положения.
Но этого никак нельзя допустить! Станислава надо спасти во что бы то ни стало! Надо взбудоражить всех заключенных пролетариатцев, пусть ломают головы все, кто уже арестован, и все, кто пока еще на воле! Если все будут жить этой мыслью — что-нибудь обязательно да получится. Феликс в этом не сомневался.
От Куницкого получил записку: «Кто-то выдает!» «Кто-то выдает»… Но кто? По «тюремному телеграфу» вскоре передали, что арестовано уже более сотни человек. Агатов Загурский знал немногих и немного. Массовые провалы могли быть результатом откровенных показаний доверенных в партии людей. Но кого бы ни вспоминал Кон, ни на одном он не мог остановиться. Были позеры, хвастуны, краснобаи, но чтобы пойти на предательство товарищей, таких Феликс не видел в своей партии.
На другой день его вызвали к товарищу прокурора Янкулио. У него сидел Станислав Пацановский. Увидев Феликса, Стас весь сжался. У Феликса екнуло в груди.
— Я все говорю… — сказал Пацановский. Янкулио как бы между прочим произнес:
— Вот видите. Пора и вам подумать о себе.
— Я не подлец!
Услышав эти слова, Пацановский еще ниже опустил свою когда-то гордую красивую голову.
Вошел жандармский подполковник Шмаков и приказал увести Пацановского. Потом подсел к Феликсу.
— Вы думаете, мы вас не понимаем или не сочувствуем вам? — начал он почти естественным голосом, изображая участие. — Все понимаем. Но мы понимаем и другое… То государственное устройство, к которому вы стремитесь, оно для России преждевременно. Народ ведь еще темный. Давно ли отменено крепостное право?
— Побеседуйте об этом с Пацановским, — резко оборвал подполковника Феликс, — а меня оставьте в покое.
На этаже была «туалетная комната», служившая для заключенных «почтовым отделением». Возвратившись с допроса, Феликс написал там на стене: «Пацановский выдает». Придя в «почтовое отделение» в другой раз, увидел рядом со своей надписью другую: «Кто смеет клеветать на Пацановского?» Ниже написал: «Кон».
— Итак, господин Гандельсман, — проговорил Янкулио и мельком, из-подо лба глянул на сидевшего перед ним высокого, с широко развернутыми плечами юношу и про себя удовлетворенно усмехпулся: бледные щеки арестованного порозовели, на тонком орлином носу выступили капли пота, а голубые глаза под черными бровями повлажнели. «Эк, как самолюбие-то разбирает! Ну-ну, посмотрим, что дальше будет». — Итак, господни Гандельсман… вы обвиняетесь в активном участии в подготовке террористических актов, имевших целью убийство должностных лиц… генерал-губернатора Привислинского края Гурко, начальника жандармского управления генерала Брока, генерала Фридерикса, генерала Унковского…
— Хватит!
Янкулио снял очки, положил перед собой лист бумаги, предварительно перевернув его, потому что лист был чист, строго глянул на взволнованного молодого человека.
— Чего хватит?
— Хватит дурака валять, господин Янкулио! Неужели судьи настолько глупы, что поверят вашим обвинениям?! Одному человеку это не под силу сделать за всю жизнь — убить стольких генералов, охраняемых вами с помощью сотен жандармов и солдат…
— Ваша вина усугубляется тем, — терпеливо разъяснял товарищ прокурора, — что вы не просто рядовой исполнитель чужих преступных замыслов. Вы их вдохновитель, поскольку, судя по известным нам материалам, нанимали весьма видное положение в руководстве партии…
Гандельсман невольно приосанился, в глазах заиграли огоньки тщеславия.
— Поверьте, господин Гандельсман… власти весьма обеспокоены тем, что так легко лезут в петлю… лучший, талантливейшие представители нашей молодежи. Ведь вы могли бы принести немало пользы отечеству…
— Увы! — покачал горделиво поднятой головой Гандельсман. — Теперь уже ничего не поделаешь. Хотя, если уж быть откровенным…
— Откровенность за откровенность, господин Гандельсман.
— Если уж быть откровенным до конца, то мои поступки не были продиктованы убеждениями. Просто… мода, молодость, темперамент — вот три момента, толкнувшие меня на этот путь.
— В таком случае… один-единственный вопрос, — сказал Янкулио и на секунду умолк, как бы собираясь с духом. — Один, но крайне важный. Скажите, если бы вам была сохранена жизнь, вы бы не употребили ее вновь во зло государственному порядку?
— Если бы! Да я бы всю ее без остатка посвятил одному делу: отвращать молодые души от этого злодейства!
Все внутри у товарища прокурора заклокотало от радости, но внешне он оставался деловито-озабоченным, внимательным и даже чуть участливым — насколько это допустимо для служителя Фемиды.
— В таком случае… что вам мешает заняться этим уже сейчас?
— Сейчас? Сейчас мне мешает всего-навсего одно маленькое осложнение, — проговорил Гандельсман. — Предстоящая виселица.
— Виселица может превратиться в мираж не только для вас, но и для многих ваших товарищей, если они будут послушны голосу разума. Вас, как одного из самых значительных людей в руководстве партии, они послушают. Разве мы не знаем, как плакали от восторга гимназисты и студенты, слушая ваше выступление в кружке на Театральной?!
Несколько секунд молчания.
— Что я для этого должен сделать? — Гандельсман налег грудью на край стола.
— Раскрыть структуру руководства провинциальными комитетами и рядовыми организациями.
— Давайте бумагу и карандаш.
Янкулио подал ему то и другое, а сам, закурив папироску, стал терпеливо дожидаться, пока Гандельсман чертил схему партийных связей, о которых знал лишь но смутным предположениям.
— Прекрасно! Превосходно! — проговорил он, забирая исчерченный большой лист бумаги. — А теперь — сущие пустяки. Распишите мне, кто и чем руководит, кто и за что отвечает, кто перед кем отчитывается, какио между всеми этими звеньями осуществляются связи…
Вацлав снова взял своими тонкими музыкальными пальцами карандаш, придвинул к себе услужливо вынутый из стола свежий лист бумаги и… перед тем как начать писать, впервые задумался над своим поступком.
Охранная машина стремительно раскручивала свои дьявольские маховики. Ежедневно хватали десятки студентов и молодых рабочих. Число арестованных и посаженных в Цитадель и в следственную тюрьму при городской Ратуше достигало нескольких сотен. Дела 190 арестованных были отправлены в Петербург для решения их судьбы в высших инстанциях.
Александру Дембскому и Брониславу Славиньскому удалось скрыться за границу. Но Славиньский вскоре был арестован прусскими властями и выдан России. Его судили, приговорили к смертной казни, но потом ее заменили вечной каторгой.
В том, что Куницкого повесят, не сомневался никто — ни его товарищи по заключению, ни жандармы. Одни горели желанием спасти его любой ценой, другие — неусыпно следили, чтобы не было предпринято никаких подобных акций.
Поручик Фурса почти ежедневно посещал камеры наиболее видных деятелей партии. Вел прощупывающие беседы.
— Скажите, господин Кон, что бы вы сделали, если бы вдруг получили свободу?
— Снова принялся бы за революционную работу.
— Ну а если бы партия к этому времени уже не существовала?
— Я бы создал новую.
Потом, на суде, прокурор, требуя для Феликса смертной казни, в числе других «уличающих» материалов воспроизведет и запись этой беседы, как свидетельство нераскаяния и крайней опасности этого человека для общества.
А Феликс настойчиво торопил товарищей с переводом к нему в камеру Куницкого. Все надежды возлагались на генерал-лейтенанта Унковского, коменданта Цитадели, по слухам, сочувственно относившегося к заключенным. Хлопоты удались. Вместо Пашке к Феликсу подселили Куницкого.
К этому времени Феликсу через мать и сестру удалось связаться с Розалией и Марией Богушевич, которая возглавила ЦК, стала возобновлять связи с заводскими и фабричными организациями.
Наконец поступила записка с воли: сообщили, что для побега Куницкого все подготовлено, найден человек, который выведет его из крепости. Фамилия — Пипьский. За стенами Цитадели Станислава будут ждать террористы Ковалевский и Хюбшер. Задержав погоню, они помогут Куницкому скрыться.
Оставалось самое трудное: выйти ночью из камеры.
Ни Феликса, ни Куницкого на прогулки не выпускали. Чтоб увидеть хотя бы кусочек неба, приходилось взбираться на стул и смотреть в зарешеченное окно.
С воли передали английскую пилку. Перепилив решетку, можно было бы спрыгнуть со второго этажа, но внизу как раз находился внутренний крепостной вал с часовыми через каждые пять шагов.
— Знаешь, — сказал Феликс примолкнувшему другу, — внизу есть камера номер один. Так вот, окна этой камеры выходят не на вал, а в офицерский сад. Туда и надо нам проситься.
— Так нас туда и пустили! Даже пустякового повода нет, чтобы проситься вниз. Молоды, здоровы как черти, и здоровью ничто не грозит, кроме виселицы.
— Ничего, если постараться, все можно придумать, — весело откликнулся Феликс, оголяя ногу. — В детство я страдал болезнью вен. Ее залечили. Но, но… Оторвика от простыни лоскуток потоньше да подлиннее и сделай из него жгут…
Куницкий сплел жгут в одну минуту.
— А теперь перетяни-ка ногу вот тут. Да потуже, не бойся, не на шее затягиваешь! Благодарю. А теперь остается сидеть и ждать.
Через сутки нога Феликса стала фиолетово-синей. Вызвали врача.
— Это моя застарелая болезнь сосудов, доктор…
— Да, да, я вижу. Это очень затяжная болезнь. Нужны прогулки, постоянный свежий воздух…
— Доктор, на первом этаже есть камера номер один. Окно выходит в сад. Там светлее, больше воздуха. Похлопочите о переводе.
— Я поговорю с Фурсой, молодой человек. Я обязан облегчить вам страдания.
Фурса — бывший улан. Он постоянно делал вид, что тяготится жандармским мундиром и даже сочувствует заключенным. И ногу Феликса он осматривал, переживательно качая головой. А потом произнес заветные слова:
— Хорошо, я переведу вас в первую камеру.
— А Куницкого? Я хотел бы, чтобы он помог мне на первых порах.
— Об этом не может быть и речи.
— Что?! — закричал Станислав. — Когда мой товарищ был здоров, я был рядом с ним. А когда он обезножел, вы разлучаете нас! Да за кого вы меня принимаете?!
— Я без Куницкого не пойду, — сказал Феликс без колебаний. — Что бы со мной ни случилось. Уж лучше, поручик, скажите прямо, что вы поставили на мне крест. Это будет честнее.
Фурса смутился:
— Что вы! Что вы! Я и не думал, что господин Куницкий желает уйти из коридора, где вся ваша компания…
— Господин Куницкий желает, — саркастически проговорил Станислав, — если этого требует болезнь господина Кона.
Фурса побагровел:
— Ах, господа революционеры! Вы в своих претензиях не знаете меры. — И ушел.
Куницкий потом долго хохотал, повторяя: «Господа революционеры не знают меры».
— А ведь он прав, подлец! Мы такие! Нам подавай сразу все — и жизнь, и революцию, и социализм. А если нет возможности поднять революцию и утвердить социализм, то и жизнь не нужна! — Куницкий с какой-то горькой отчаянностью стукнул тяжелым кулаком по столику и, запахнув широкие полы тюремной куртки, боком бросился на койку и долго-долго лежал молча.
Иа другой день Фурса распорядился перевести Кона и Куницкого на первый этаж, в камеру номер один.
За дело принялись не сразу. Однажды вечером, когда на тюремном дворе все стихло и только изредка перекликались на валу часовые, Станислав и Феликс вынули зашитую в рукав английскую пилочку и начали поочередно пилить решетку…
Ночь пролетела незаметно. И лишь когда заголубело небо над предместьем Желибож, узники прекратили работу. На одном из поперечных переплетов появился еле видимый надрез. Его замазали тюремным воском.
Утром сообщили на волю о том, что приступили к делу. От женщин тут же пришла записка: да, Пиньский, бывший солдат, служащий в Цитадели, по-прежнему согласен провести беглецов по крепости к тому месту стены, где ее можно преодолеть и где их будут ждать Ковалевский и Хюбшер.
Неожиданно Феликсу и Станиславу разрешили прогулки. Встретились с Петром Васильевичем Бардовским. Он заметно поседел, но держался бодро, хотя не мог скрыть, что страдает о своей жене Наталии, тоже запертой в тюрьме.
Стали встречаться и с Людвиком Варыньским, которого не видели со дня ареста в сентябре позапрошлого года. Людвик оброс огромной русой бородой и был похож на ясноглазого древнего славянина. Торопливо выкуривал папироску за папироской и говорил:
— Все, кто имеет возможность, нанимайте защитников.
— А ты? — спросил Куницкий.
— Я буду защищаться сам. Я готовлю речь. Поймите, товарищи, суд пойдет при закрытых дверях, и только наши адвокаты станут его свидетелями. О том, что произойдет в зале суда, мир узнает только от них. Поэтому к процессу надо привлечь как можно больше адвокатов.
В голосе Варыньского уже чувствовалось то высокое трагическое напряжение, на волне которого он и скажет потом свою трехчасовую речь, которая произведет такое огромное впечатление во всем революционном мире!
— Да, друг Стась, — обратился он к Куницкому. — Не повезло! Мало сделали!
— Что смогли, то сделали. Не отчаивайся, Людвик. И за то, что успели сделать, народ нас не забудет.
— Так-то оно так. Вот теперь бы сызнова все начать! Да нет, теперь уморят в крепости, подлецы!
— С твоими-то легкими да в крепость, — не удержался Станислав — посочувствовал другу…
Варыньский усмехнулся:
— Ерунда! Лишь бы курить давали…
Такой он был, Людвик Варыньский: любой тяжкий разговор непременно завершал какой-нибудь шутейной фразой, мгновенно разряжавшей атмосферу.
Решетку пилили по ночам, попеременно. Куницкий, чтобы время шло быстрее, говорил, а вернее — думал вслух. Только теперь до конца понял Кон этого удивительного человека, окруженного всегда друзьями.
Друзей у него было, как ни у кого из его товарищей по партии. В России он знал многих видных революционеров своего времени, был членом Исполкома «Народной воли», но его тянуло к рабочим — на этом он и сошелся с Варыньским. Его подпольные клички хорошо знали в рабочих предместьях. От жандармов он часто уходил, потому что ему помогали люди, А вот болезнь Загурского, выдавшего квартиру Петра Васильевича Бардовского, сыграла с ним злую шутку.
— Знаешь, кто для меня самый притягательный из русских революционеров? — остановился на середине камеры Станислав. И, не дожидаясь ответа, почти крикнул: — Клеточников![2] Это идеал революционера! Какая выдержка! Какое умение подчинить свои чувства делу! Какое хладнокровие! Осторожность…
Феликс усмехнулся:
— Знаешь, почему тебе так нравится Николай Васильевич Клеточников?
— Почему?
— Да потому, что этих качеств пе хватает тебо самому.
Куницкий улыбнулся:
— Верно. Я горяч и завидую тем, у кого холодная голова.
Наконец из Петербурга пришло «высочайшее повеление» императора: двадцать восемь подследственных и Пацановский отобраны для суда. Остальные наказаны в административном порядке.
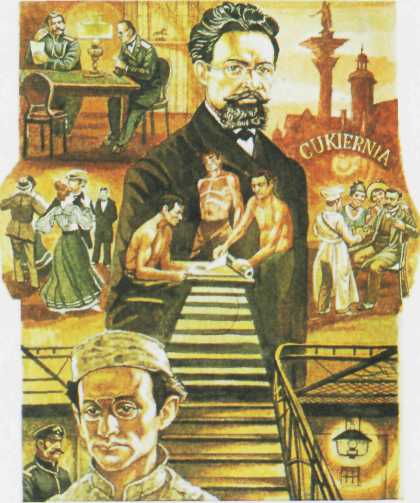
В Десятом павильоне Цитадели появился председатель Варшавского окружного военного суда генерал Фридерикс в сопровождении прокурора полковника Моравского. Генерал, тучный, пожилой человек, обошел камеры, вручил каждому Конию обвинительного акта и всюду говорил одно и то же:
— Это дается вам только для ознакомления. До открытия заседаний суда это нужно будет возвратить.
Купицкий возмутился:
— С какой стати! Нас обвиняют черт знает в чем — и мы же еще должны вернуть обвинительный акт. Каким же образом мы будем защищаться от несправедливых обвинений?! Нет, генерал, акт вы от нас не получите.
Лицо генерала покрылось темными пятнами. Как бы ища поддержки, он оглянулся на Моравского, а потом решительно произнес:
— Всякое неисполнение требований отразится на вашей судьбе… Не исключена возможность отправить кое-кого…
— …На виселицу, — досказал Куницкий и обескураживающе улыбнулся.
Генерал опешил. Судьба Куницкого, он знал, уже предрешена. Замешкался, а уходя, проговорил:
— Ну, об этом еще будет время поговорить.
Долгая варшавская осень иссякала. Теплые солнечные дни, а их становилось все меньше, сменялись неделями, в течение которых не прекращались глухие затяжные дожди. В офицерском саду за окном камеры номер один с деревьев упали последние бледно-оранжевые листья.
Дело продвигалось медленно. С воли торопили с побегом.
Куницкий похудел. На бледном, заросшем черной жесткой щетиной лице теперь были видны только огромные черные глаза с желтоватыми белками. Он по-прежнему мало спал.
Уходя на прогулку, пилку брали с собой. Как-то вернулись — в камере все вверх дном перевернуто: поняли, был обыск. На другой день, когда рассказали об этом товарищам, Бардовский заметил:
— Надо отложить затею на некоторое время. Пока шум уляжется.
— Пустое, — возразил Куницкий. — Напротив, теперь-то именно и надо работать. Жандармы убедились в необоснованности своих подозрений.
И они пилили. Пилили ночи напролет, через каждые полчаса сменяя друг друга. Жандармы как будто успокоились. До начала судебных заседаний оставались считанные дни. И вдруг… Арест Марии и Розалии сломал все планы: женщины сообщили, что Пиньский оказался провокатором, выдал замысел побега жандармам. Ковалевский и Хюбгаер готовят на Пиньского покушение.
А на другой день рано утром узники услышали доносящийся из-за окна стук топоров. Феликс взобрался на табурет, глянул вниз и замер: плотники напротив камеры номер один громоздили сторожевую вышку для часового. Все надежды на спасение рухнули…
Несколько месяцев спустя, когда Куницкого уже не было в живых, покушение состоялось. Пиньский отделался ранением, а покушавшихся схватили. Суд был скорый: Ковалевского приговорили к казни, и он сразу был повешен, а Хюбгаер отправился на Сахалин — в каторгу, на целых четырнадцать лет.
Год спустя на этапе к месту ссылки одна за другой умерли обо девушки: в Красноярске — Мария Богушевич, в Нижнеудинске — учительница Розалия Фельсенгарт…
— По указу Его Императорского Величества… Временный военный суд, учрежденный в Варшавской Александровской цитадели, приступает к слушанию дела…
…Феликс оглядывает лица товарищей, бледные, напряженные, но без тени страха и раскаяния… Варыньский, Куницкий, Плоский, Рехневский, Дулемба, Бардовский, Ян Петрусиньский, Михал Оссовский, Шмаус, капитан Люри… Дальше все остальные. Лишь Пацановский в стороне ото всех, сидит, уставясь мутными, почти безумными глазами в одну точку поверх судей, просторно разместившихся эа длинным столом, покрытым зеленым сукном. Золото погон, аксельбанты, седые, рыжие, черные бакенбарды…
В полутемной глубине зала плотной кучкой сидят родственники подсудимых: горе сроднило дворян и буржуа, чиновников и рабочих, офицеров и крестьян.
Обитое красным штофом золоченое кресло. Кресло не занято — оно приготовлено для генерал-губернатора Привислинского края Гурко, который приедет к концу судебных заседаний, когда подсудимым будет предоставлено последнее слово.
Адвокаты, взявшиеся защищать подсудимых, — за отдельными столиками. В центре защиты знаменитый Владимир Спасович — его губы кривятся, когда он позволяет себе вслушаться в казенные обороты обвинительного заключения…
Главный обвинитель — полковник Моравский. Под статью 249, предусматривающую смертную казнь, он всеми силами старался поднести не только Куницкого и его сподвижников, готовивших взрывы и уничтожавших провокаторов, но и первый состав ЦК, возглавляемый Варыньским:
— Они хотя и были арестованы до заключения партией договора с «Народной волей», тем не менее ответственны за все, как ее основатели.
Это дало повод защитнику Спасовичу ответить репликой, вызвавшей поощрительные улыбки даже у золотопогонной «публики»:
— В таком случае Христа следует привлечь к ответственности за скопчество.
Зловещий призрак виселицы стал вырисовываться в полутемном зале, когда обвинители начали использовать показания Станислава Пацановского, выдавшего членов организации Згежа. Юный ткач Ян Петрусиньский, выполнивший постановление о ликвидации провокатора Франца Гельшера, сидел рядом с Феликсом и время от времени шептал ему:
— Смерти не боюсь. И жизни не жалко. Одного жаль… Как бы я хотел полюбить! Никогда еще никакой женщины не любил и совсем не представляю этого чувства…
В это время вскакивает Ян Поплавский и громко говорит, обращаясь к суду:
— Петрусиньский не виноват. Это я убил Гельшера.
Сидевший рядом с генералом Фридериксом полковник Стрельников, родной брат военного прокурора, убитого в Одессе Халтуриным и Желваковым, уточнил:
— А с какой стороны вы стреляли? С правой?
Поплавский на секунду замешкался и неуверенно ответил:
— С правой.
Это было нелепо, и судьи переглянулись и обменялись усмешками.
…Однажды Куницкий пришел на квартиру Бардовского и сел писать воззвание к военным. Текст ему не давался. Он зачитывал каждый абзац вслух, а Петр Васильевич все брюзжал:
— Разве так пишутся воззвания?!
Куницкий в досаде кинул на стол листок:
— А вы сядьте и напишите.
Бардовский сел, тут же написал, и, когда зачитал его, все были в восторге.
Теперь черновик этого воззвания был представлен суду. Генерал Фридерикс пытался его прочесть, но неразборчивый почерк Петра Васильевича он так и не смог одолеть. Фридерикс снял очки и, найдя взглядом Бардовского, сказал:
— А может быть, вы сами его зачитаете?!
Петр Васильевич встал. Элегантный, с седоватыми висками, с приятным мягким лицом, он подошел к столу судей, взял листок и, выйдя на середину зала, густым, красивым голосом начал читать, незаметно для себя воодушевляясь:
— «А буде понадобится царю поставить виселицы по всему лицу земли русской, назначаются три майора, которые беспрекословно выполняют волю пославшего их…»
В зале замерли — и судьи, и публика, и подсудимые, и адвокаты. Только Стрельников ехидно улыбался. На холеном лице его Феликс прочел: «Ага, попался, голубчик!» Феликс огляделся и увидел на печальных лицах своих товарищей, так искренне любивших Бардовского, одно и то же: Петр Васильевич сам себе зачитал смертный приговор.
В защите самое благоприятное впечатление на публику произвел Владимир Спасович. Блистая остроумием и менее всего заботясь о том, чтобы понять мотивы поступков своих подзащитных, он, конечно, не мог рассчитывать на их благодарность:
— Статья 249, господа судьи, под которую прокурор подводит всех обвиняемых, предполагает тягчайшее государственное преступление, — говорил Спасович мягким красивым голосом. — Но позволительно спросить господина обвинителя, в чем он видит такие преступления со стороны моих подзащитных? Эта статья применима разве что к Стеньке Разину, к Емельяну Пугачеву, но при чем тут «Пролетариат»? Большому кораблю большое плавание. Но разве так называемая партия «Пролетариат» была хотя бы маленьким кораблем? Все это судебное дело — мыльный пузырь, не более. Это же совершенно очевидно, господа! — Выдержав паузу в пределах, необходимых для адвокатского красноречия, Спасович продолжал: — «Пролетариату» вменяют в тягчайшую вину ее мифическое соглашение с Исполнительным комитетом «Народной воли». Но делать из мухи слона позволительно какому-нибудь провинциальному клерку, но не такому деятелю, каковым является господин военный прокурор. Исполнительный комитет «Народной воли» подобен Великой Римской империи, которая не была ни Римской, ни Великой и уж тем более ни империей. Названный Комитет не был исполнительным и уж, конечно, не выражал воли народа.
Браво, браво, господин Спасович! Золотопогопная «публика» одобрительно улыбается, шевелится, вот-вот начнет аплодировать! Зато какие гневные взгляды мечут в сторону защиты подсудимые!
— А теперь посмотрите, господа судьи, на этих несчастных! Кто они такие здесь, у нас в Польше? Варыньский, Куницкий, Бардовский, Рехневский, Плоский, Люри… Ведь это же все воспитанники русских учебных заведений! При чем же здесь польское общество?! Кто же остается в числе так называемого руководства партии? Кто из них вышел из наших учебных заведений? Предатель Пацановский и первокурсник Кон… Русское правительство не пострадает, если проявит снисходительность. Но если она не будет проявлена, пострадает польское общество, которое потеряет эту молодежь. А при чем оно? В чем его вина?
— Накажите наших детей, но возвратите их нам! — не сумел сдержаться защитник Краевский, седой, со следами пережитых невзгод на лице, сам бывший повстанец 1863 года, перенесший каторгу.
Станислав Куницкий, человек вспыльчивый, импульсивный, чувствуя поддержку и пристальное к себе внимание товарищей, на суде вел себя хладнокровно, мужественно, не позволял себе взорваться, хотя судьи всячески провоцировали его. Однако и он не сдержался, когда выступал нанятый его отцом защитник. Адвокат Городецкий заключал речь риторическим вопросом:
— Кто же виноват в том, что на скамье подсудимых оказались лучшие, талантливейшие, благороднейшие представители нашей молодежи? Вот над чем надо задуматься, господа судьи. Виноват гнилой Запад, заражающий нашу молодую мощную Россию ядом социализма!.. Вот его и надо судить, а не этих несчастных…
Тут-то и вскочил со своего места Кушщкий и звонким, чистым голосом крикнул на весь зал:
— Прекратите!
А потом выступал Наводворский, самый молодой защитник на суде:
— На море буря — люди запасаются лодками. Можно их обвинять? — спрашивал он судей. — Так поступает и партия «Пролетариат». Она предвидит гибель капиталистического строя и готовится использовать момент крушения капитализма — только и всего.
На заседание, когда подсудимым было предоставлено последнее слово, явился генерал-губернатор Гурко. В этот день кресла были переставлены: теперь защитники и публика сидели одной группой и смотрели на происходящее в зале суда как на последний акт трагедии…
Речь Варыньского длилась более трех часов и произвела на всех находившихся в зале суда очень сильное впочатление. И судьи, и защитники, и «высокая публика» слушали его затаив дыхание…
— Спрошенный, признаю ли я себя виновным, — говорил Варыньский, — я уже заявил, что ни о моей «вине», ни о «вине» всех нас не может быть и речи. Мы боролись за свои убеждения, мы оправданы собственной совестью и пародом, которому мы служили. Для меня безразличны подробности возводимых на меня обвинений, и я не буду терять времени на их опровержение. Моя задача состоит в том, чтобы воспроизвести картину действительных наших стремлений и деятельности, ложно представленных обвинением. Мы — не сектанты и не оторванные от реальной жизни мечтатели, какими нас рисуют и обвинение, и даже защита. Социалистическая теория получила право гражданства в науке и в пользу ее на каждом шагу говорят реальные факты современной жизни. Серьезнейшие мыслители выступили с уничтожающей критикой существующей социальной системы. Они уже указывают на зародыши лучшего строя, развивающегося на почве современных отношений. Парламенты и даже самодержавные правительства проводят законодательным путем реформы, находящиеся в полном противоречии с господствующими понятиями о собственности. Концентрация государственных земель, происходящая во многих странах Европы, переход железнодорожного хозяйства в руки государства, повсеместное введение фабричного законодательства — все это является характерным знамением времени и приближает момент торжества нового социального строя. Мы не игнорируем этих фактов, мы отдаем себе ясный отчет в их значении и в пользе для нашего дела. Но вместе с тем мы убеждены, что освобождение рабочего класса от тяготеющего над ним гнета должно быть делом самих рабочих. Даже и те паллиативные средства, которыми современные правительства пытаются предотвратить социальные бедствия, вызваны давлением рабочего движения…
И генерал-губернатор Гурко, и председатель суда Фридерикс, и даже кровожадный полковник Стрельников не спускали глаз с Людвика, стараясь не пропустить ни одного слова. А он между тем продолжал говорить, все более и более воодушевляясь:
— Нет правительства, которое находилось бы в полной независимости от входящих в состав данного государства общественных классов. Их влияние на государственный строй прямо пропорционально степени их политического развития и организации. До сих пор в этом отношении перевес был на стороне привилегированных классов — буржуазии и дворянства. Вступая на политическую арену, рабочий класс должен противопоставить организацию организации и во имя определенных идеалов вести борьбу с существующим социальным строем. Такова задача рабочей партии, борющейся под знаменем социализма. Она создает противовес другим общественным классам и ставит преграды реакционным стремлениям, стремясь к радикальному изменению социального строя; рабочая партия в настоящее время ведет подготовительную к этому работу. Ее задача состоит в том, чтобы побудить рабочих сознательно относиться к своим интересам и призывать их к выдержанной защите своих прав. Рабочая партия приучает к дисциплине и организует рабочий класс и ведет его на борьбу с правительством и с привилегированными классами. Мы стремились вызвать рабочее движение и организовать рабочую партию в Польше. Насколько наши усилия увенчались успехом, вы можете судить на основании данных, выясненных следствием. Перед вами продефилировал целый ряд свидетелей-рабочих. Вы помните, как допрашивал их обвинитель и как он добивался желательных для него показаний. Вы помните также ответ этих свидетелей на вопрос, что им известно о стремлениях «Пролетариата». Все их ответы подходят под одну формулу: партия старалась улучшить положение рабочих и указывала на средства достижения этого. Симпатии рабочих на нашей стороне. Мы гордимся сознанием, что брошенное нами семя глубоко запало в эемлю и дало ростки…
Людвик закончил свою речь словами глубочайшего благородства и самоотверженности:
— Мне остается добавить лишь одно. Какой бы приговор вы ни вынесли, я прошу не отделять моей судьбы от судьбы других товарищей. Я арестован раньше других. Нo то, что ими сделано, и я бы сделал, будучи на их месте. Я честно служил делу и готов за него голову сложить!
Владимир Спасович стремительно встал со своего места, почти подбежал к Варыньскому и крепко пожал ему руку. Вслед за Спасовичем к Людвику подошли почти все защитники и даже кое-кто из золотопогонной «публики» и растроганно выражали свои чувства.
Феликс Кон, для которого Моравский, как и для большинства подсудимых, потребовал смертной казни, в своем выступлении сказал:
— Правительство до такой степени сжимает круг жизни человека, что всякие нарушения являются неизбежными. Что может быть естественнее желания расширить круг своих познаний? У нас это запрещено. У нас находится под запретом цензуры Милль и Бюхнер… Чтение и изучение этих авторов уже является нарушением законов.
Но ведь, будучи учеником гимназии или студентом, не перестаешь быть человеком, на которого но могут не влиять явления повседневной жизни. Меня не мог не поразить вид проголодавшейся, истощенной массы рабочих, выгоняемых на мостовые Варшавы периодически повторявшимися кризисами. Все эти явления вызвали во мне недовольство существующим порядком. И теми же путями, которыми я раньше добывал сочинения общего характера, я впоследствии добывал труды по социализму. И, ознакомившись с основными принципами социализма, я проникся ими и, как человек, не умеющий равнодушно и безучастно относиться к окружающим его условиям, не умеющий играть только пассивную роль в разыгрывающихся событиях, я всеми силами старался найти людей, принимающих активное участие в борьбе с устарелым порядком. Мне удалось их найти, и я умолил принять меня в свою среду, дать мне возможность пойти рука об руку с ними и этим выполнить свой долг по отношению к народу. Не было и не могло быть речи о том, чтобы кто-либо меня вовлекал, так как одно разрешение бороться под одним знаменем с ними я считал для себя величайшей честью.
Несколько месяцев спустя я был арестован, а ныне прокурор требует для меня смертной казни. Защищаться я не желаю и ожидаю своей судьбы с сознанием исполненного долга.
Заседание длилось с небольшими перерывами весь день и вечер.
Свою речь Станислав Куницкий адресовал находящимся на свободе, хотя и начиналась она традиционным обращением к судьям:
— Позвольте мне, господа судьи, в последнем слово очиститься от той грязи, которой забросали меня прокуроры, а отчасти и некоторые из защитников. Я представлен ими на суде как человек, алчущий человеческой крови. По высказанному моими обвинителями мнению, всюду, где бы я ни появлялся, проливалась или должна была пролиться человеческая кровь. Мои убеждения признаны вредными для общества, мои поступки признаны преступлениями. Для того, чтобы еще более повлиять на вас, господа судьи, прокурор подчеркивал, что я во всем солидарен с «Народной волей», совершившей акт первого марта. Да! Я солидарен с «Народной волей», я был членом этой партии, я подписываюсь под всем, совершенным ею. Это — не преступление, а исполнение священной обязанности.
Генерал Фридерикс, быстро глянув в лицо нахохлившегося Гурко, громко произнес:
— Подсудимый! Говорите свое последнее слово, а не занимайтесь пропагандой! Иначе я вас лишу этой возможности.
Купицкий ответил спокойно:
— Не забывайте, генерал, что это в полном смысле мое последнее слово.
Фридерикс умолк. А Куницкий продолжал речь:
— Вся моя вина — это моя любовь к народу, за освобождение которого я готов отдать свою кровь до последней капли. На путь террора нас заставила вступить необходимость. Уберите от нас таких людей, как Янкулио и Белановский, людей, которые торгуют человеческой жизнью, прекратите бесчеловечные преследования — и тогда борьба примет менее острый характер.
Вы слышите плач и рыдание присутствующей на суде публики? Это наши родственники: отцы, матери и жены. Их спросите, преступники ли мы. Они нас знают. А вы — можете нас судить, можете и осудить. Мы умрем, сознавая, что исполнили свой долг.
Подсудимые договорились, выходя из зала суда во двор, выкрикивать громко свое имя и приговор, чтобы о результатах судилища узнали тюрьма и измучившиеся от ожидания люди.
Старинные часы пробили полночь. Наступило 20 декабря 1885 года. Наконец в первом часу ночи появились долго совещавшиеся судьи. Объявили приговор.
И вот в многотысячиую человеческую массу, то замиравшую, то мгновенно вскипавшую штормовым гулом, падают слова:
— Куницкий — смерть!
— Бардовский — смерть!
— Люри — смерть!
Гул на какую-то минуту стихает, минуту, кажущуюся очень долгой, — потому что это минута надежд, в которые не верилось, и отчаяния, которое было беспредельно…
Заминка была вызвана тем, что уводили одну группу и вводили другую. И снова возгласы из тюремного двора:
— Петрусиньский — смерть!
— Шмаус — смерть![3]
— Оссовский — смерть!
Варыньский был осужден на шестнадцать лет каторги. Феликс Кон получил десять лет и восемь месяцев каторги, замененные затем восьмью годами.
А хмурая зимняя ночь, клубя по небу черные снеговые тучи, текла пад взбудораженной Варшавой, над уходящими в казематы людьми, для которых земное время прекратило свой отсчет — потому что они уходили в Вечность.
Через три дня за стены Цитадели в подпольную Варшаву улетело прощальное письмо Станислава Купицкого:
«Братья-рабочие!
Пользуюсь подвернувшимся случаем, чтобы перед смертью написать к вам несколько слов.
Вскоре меч палача обрушится на наши головы, но чувство страха нам чуждо. Мы знаем, ради чего мы гибнем и за что мы отдаем жизнь свою.
Теперь от вас, братья, зависит, чтобы наша жертва не была бесцельна.
Мужество и выдержка. Не забывайте, что мы только собственными усилиями сможем завоевать права, которых нас лишали в течение стольких веков, что только в себе самих мы должны искать силу и бодрость в борьбе, которую мы ведем.
Пусть не пугают вас те жестокие приговоры, которые обрушились на нас.
Если бы не предательство, не было бы стольких жертв. И в этом отношении, следовательно, зависит от нас, чтобы жертв было как можно менее. Будьте осторожны в своей деятельности. Не доверяйте первому встречному. Но не ослабляйте при этом своей энергии, не отступайте от нашего знамени, держите его высоко — и победа будет за вами.
Это, братья, мои последние слова, мое завещание, которое пересылаю вам.
А теперь, мои более близкие друзья, если кто из вас сохранил хоть частичку той привязанности, которою вы меня удостаивали, тот поймет, что этими немногими словами я желал бы влить в вас всю мою любовь к делу, за которое я гибну, и выразить вам, людям, с которыми я вместе работал, те чувства дружбы, какие я к вам питаю.
Посылаю привет и сердечные рукопожатия вам, знающим и помнящим меня, братское рукопожатие товарищам по оружию.
Сердечно обнимаю вас всех в последний раз. Будьте счастливы и не забывайте „рыжего Григория“.
Станислав Куницкий».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава пятая
Глава пятая Несколько часов спустя я вышел из самолета на берлинском аэродроме. Дул ледяной ветер, земля была покрыта тонким слоем снега. Как это непохоже на Анкару с её ярким солнцем и голубым небом!Около аэропорта меня ждал автомобиль. Прежде чем я сел в него, мне
Глава пятая
Глава пятая Будущность темна. Как осенние ночи… А. Сребрянский 1 Кольцов зашел к Кашкину попросить новые журналы.– Приходи вечерком, – таинственно сказал Кашкин. – Что покажу!..Вечером Кольцов задержался: привезли овес, отец велел принять, и Алексею пришлось долго
Глава пятая
Глава пятая 1 В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные
Глава пятая
Глава пятая В 1926 году международная обстановка опять обострилась, стала нарастать угроза новой войны против СССР. Застрельщиками антисоветской политики выступили английские империалисты. В тесном союзе с ними действовали американские и французские монополии,
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ Немало жестоких войн было в XIX столетии. К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники,
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ Ненасытная жадность.С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.Стоит бабье лето. Солнце, напоследок
Глава пятая
Глава пятая В нескольких километрах от Москвы, в деревне, договорился с одинокой старушкой о найме комнаты. Нашел машину и поехал за семьей в Лысково. Часа через три подъезжаем к калитке, а она закрыта на замок. Старушка, высунувшись из окна, кричит:– Я передумала, извините,
Глава пятая
Глава пятая Я сижу в электричке, и она как на крыльях несет меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зеленом живописном уголке живет маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ Путешествие по Италии. — Московский Литературно-Художественный кружок. — Журнал «Новый путь». – Поездка в Париж. — «Urbi et Orbi». — «Письма Пушкина» (1902-1903).Когда Брюсов задумывал какое-нибудь путешествие, то раньше всего покупал путеводители, большей частью
Глава пятая
Глава пятая Стокгольм, Швеция — 29 июня 1958 годаИтак, мы в финале, и наш соперник — сборная Швеции. Нас считали фаворитами, что, в общем-то, было естественно, учитывая нашу победу со счетом 5:2 над командой Франции. Нам отдавали должное все, кто относился к нам без предубеждения
Глава пятая
Глава пятая 16 сентября 1944 года произошло невероятное.В этот день Власов встретился с «черным Генрихом».Сохранилась фотография: генерал Власов и рейхсфюрер Гиммлер.Оба в очках. В профиле Гиммлера что-то лисье. Профиль Власова тяжелее, проще.Д’Алькен подробно описал это
Глава пятая
Глава пятая 1-я дивизия РОА подошла к Праге, когда там 4 мая вспыхнуло восстание.В отличие от интернационалистского руководства России, чешские руководители всегда ставили идею народосбережения впереди других идеологических предпочтений и гордынь.В 1938 году чехи
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ 1С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Говорухиным, Шевыревым, Лукашевичем. Говорухин предлагал ему вступить в какой-нибудь кружок. Саша