ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
На Севере
В конце июня
Сиянье сумерек безлунных,
И, наклонившись на закат,
Седые лиственницы спят.
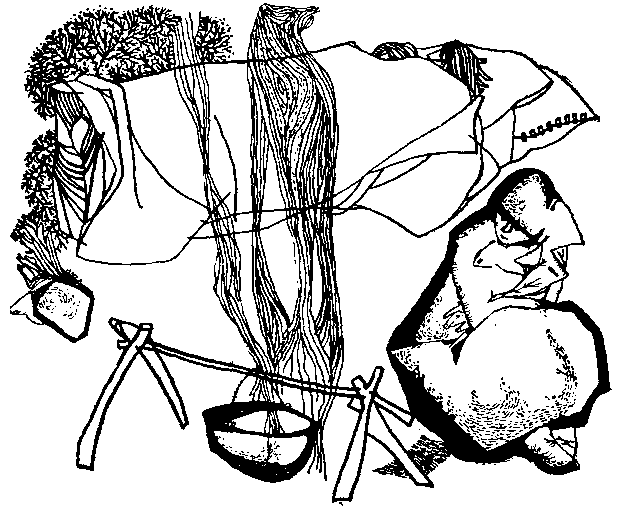
На Колыму пришел июнь. По распадкам, по сопкам вскипает фиолетовой пеной кипрей, покачиваются белые крестики брусники, перешептываются хрупкие кустики голубицы. От цветочного запаха слегка кружится голова, согревается тело, быстрее пульсирует кровь.
А над черными густыми озерами висят лиственницы, опрокинув в воду легкие тени. Липкая смола течет по шершавым стволам, между ветвями пляшут звенящие столбы мошкары, полосатые окуни замерли у затопленных пней и коряг. Под размашистым стлаником сидит на яичках белая куропатка, прислушиваясь к каждому шороху. Ее чуткий слух улавливает любой опасный звук.
С шелестом разорвалась вода, окунь вспыхнул под солнцем и опустился на дно. Покачнулась лапа стланика, белка перелетела на другую, что-то процокав на лету куропатке. На соседнюю лиственницу села чечевичка и пронзительно заизвинялась: «Извините вирр! Извините вирр!»
На берегу ручья худой бурый медведь вырывает с корнями траву, переворачивает камни, слизывая языком черных муравьев. Он выдергивает куст смородины, смотрит на мелкие золотые самородки и, обнюхав их, медленно бредет на сопку.
Навстречу медведю спускается сохатый с дремучими ветвистыми рогами. Чугунные копыта обдирают с камней белый ягель, в глазах передвигается лесной, настороженный мир.
Медведь замечает сохатого на секунду раньше и крупными прыжками устремляется к нему.
Сохатый взвивается на дыбы, копыта свистят в воздухе и обрушиваются на медвежью голову.
Леса содрогаются от грозного рева. Куропатка испуганно слетает с гнезда, чечевичка перестает извиняться, белка замирает между ветвей.
Наступает обманчивая тишина. Она словно предостерегает лесных жителей о новых опасностях. Белка, обмершая между ветвями, видит бесшумную тень, скользящую по земле. Куропатка, снова притихнувшая на гнезде, зорко следит за серым крестом, висящим в небе. Ястреб высматривает добычу: может быть, ее, куропатку? Окуни веером разлетаются по озеру: их испугала выдра, появившаяся из-под коряг.
В обманчивой лесной тишине рождаются новые звуки. Беспокойный неприятный запах распространяется по тайге. Почуяв его, кидается в чащобу горностай, плюхается в воду выдра, замкнутыми кругами уходит за сопку ястреб. Этот враждебный запах идет от людей, несущих опасность.
Черский и Степан вышли на берег озера и остановились у кромки воды. Мелкие блестящие круги, оставленные перепуганной окуневой стаей, еще расходились по озеру.
Начавшееся путешествие освежило Черского. Лицо порозовело, пальцы окрепли, сердце не тревожило по ночам. Он чувствовал приятное облегчение во всем теле.
Каждый день открывались новые бесчисленные протоки, заливы, рукава Колымы. Путешественники то пробирались под белыми кострами рябин, то. блуждали среди островов, затянутых розовым туманом цветущих ягод.
На них наползали облака крепкого аромата: казалось, колымская вода пронизана им.
На утренних серых зорях Черский видел лис-огневок, скрадывающих сонных куропаток, полосатых бурундуков, посвистывающих на пеньках.
Между деревьями мелькали пестрые кедровки, по речному песку сосредоточенно ковыляли вороны. Заломы погибших деревьев громоздились по берегам; иногда из них с коротким рявканьем выкатывались медведи.
Черский записывал в дневник все, что представляло хоть какой-нибудь интерес. Дневник лежал на постели, около правой руки: Иван Дементьевич привязал карандаш ниточкой к руке, чтобы не тратить усилий на его поиски.
На каждой стоянке Мавра Павловна садилась в изголовье мужа и сообщала свои наблюдения:
— Температура воздуха двадцать градусов. Температура воды — два. Быстрота речного течения семь метров…
Черский записывал. Потом прислушивался к плеску воды и снова говорил:
— Дальше, Мавруша…
— На последней стоянке в известняке обнаружены кораллы. Правый берег порос лесом, под левым — глубокий яр…
Черский записывал и опять повторял:
— Дальше, дальше…
— В силлурийских отложениях нашли кости бизона. Взяли пробы геологических пород. Собрали растения и травы…
Сегодня, в такое необыкновенное, отлитое из голубоватого серебра утро Черский решил причалить к берегу и провести весь день в тайге. Мавра Павловна и Саша остались на карбасе. Черский и Степан отправились в тайгу и вышли к озеру.
— Ты, Степан, пособирай цветы и травы для нашего гербария, а я похожу, посмотрю горные породы. Вон какие привлекательные скалы на левом берегу озера.
Черский поднялся, зашагал к скалам. Сегодня он чувствует себя весело и легко. Ему улыбаются солнечный день, таежное озеро, высокие каменные обрывы. Может быть, дело пошло на поправку и болезнь утихнет. А, стоит ли думать о болезнях, когда чувствуешь себя хорошо!
Неразлучным геологическим молотком он принялся откалывать кусочки скального выброса. Наметанный глаз определил породу. Черский вскарабкался на вершину скалы и огляделся.
Перед ним лежала долина реки, за спиной развертывались горные цепи. Они шли в поперечном направлении к течению реки.
Черский повернулся к горам, пристально ощупывая взглядом их направление. Смутная, еще неясная мысль возникла в уме: «Ведь от Верхне-Колымска горные цепи идут так же? Они имеют такое же направление? А как они показаны на географических картах? Хаотическим нагромождением горных цепей во всех направлениях. Значит, географы ошибаются. Географические карты Дальнего Севера нуждаются в исправлениях».
Черский взволнованно заходил по скале. Робкая догадка переходила в уверенность. «Не ошибаюсь ли я? Может быть, скоро горные цепи свернут со своего направления? Надо обязательно проследить это в следующий раз».
Черский возвращался к карбасу, полный впечатлений, радостных догадок и того творческого настроения, которое всегда появляется в человеке накануне открытия.
На сумеречном небе лежала изломанная линия вершин Сиен-Томахи. Возникнув где-то на юге, она перечеркивает восточную часть неба и тает на севере, в расплывающемся горизонте.
То совершенно голые, то забрызганные пятнами лесов, сиен-томахинские горы неутомимо шли по берегам Колымы. Однозвучно шумела река, скрипел и раскачивался карбас, вяло пощелкивал парус.
Черский сидел на корме, обложенный мешками. Правая рука упала на борт; карандаш, привязанный ниточкой к ее кисти, колыхался над водой. Мавра Павловна посматривала на пепельное лицо мужа, на капли пота в русых, с золотистым оттенком волосах. «Как бы опять не начался приступ астмы. Что мы будем делать без всяких лекарств?»
Он что-то сказал, она не расслышала шепота.
— Может быть, пристанем к берегу?
Черский нахмурил лоб, беззвучно пошевелил губами.
— Тебе ничего не надо?
Мавра Павловна осторожно пробралась между мешками и ящиками на корму, вытерла струйку крови, стекающую с его бороды, наклонилась к бескровным губам.
— Шарогородский. Родчево. Он мне нужен, он где-то здесь в этих местах. Причаль, Мавруша, остановись…
Степан повернул карбас, и он уткнулся в мокрый песок. Черский сошел на берег, присел на камень. Саша побежал собирать сухой плавник для костра, Степан установил палатку. Черский снял очки, близоруко поморгал карими глазами.
— Мавруша, где-то недалеко находится поселение Родчево. В нем живет ссыльный Станислав Шарогородский. Ты же помнишь его по Иркутску. Он врач, человек доброй души. Очень бы хотелось повидать старого друга. Надо разыскать Станислава…
Мавра Павловна растерянно посмотрела на глухие скалы Сиен-Томахи, на поблескивающие во тьме воды Колымы. «Где же разыскивать этого ссыльного врача Шарогородского? Может быть, он живет совсем рядом, а может, за сотни верст отсюда».
— Хорошо. Мы разыщем Шарогородского.
Она уложила мужа на мешки, поближе к костру. Черский закрыл прозрачные веки. Короткие тени сновали по неподвижному бледному лицу его, вызывая в Мавре Павловне тревогу. Неведомая река, неоткрытые горы, таинственный мир вокруг, опасности на каждом шагу, болезнь мужа — есть от чего прийти в отчаяние!
Маленькая женщина устремила глаза на желтые языки пламени. Они переплетались между собою, вытягивались, сокращались, казались то яркими лесными цветами, то листьями увядающего таволожника, то извивались как змеи. Чего только не почудится человеку, одиноко рассматривающему костер! Твердая решимость Мавры Павловны — продолжать путешествие во что бы то ни стало — уступила место отчаянию и сомнениям. «Хватит ли у меня силы добраться до Нижне-Колымска, если он…» Она не закончила страшную и неизбежную мысль, отогнала ее от себя. Против ее воли мысль возвратилась, настойчивая и неотразимая. «Что я буду делать, если останусь одна на этой реке, с малолетним сыном, при скудных запасах пищи? Никто не поможет, кроме Степана, но Степан ничего не смыслит в научных делах. Он прекрасный проводник, надежный товарищ, и только!»
Степан курил трубку, нервно покусывая мундштук, нетерпеливо двигая сапогами по мокрой гальке. Наконец он не выдержал и встал.
— Мавра Павловна, надоть искать этого дохтора. Я пойду. Вернусь завтра, и душа из меня вон, если приду без него.
Он перекинул через плечо ружье, потоптался около постели Черского, вытер рукавом веснушчатое лицо.
— Значит, я тово, Иван Диментьевич, пошел. Потерпи до завтра, Диментьевич. Я найду твоего Друга.
Мавра Павловна еще долго слышала треск прутьев и скрежет камней под ногами уходящего проводника. До нее докатилось слабое эхо выстрела: Степан просигналил, что ушел в горные распадки.
Мавра Павловна укрыла мужа, примостившегося к нему сына, подоткнула под их бока одеяло и опять присела к костру. При неверном, мелькающем свете она стала переписывать свой дневник. Все, что говорил муж, она аккуратно и точно записывала. И свои впечатления от путешествия тоже заносила в дневник.
Над вершинами Сиен-Томахи прорезывалась заря, река дышала сыростью, трава сонно склонялась к земле. «Где-то далеко на западе, за десять тысяч верст отсюда, — Петербург, Невский проспект, Академия наук, — подумала Мавра Павловна. — Неужели я ходила по Невскому, смотрела на адмиралтейскую иглу, любовалась Медным всадником? Странно! Неужели видела зеркальные витрины, спала на простыне, слушала музыку, беседовала с Семеновым-Тян-Шанским? Просто не верится!»
Женщина зажмурилась. Легкие видения потекли перед ней. Картины недавней жизни вставали перед глазами, яркие, выпуклые. Она словно раздвоилась. Она видела себя в петербургской квартире и на берегу пустынной реки одновременно. Та, первая Мавра Павловна, одетая в синее бархатное платье с белым отложным воротничком, с волосами, зачесанными на высокий лоб, была спокойной и улыбающейся. Эта, вторая, в грязной брезентовой куртке, в грубых яловых сапогах, — тревожная, напряженная, в постоянном ожидании большой беды.
Мавра Павловна видела себя, как видят во сне, живо и осязаемо. Та, первая, неслышно и неуловимо отодвигалась в туманную даль и все улыбалась другой, все улыбалась голубыми спокойными глазами.
От этой печальной ускользающей улыбки своего двойника Мавре Павловне стало не по себе.
Она выпрямилась над угасшим костром и вытерла слезы. Тлеющие угли еще мигали синими беспомощными вспышками, пепельные узоры припорошили грязные сапоги…
И вдруг Мавра Павловна увидела себя тринадцатилетней девочкой в маленьком домике на берегу Ушаковки в Иркутске.
Казалось бы, совсем недавно в доме ее матери прачки поселился молодой геолог Иван Черский. Мать сдала ему боковушку, в которой умещались только стол, стул и кровать. Молодой человек нравился и матери и ее дочерям Мавруше и Оле своей скромностью, необычайной работоспособностью и ученостью.
Когда квартирант узнал, что они неграмотные, он лишь потеребил русую бородку и покачал головой.
— Их надо учить грамоте.
— Средствов не хватает на школу, — ответила мать.
— Я их буду учить бесплатно.
Черский стал обучать сестер грамоте и обрадовался, когда заметил необыкновенные способности в Мавруше. Девушке легко давалась грамота. Ее успехи поражали учителя. Он видел в ней самого себя, со своим всеобъемлющим интересом к науке. От наивных вопросов: что такое Земля? что находится внутри Земли? почему летают птицы и плавают рыбы? — она переходила к все более трудным и глубоким.
Через год Черский дал Мавруше переписать рукопись своего нового научного труда. Девушка переписала без единой ошибки, даже латинские термины начертала точно, хотя и не знала латыни.
— Мавруша — самородок! Ее надо учить и учить, — решил Черский.
Белокурая, с неправильным, но одухотворенным нежным личиком Мавруша словно освещала убогую комнатушку молодого ученого и его однообразные, заполненные работой дни. Ее голубые, ясные, как байкальские лесные цветы, глаза неотступно следили за Черским, и он часто смущался перед их испытующим, восхищенным взглядом.
Ученица обожала своего учителя.
Учитель открыл ученице тайны мира и силы науки. Он научил ее страсти- познавания и любви к красоте родной земли. Он дал ей знания, а с ними и радость творчества.
Учитель был молод и обаятелен, умен и талантлив. И ученица любила его со всей восторженностью юности.
Когда он уходил в очередные экспедиции по Восточным Саянам, ученица ждала его со светлой грустью, ждала жадно и нетерпеливо. При возвращении он рассказывал ей о своих впечатлениях.
Он говорил просто и образно, и она видела, как вспыхивают, переливаются берилловые воды Байкала, как пронзительно белеют вершины Хамар-Дабана, как задувает «баргузин» над славным священным морем.
Затаив дыхание слушала ученица рассказы о Байкале.
— Байкал можно назвать музеем живых ископаемых, — говорил Черский. — В разные геологические эпохи жили они и не вымерли до наших дней. В байкальских глубинах обитает голомянка, рыбка, почти прозрачная. Посмотри при дневном свете и увидишь внутренности ее. А байкальские широколобки? Серые, почти зеленоватые в коричневых пятнышках. Тонкие и длинные, как веретена. И живут на глубине, достигающей версты. Кстати, знаешь ли ты, что Байкал самое глубокое озеро мира?
— Нет, не знаю, — отвечала ученица, глядя на учителя снизу вверх.
— Глубины его огромны. Около острова Ольхова глубина свыше полутора верст. А дно Байкала ниже морского дна, ну примерно, — он задумывался на минутку, — примерно свыше версты. Такой другой впадины на земле пока не обнаружено.
Раскрыв голубые глаза, она напряженно, не мигая, глядела на учителя. Он видел восхищенное сияние ее глаз и, невольно смущаясь, продолжал:
— Байкал полон удивительных загадок и для геологов и ботаников. Наука наша пока еще не имеет геологической карты Байкала…
— Как бы я хотела попутешествовать по Байкалу! — вздыхала ученица. И робко добавляла: — Вместе с вами…
— Что же, мысль великолепная! Вот подучишься еще, и поедем, — соглашался учитель.
Черский провел на Байкале два года со своим другом, профессором Варшавского университета Бенедиктом Дыбовским.
Бенедикт Дыбовский тоже был царским ссыльным, как участник восстания восемьсот шестьдесят третьего года. Талантливый зоолог и палеонтолог пристально изучал природу Байкала и склонов Яблоневого хребта.
Дыбовскому принадлежит честь первоисследователя байкальской фауны. Это он доказал, что многие из обитателей байкальских глубин водятся только здесь и нигде больше. За блестящие работы по байкальской фауне Русское географическое общество наградило ссыльного профессора золотой медалью.
В первые годы жизни Черского в Иркутске Дыбовский был его учителем зоологии и особенно палеонтологии. Прошло несколько лет, и Дыбовский уже сам обращался к Черскому за советом, когда дело касалось третичных ископаемых.
Друзья-ученые самоотверженно изучали Байкал.
У них не хватало средств на инструменты — они изготовляли их сами. Сами вили веревки для измерения озерных глубин. Сами построили на полозьях юрту — передвижной домик для зимней работы. Во имя науки они жертвовали всем, что имели.
Увлекательная работа с Дыбовским неожиданно оборвалась. Царь «простил» опального профессора, и Дыбовский выехал в Петербург. Изучение Байкала оставалось незавершенным.
И вот тогда-то Сибирский отдел Географического общества предложил Черскому продолжать научные работы на Байкале.
Черский немедленно согласился.
Он явился домой словно обмытый солнечным ливнем и положил перед Маврушей инструкции Сибирского отдела.
— Смотри, Мавруша. Мне предстоит огромная и увлекательная работа. Я буду несколько лет изучать Байкал. Вот инструкция, в ней тринадцать важнейших научных вопросов. Что же я должен делать?
Он откинул назад волосы, поправил очки, поднял левую руку. Мавруша следила за каждым его жестом, любовалась его разгоряченным лицом.
— Я должен, — повторил он, прищуривая карие глаза, — должен обратить особое внимание на метаморфические процессы, постигшие горные породы Байкала. Должен установить время происхождения горных долин. И наблюдать проявление вулканических сил. И отыскать следы ледникового периода. Изучать провалы байкальского дна и отмечать нынешний уровень его вод. Я должен составить подробную геологическую карту берегов и островов Байкала, обозначить места полезных ископаемых, минеральных источников, горячих ключей. И еще я должен собрать коллекцию горных пород и минералов и остатков третичных животных…
— Тринадцать «должен»! Как на смех, чертова дюжина! А что должна делать я? — неожиданно спросила Мавруша.
Он замолчал, озадаченный ее неожиданным вопросом. Перед ним сидела уже не девочка-подросток, а семнадцатилетняя девушка с ярко влюбленными глазами, необыкновенно милым, выразительным лицом. Белокурые волосы окружали это лицо полупрозрачной дымкой.
Черский вдруг понял, что без Мавруши ему уже больше невозможно и жить и работать. Счастье, неуловимое и легкое, как всплеск волны, родилось в его душе.
— Что же должна делать я? — опять тихо и печально повторила Мавруша.
— Ты должна стать моею женою, — выпалил он, голубея от радости.
После свадьбы молодожены отправились в экспедицию на Байкал.
Молодая женщина твердо решила стать помощницей мужу. Впервые в жизни покинула она Иркутск и очутилась на легендарном озере.
Байкал, Байкал!..
«Славное море, священный Байкал». Сколько народных легенд создано о тебе, сколько спето каторжных песен.
Байкал, Байкал!..
(Давно погасли синие угольки в костре, но, странное дело, они переливались то жидким золотом, то аквамарином. Угли снова горели, но только холодным светом зари.)
Заря занималась над Колымой, вишневая, будто окровавленная. Как же она не похожа на легкие, добрые байкальские зори…
В эти незабываемые байкальские зори летел их парусник, черпая бортами волну, подрагивая на бездонной воде.
Парусник шел по озеру, и горные берега уходили с севера на юг, похожие на гигантские цветные декорации.
Но еще более грандиозной была спокойная гладь Байкала, напоминающая отполированное голубое стекло.
Молодая женщина понимала, что про такие явления природы, как Байкал, нельзя рассказать словами, их невозможно описывать в книгах. У каждого человека свои представления о размахе, величии и красоте природы. Чем талантливее человек, тем ярче его представления, но даже гений бессилен вылепить космический образ.
Мавруше же казалось, что она всего лишь радужная капля байкальской волны, что гибко и мягко колеблется у борта.
С той минуты, когда парусник отчалил от берега и заскользил по озеру, ее не оставляло ощущение полета в неведомое, но прекрасное будущее. Она чувствовала этот полет каждой жилкой и клеточкой мозга, и ощущение это утраивало ее силы.
Муж управлял парусом, стоя во весь рост у забрызганной мачты, и казался ей воплощением силы и мужества. Он был для нее открывателем мира и разгадчиком тайн. «Вот он, Байкал, самое глубокое озеро на земле! Какие же силы создали эту глубочайшую впадину? К разгадке этой тайны стремится Иван Дементьевич, мой муж. На байкальских берегах бьют горячие источники, и температура их — семь-десять градусов. Почему? Это выяснит он, мой муж. В пресноводном озере живут морские животные — тюлени. Как они попали сюда? Может быть, когда-то давно, невероятно давно, Байкал был морем? Все это проверит и установит муж мой. А я буду его скромной и верной помощницей в поисках и открытии неведомого».
Накренившись вперед, сидела она на корме парусника, переживая ощущение полета и любуясь передвигающимся миром.
Мрачные фиолетовые вершины Баргузинского хребта и холодные, одетые в кованое серебро снегов головы Хамар-Дабана не могли погасить радостное ее настроение. Может быть, потому, что тени опрокинутых в байкальскую глубину горных вершин были зыбкими, полупрозрачными и доступными. Протяни руку, опусти пальцы в воду, и тени проскользнут, прольются между пальцами — доступные тени недоступных вершин.
Тонкое журчание убегающей от парусника воды пело в душе молодой женщины.
Она поймала себя на странной и приятной мысли — все звуки, шепоты, всплески поют в ней самой. Звук падающего в воду камня раздавался в ней раньше, чем достигал слуха. Треск раздуваемого костра шуршал в ее ушах, прежде чем разгорался костер. Желтые зигзаги огня плясали в ее глазах еще до своего появления. «Я счастлива, я люблю, не потому ли все чудится в радужном свете?»
Видно, нет такой женщины, которая не переносила бы своего счастья на все, что ее окружает. Счастье в понимании мужчин неопределенно и необъяснимо словами. Счастье для женщины всегда конкретно и осязаемо. Она вспомнила, как в детстве тетка подарила ей земляники и сказала: «Возьми кисточку на счастье». Она смотрела на землянику и повторяла: «Кисточка счастья, кисточка счастья!»
Она вспомнила этот малюсенький эпизод своего детства и широко улыбнулась.
— Ты что? — спросил Черский, направляя парусник к берегу.
— Вспоминаю…
— Что же ты вспоминаешь?
— Радости своего детства.
— Я не знаю детства без радости, — ответил он. — Мне непонятны слова о безрадостном детстве. Детство — это и есть наша первоначальная радость.
— А что такое счастье?
Он сдвинул русые брови и приподнял голову. Солнечные искры вбежали в очки, проплясали в них и погасли. Они появились на его губах, на подбородке, скатились на грудь и снова погасли.
«Счастье как солнечные капли», — подумала она, глядя на мужа и ожидая его ответа.
— Человек счастлив ожиданием счастья. Самого счастья не существует, — ответил он.
Его ответ не удовлетворил ее, ибо она была в эти минуты счастлива и понимала счастье по-женски, конкретно и осязаемо.
Парусник причалил к берегу. Они приступили к работе: измеряли глубины и высоты, лазили по скалам, собирали камни и растения, определяли геологический возраст горных пород — словом, делали бесчисленное количество маленьких дел, без которых невозможна работа любого ученого.
Шли дни, спешили недели, а они работали как одержимые.
По вечерам к их костру на берегу озера заглядывали кочевники буряты — тихие, спокойные люди. Они садились на корточки, закуривали трубки и молчали, ничему не удивляясь, ни о чем не расспрашивая. Иногда мурлыкали свои непонятные песни, но Мавруша вдыхала из этих песен запахи горького дыма и байкальских цветов.
Однажды к костру подошел таежный бродяга, маленький человек, рыжебородый и желтоглазый, оборванный и грязный. Иван Дементьевич был на скалах, и Мавруша подозрительно скосилась на пришельца.
— Здравствуй, — сказал он неуверенно. — Дашь посидеть у костра?
— Садитесь.
— А то, может, боишься меня? Тогда я уйду…
Робкий и виноватый голос бродяги успокоил ее.
— Я нисколечко не боюсь. Может быть, чайку?
Бродяга хмыкнул.
— Я ведь того, убивец. Бежал из острога. Домой возвращаюсь. Да вот оголодал, оборвался, сил нету. Так ты не боишься убивца?
— Я сварю чай и приготовлю ужин, — ответила она, не отвечая на вопрос бродяги, но холодея от страха. В это время вернулся Иван Дементьевич и поздоровался с бродягой, будто со старым знакомым.
Бродяга назвался Максимкой. При свете костра он рассказал Черским горестную повесть своей жизни. Он рассказывал свою жизнь не так, как многие, — длинно, сбивчиво и бестолково, а от вопроса к вопросу. Спросят — ответит. Спросят снова, помолчит, подумает и отрежет: «В этом разе вышла у меня закавыка, и я все позабыл».
— Где же ты родился, Максимка? — спрашивал Черский.
— Где-то под Красноярском.
— Что же ты делал до каторги?
— Скитался по тайге. Мыл золото с голью, пропивал со шмолью.
— А потом?
— Шильничал…
— Это что такое?
— Носил спирт на золотые прииски.
— За что же попал на каторгу?
— За то, что спирт таскал и бродяжничал…
— Вы же сказали мне, что человека убили? — удивилась Мавруша. — Зачем на себя напраслину возвели?
— А хотел тебя припугнуть. Вот на, мол, тебе, убивец! Как ты себя с убивцем восчувствуешь. А ты ничего, не из пужливых.
Максимка почти месяц прожил с Черскими на Байкале. Он помогал в работе, ловил омуля, стряпал обед, запасал дрова. Янтарные глаза его были подернуты какой-то грустной дымкой, и ходил он, словно невыспавшийся человек.
— Я завтра уйду, — объявил он Черскому. — Пора мне.
— Живи у меня. Куда ты пойдешь?
— В Расею.
— Так ты же родился в Сибири. Где-то под Красноярском. Зачем же тебе в Россию?
— А я, чать, русский. Надо мне по Расее походить, или тово, как этово, не надо? То-то!
Черский достал несколько рублей.
— Возьми на расходы. Купишь рубашку, портки.
— А мне то на что! И в этом тряпье обойдусь.
Он все-таки взял серебряный полтинник, но перед уходом бросил его в Байкал. Полтинник ушел на десятисаженную глубину и сверкал на дне, как маленькая луна. Монету окружили омули, а Максимка смотрел и по-детски хихикал.
— Зачем ты бросил полтинник? — спросил Черский.
— Батюшке Байкалу заплатил за перевоз. Ну ты, однако, прощай! Мужик ты хороший, и жена твоя — тоже! Оба вы душою как хлебные мякиши, таких злой да голодный с ходу проглотит…
Максимка ушел, оставив по себе полынную грусть. Им несколько дней не хватало печального каторжника, пока новые заботы не размыли о нем память.
Рыбачий парусник продвигался вдоль берега. Черский осматривал каждый выступ, трещину, мыс. А байкальские мысы появлялись и развертывались непрерывной вереницей.
Они обследовали полуостров Святой нос и вошли в Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала.
Кривые березы свисали над прозрачной водой, словно зеленые, позабытые природой знамена. Скалы вставали из глубины средневековыми замками, готическими костелами, несокрушимыми крепостями, угрюмые и пустые. Лишь на их плоских, крутых, покатых вершинах розово дымились рододендроны. Водопады срывались со скал, обдавая водяною пыльцой цветы, и они из розовых становились червонными. Ручьи и речки впадали в залив, пенясь и клокоча на отмелях, прыгая через гниющие тополя.
— Это же необыкновенно, Мавруша! — воскликнул Черский. — Ты только взгляни, — показал он на одинокий тополь, растущий под отвесной скалой.
Пенная, узкая и кривая струя водопада падала в кудлатую побуревшую вершину тополя, и его листва раскручивала водопад на тысячи блистающих нитей. Дерево было обвито бегущими нитями и шевелилось, словно живое, и боролось с водою. Оно то пригибалось, то отшатывалось, то опять бросало свою листву на кривой и узкий клин водопада.
— Сказочно! Неповторимо! — с восторгом отозвалась она и подумала: «Я уже до конца своих дней не позабуду этого тополя».
Лето восемьсот семьдесят восьмого года, когда они вместе путешествовали по Байкалу, ей тоже не позабыть до смерти. Им сопутствовала удача, Байкал открывал свои загадки и тайны. Осень застигла их в северной части озера, около устья Верхней Ангары.
И осень это незабываема, как сладкое воспоминание о невозвратимой юности.
Березовые и тополиные листья лежали золотыми медалями на почерневшей воде, а вода уже была наглухо запаяна осенью. Воспаленные травы сваливались на землю при первых посвистах «баргузина», воздух был пронизан холодком увядания, лихорадочно отсвечивала тайга на окрестных сопках.
Наступившие заморозки оборвали это незабываемое путешествие по Байкалу. Путешественники возвратились в Иркутск.
Лицо Черского дышало творческой радостью. Он собрал огромный материал; факты, факты, факты были в его руках, — кирпичики жизненных доказательств для научных обобщений. Можно уже делать общие выводы о природе Байкала, можно составлять его геологическую карту.
Но Черский был ученым, не терпящим небрежности и легкомыслия в работе. Еще не изучен западный берег Байкала. Еще неизвестно, что там, как там. В будущем году надо собираться в новое путешествие.
В семье Черского происходили свои, незаметные перемены. Мавруша ожидала первенца. Старшая сестра ее Ольга вышла замуж за иркутского прасола. Старуха мать Мавруши осталась жить с Черским: ее певучий раскатистый голос не умолкал в теперь уже просторной квартире.
Теща благоговела перед зятем-ученым: добрые, морщинистые руки заботливо шныряли по письменному столу, украшали его таежными цветами.
А Мавруша начисто переписывала «предварительный отчет» мужа об исследовании Байкала. Страница за страницей, десятки, сотни страниц проходили через ее веселые руки. Но она уже не была механической переписчицей, ее пытливый ум многое понял и усвоил из бесед с Иваном Дементьевичем.
Она переписывала строки мужа о том, что байкальские горы состоят из пород лаврентьевской формации, и знала — это самые древние геологические породы. Она знала, что в доисторические времена все вокруг Байкала затоплялось Мировым океаном, кроме Саян, его отрогов и Хамар-Дабанского плоскогорья. Она уже понимала, как возникают горные цепи, почему изменяются их мощные складки и что в послетретичное время уровень Байкала был значительно выше нынешнего.
С особой увлеченностью проникала она в тайны байкальской флоры и фауны — живая природа все-таки интересовала ее сильней, чем мертвые камни.
Весной восемьсот семьдесят девятого года Черский отправился в свою, третью по счету, экспедицию на Байкал. Мавруша не смогла поехать с ним — родился Сашенька.
В третьей экспедиции Черский исследовал западный берег, посетил самый крупный байкальский остров — Ольхон. Шестьсот километров на рыбачьей лодке проплыл ученый, собирая факты и факты — маленькие непреложные доказательства для науки.
Четыре года изучал Черский великое сибирское озеро. Исследования Байкала принесли ему славу, как ученому и путешественнику.
Русское Географическое общество присудило ему Золотую медаль за исследования Байкала.
Его геологическая карта байкальской береговой полосы демонстрировалась на Международном географическом конгрессе в Венеции. Все географы и геологи мира, интересуясь Байкалом, не могли уже обходиться без карты Черского и его трудов.
А Черский по-прежнему жил в Иркутске, как царский ссыльный. Не только экспедиции, но и любая отлучка его из города требовали особого разрешения генерал-губернатора. Ученый, как преступник, ходил отмечаться в полицейском участке.
Из Сибирского отдела ушли его друзья и покровители. Их место заняли мелкие завистники и бездарные ремесленники от науки.
— Кто такой этот Черский? Самоучка-недоучка!
— Враг империи!
— Потрясатель основ!
— Ему отвалили за карту триста целковых! Глупо!
— Его «труды» печатаются во всех номерах «Известий» Сибирского отдела. Смешно!
Мелкие души похожи на крыс: они подгрызают талант незаметно, но терпеливо. Скользкое хитросплетение словечек может ударить больнее, чем плеть.
— Этот недоучка забыл, что ему еще разрешается дышать воздухом империи, — услышал однажды Черский за своей спиной.
Он шел по коридору Сибирского отдела, мимо сотрудников, и шепоток настиг его, как удар ножа. Он вздрогнул, но не обернулся. И не ускорил шага. Но было гадко, скверно и липко, словно он случайно задел паутину в заплесневелом углу. Он даже представил себе такой угол; в нем берложится мгла и дремлют мохнатые, настороженные паучки.
Счастье начинается тогда, когда кончается какое-нибудь несчастье.
Это смешное, почти обывательское изречение оправдалось неожиданным образом. Русское Географическое общество добилось освобождения Ивана Дементьевича из ссылки. Сам Семенов-Тян-Шанский хлопотал и просил царя помиловать известного ученого-путешественника.
Окончились долгие годы царской ссылки. В 1885 году Черские покинули столицу «золотых миражей» — Иркутск…
(А кровавая колымская заря полностью овладела блеклым небом, мрачными вершинами Сиен-Томахи, рыжей и голой рекой. Нет, не похожи колымские тяжелые зори на рассветы Байкала.)
Мавра Павловна поднялась, разминая затекшие ноги, и тихо побрела к реке.
Карбас — жалкое юкагирское суденышко, ставшее ее зыбким домом, — все поскрипывал а подрагивал на быстрой воде. Мавра Павловна подошла к суденышку и ахнула от восхищения.
Карбас стал малиновым от зари. Поникший парус, грязные рогожи, ржавые борта весело светились. Вершины Сиен-Томахи плыли в воздухе, легкие и доступные, лиственницы, выбежавшие на берег, замерли над рекой.
Из речной глубины всплывали золотые монеты, будто кто-то чеканил их на дне и выталкивал на поверхность. Монеты сливались в сплошной сверкающий поток, и он захватил всю реку. Река пылала от берега до берега, и вся эта расплавленная масса торжествующе неслась на север.
И ничего, кроме зари, не было на реке.
Мавра Павловна взбежала на карбас, подняла парус. Грязный парус хлопнул по воздуху, набух зарею, залоснился и потеплел.
— Мавра Павловна! Мавруша…
Голос Черского прозвучал молодо и призывно.
Мавра Павловна облегченно вздохнула, сбежала по трапу на берег. Выскользнувший из рук парус вздыбился оранжевым грибом на палубе, но она уже не замечала его.
Черский сидел на постели: в растрепанной бороде заблудилась роса, на землистых щеках проступил спелый румянец.
— Мне стало лучше, кашель прекратился, температура упала.
— Слава те богу, — перекрестилась Мавра Павловна. — Хочешь, я умою тебя?
Черский пропустил сквозь пальцы бороду, рассмеялся. Его тихий беспричинный смех еще сильнее взбудоражил жену: она протянула руки, чтобы помочь ему приподняться.
— Я умоюсь сам. Хочется крепкого чаю.
— Сейчас, сейчас! Я моментально раздую костер.
Прежде чем умыться, Черский долго смотрел на свое смешное, вытягивающееся в воде лицо, потом опустил руки в реку. Вода была холодной до ломоты, каждый глоток обжигал, пьянил.
Потом он пил бордовый чай, причмокивал губами, скашивая глаза на спящего сына.
— Неужели Степан не найдет Шарогородского? — спросила Мавра Павловна, наливая вторую кружку чая.
— Не волнуйся, Мавруша, он найдет Станислава. Наш Степан в тайге как хозяйка на кухне.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Довольно длительный период в короткой жизни Эдгара По, проведенный в Вест-Пойнте, где он попытался сделать карьеру, которую Аллан считал для него наиболее подходящей, можно рассматривать в целом как своего рода духовную интерлюдию. Продлилась она с
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Ночное путешествие пророка из Мекки в Иерусалим и оттуда – на седьмое небо.Когда найден был приют для Магомета в доме Мутема ибн Ади, одного из его последователей, пророк отважился вернуться в Мекку. За сверхъестественным появлением духов в долине
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Приходит Подуст из отпуска, и начинается. Почему мы называем ее Лидия Николаевна, а не «гражданка начальница»? Объясняем, что нам она не начальница. Не нравится имя-отчество — будем звать по фамилии. Почему без косынок? Напоминаем, что косынки никому из
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая «Ах, как мы проводили наши вечера, — вспоминает первая леди. — Вчера мы ужинали вдвоем, разговаривая о Эде Гуллионе, американском посланнике в Конго, мы говорили, что он замечательный человек, который был не у дел в течение восьми лет… и Джек сказал, что
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая 1. Здесь и далее цитируется в переводе Н. Любимова (М.: Художественная литература, 1976).2. M. Proust. Remembrance of Th ings Past / Пер. на англ. C. K. Scott Montcrief, Terence Kilmartin и Andreas Mayor. N.Y.: Vintage Books, 1982. Т. I. Р. 24. Все переводы Пруста на английский язык взяты из этого трехтомного издания. М.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 1Его жилье напомнило Лотте парижские антресоли, где девочка угощала мальчика слоеными пирожками; Лотта печально недоумевала: мое «я» при мне, но куда же девалось то, что было моим «я» десятилетия назад? В такие мгновения внезапно осознаешь долготу
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая 4 декабря 1838 года в Рим приехал сын государя императора великий князь Александр Николаевич. Получив превосходное образование, он, согласно тщательно продуманной В. А. Жуковским программе обучения, подготавливался теперь к предстоящим ему
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Кролик Иван Петрович и дети Буньюэля. Начало войны. «Темная ночь». Моя первая пластинка Маленький Делано был прелестен. Помню, как мы с Никитой учили его есть «по-взрослому» – вилкой и ножом. Он слушал внимательно. Через несколько дней мы вернулись
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Петр Аркадьевич Столыпин. — Макс Вебер и Теодор Шанин против Столыпина. — Итоги столыпинской пятилетки Даже спустя почти 50 лет, уже после Второй мировой войны, Шульгин смотрел на Столыпина как на спасителя. В его дневнике есть запись, из которой все
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Малейшее осложнение выводило из строя.К тридцати годам нервная возбудимость граничила с открытой истерией. Все годы ей не давала покоя зыбкость, нестойкость ее положения, расплывчатость будущего. Ей хотелось стабильности, твердой почвы, законной и
Глава двенадцатая.
Глава двенадцатая. Никопольский истребительный15 мая наступление войск Северо-Кавказского фронта было остановлено. Представитель Ставки маршал Г. К Жуков провел разбор завершившейся операции и убыл в Москву. Кубанские бои закончились и для нас. В ходе их мы приобрели
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Вернемся на планету Марка. Изменчивую планету-кунсткамеру, в каждом уголке которой тебя ожидает нечто, наличие чего ты даже не можешь предположить. Иконы на полке книжного шкафа прислонены к альбомам с коллекциями детской порнографии. Эсэсовская форма
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая Мирополов прошел за шкафы в жарко натопленный, до блеска начищенный угол своего Blockдlteste и решительно заявил:– Отказываюсь. Не могу.Староста подскочил на табуретке. Это был здоровенный рыжий детина из Киля, портовик, проломивший в пьяной драке голову
Глава двенадцатая
Глава двенадцатая 1Шесть союзных армий – 1-я канадская под командованием генерала Крерара, 2-я британская генерала Дэмпси, 1-я американская генерала Ходжеса, 3-я американская генерала Паттона, 7-я американская генерала Пэтча и 1-я французская генерала де Латтр-де-Тассиньи
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ В пушкинские дни 1937 года Яхонтов исполнял не только новые программы.В концертах он читал свои маленькие шедевры: «Заклинание», «К морю», «Рассудок и любовь», «Ушаковой» («Когда, бывало, в старину…»), «Череп», «Певец», «Песни о Стеньке Разине», «Памятник».