III. ЗАПИСИ ПЕРЕД СНОМ
III. ЗАПИСИ ПЕРЕД СНОМ
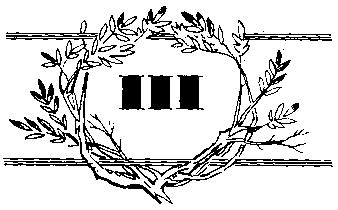
Стопки маленьких блокнотов за многие годы…
Я боюсь их перелистывать — волна прошедшей жизни моей бьет мне в голову, мне становится печально, хочется пережить все заново, пусть так же, но умней, собранней, о каком?то событии, чувстве записать вместо нескольких фраз целую страницу. Я давно знаю, что человек не все помнит из своей жизни, многое помнит не так, кое от чего отказывается, перекрашивается задним числом; записи уличают нас старой правдой. А сколько волнения, когда наткнешься даже на списочек намеченных к чтению книг! Когда?то жаждал прочитать, открыть что?то в романах П. Мельникова — Печерского «В лесах», «На горах», в воспоминаниях И. Репина «Далекое — близкое», в эссе Р. Роллана «Жизнь Микеланджело»; когда-то любил «Зачарованную Десну» А. Довженко, изучал «Районные будни» В. Овечкина. Чему?то хотел научиться, что?то в выписках совпадало с твоим мироощущением, за чьими?то желаниями пытался угнаться… И за каждой строкой — точной ли, младенческой, глупой или поспешной — твоя жизнь. И надо признать себя таким, каким ты был в мгновения откровенности с самим собой.
— Ведите записные книжки! — говорю я молодым литераторам на занятиях. — Не придумывайте что?то мудрое, удивительное, пишите как бог на душу положит: постепенно вытянется по страничкам движение жизни. Память в чернилах не слиняет.
Сам не зная зачем, я делал в течение многих лет записи перед сном.
1956 год
Узнать адреса: М. Куприной — Иорданской, Н. Телешова, М. П. Чеховой, К. Паустовского, Е. и А. Есениных, П. Чагина, Е. П. Пешковой[1].
12 мая. В Москву! По дороге завернуть в Вешки. После фестиваля разыскать съемочную группу «Тихого Дона», махнуть в хутор Диченский. Это будет жизнь.
«Пишу я трудно, — сознался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма слишком медленным и даже унижающим, мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — вдруг почему-то вспоминаются геометрия, алгебра и учитель орловской гимназии. Он часто вспоминал слова какого?то философа: «Истинная мудрость спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К черту спокойная мудрость! И что же на ее место? Красоту? Да здравствует!..» (М. Горький о Л. Андрееве).
Один из первых рассказов Вс. Иванова начинался так: «В Сибири пальмы не растут».
«Это я знаю», — сказал А. Блок и не стал читать рассказ.
«…Я был поражен, когда во время моего второго приезда в Советский Союз кто?то сказал мне, что Шолохов работает над новым вариантом «Тихого Дона». Произведение закончено… оно не должно быть изменено, потому что работать над ним будет другой Шолохов, более зрелый, накопивший новый опыт, что повлечет нарушение внутреннего строя оригинала. Если произведение имеет недостатки, пусть они и останутся. Один лишь бог совершенен…» (Тойн де Фрис, «Иностранная литература», № 11).
1956 год
Любовь к старине. К России. За что я люблю старину? Пейзажи Ф. Васильева с русскими деревеньками?
В станице Вешенской.
В Миллерово на автобусной остановке толпился народ. Я повертелся у кассы и, убедившись, что законным образом (выстояв очередь) мне сегодня не уехать, пошел прямо к начальнику станции.
— Я студент. Мне надо к Шолохову.
Начальник безропотно провел к грузотакси.
— Базки? Вот устройте студента.
Было 10 часов, когда мы выехали на тракт. Жара! Я вертел головой по сторонам. «Степь родимая!..»
В четвертом часу с высокой горки спускались к Базкам. До парома я шел пешком. Над Доном пекло солнце. Казачата плавали, истошно кричали. Когда переплывали, одна казачка угостила меня грушами. В голове моей звон, ноги подкашиваются.
На другом берегу я подался искать квартиру. Обошел несколько дворов. Дедушка высунулся из двери на высокое крыльцо.
— К кому? К Шолохову? У нас нельзя, невестка болеет. А зачем к Шолохову?
— Так. Хороший Шолохов?
— Хоро — оший, — протянул дед. — Для себя! Дом, видел, какой выстроил? Н — е-ет, у нас нельзя, вот к ним сходи. Она с мужем живет.
Ничего удивительного: когда живут люди рядом, всегда завидуют — пишущие завидуют славе Шолохова, соседи — тому, что у него двухэтажный дом.
1956 год
Рязанский дневник. Читал на пристани Паустовского, смотрел и слушал, как бабы и мужики потешаются над пожилым дурачком, много курил и мучительно ожидал катера, подходил к доске с расписанием, читал названия деревень: Разнежье, Коростово и др. А днем ходил по городу, мимо скверов и церквей, одинокий, голодный. В чужом городе жизнь кажется таинственной, но она такая же, как везде. А какие виды на Оку! Русь!
1957 год
«Никто не обнял тебя за плечи, пока было еще не поздно… Теперь глина, из которой ты сделан, засохла и затвердела, и ничто не может разбудить того заснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда?то…» (Антуан де Сент — Экзюпери).
1958 год
30 октября. Выйду в город, к камышам, и вспоминаю Сибирь. Шорох камышей похож на шорох пересыпаемого зерна. Глянешь налево — желтым закатом горит акация. Небо тускло. Что делает сейчас моя матушка? Сидит ли одна или у соседок? Как далеко я заехал!
1956 год
Жизнь на хуторе Новопокровском, в бывшей усадьбе графа Сумарокова — Эльстона, среди курчавого гористого леса, в долине — эта жизнь, конечно, вспомнится мне. Воспользуюсь сельским уединением, вдоволь почитаю, поближе узнаю людей. В каждом маленьком мире свои страсти, конфликты, а та борьба, где ты был, уже пропала. Но странно: когда я приехал в город на каникулы, некоторые знакомые шли мимо меня не замечая, с чувством превосходства; им, наверное, кажется, что нельзя всерьез принимать человека, которому суждено ничего не добиться: он?де загнал себя в глушь и там пусть прозябает, а мы… мы идем к вершине карьеры. Все сельское в умах некоторых книжников — это еще что?то отсталое, навозное, но статьи они пишут «с великим уважением к хлеборобу — труженику»… Между тем в нашей долине так хорошо, а недавно я повстречал брянских стариков. Такой русской речи я давно не слышал! Хожу к ним за молоком… «Подходит чистый четверг, паску несут, а она никак не дождется, рукой гребет ветер к себе…» (Мария Матвеевна). И поют русское:
Давно я, давно у матушки была,
А уж моя дороженька травою заросла…
А ночью я читаю книгу В. Н. Муромцевой — Буниной — «Жизнь Бунина». Книги укрепляют мою любовь к деревне.
1963 год
(к «Тоске — кручине»)
Как иногда тяжело смотреть на чужие окна, на потолки с желтым светом от абажуров, на вечное постоянство жильцов, на законченную устроенность быта. Ездишь, и нет у тебя ничего, кроме плацкарты в кармашке, и ничего тебе не надо, но почему иногда грустно становится от чужих окон?
Сколько преувеличений в молодых записях! «Я конченый человек». Отчего, почему? Откуда такое настроение? «Мне никогда не быть беспечным». Уж я ли не был беспечным все пять лет в институте? От каждого пустячка в молодости то загораешься огнем мечты, то падаешь в пропасть уныния. А на тех, кому суждено писать или кто уже пробует писать, влияет даже перо с бумагой. Там, где положено написать «мне грустно», нажимают: «Я погибаю!» Все это читаешь потом со смущением.
1968 год
Читаешь какую?нибудь критическую статью и думаешь: а для кого это написано? Для читателя? Нет. Слишком неинтересно. Для писателя? Тоже нет. Много хитрости, мало заботы и уважения. Для самого себя? Невероятно, чтобы себя так не уважали. Так для кого же?
Вина их не в том, что их рука плохо водит перо. Вина их в абсолютном бессердечии, в том, что они ни одного стихотворения, ни одного очерка не написали в защиту человека. И это уже не вина даже, а нравственное преступление писателя.
На сцену вышла пожилая купеческая дочь в черном чешуйчатом платье, покрытом каким?то прозрачным одеялом; с шеи до живота (по неувядшим холмам) спускалась белая цепочка, на конце которой были не то часы, не то солонка. Шея певицы напоминала короткую сваю, но лицо было миловидно. Она рассказывала театральные курьезы, а пела мало.
…Записал, довольный своим «сатирическим пером». А недавно узнал историю этой актрисы, человека очень несчастного и очень доброго, милейшего, и подумал: не надо торопиться упражнять свою зрительную память, поосторожней надо быть в наблюдениях и никогда прихотям своего профессионального словотворчества не давать волю. За внешностью чаще всего что?то кроется, но порою внешне веселое и даже нелепое поглощает горе.
1970 год
— Знаешь, старичок, — сказал как?то Ю. Казаков, — я слишком много сил отдал литературе. Я устал.
И я понимаю его. «Сил» — не значит вовсе, что сидел и обсасывал слова. Слишком много жил ради литературы, думал о ней, урезывал себя ради нее…
Один писатель сказал кому?то про меня, что я будто бы каждый раз перед новой страницей начитываюсь до краев Буниным и потом шпарю нечто похожее на одном дыхании. Удивительно, как могла писателю прийти в голову такая чушь! Если нет ничего на сердце и жизнь тебя не затягивает, никакая настройка инструмента не сгодится. Что?то вроде молитвы пробовал творить я по утрам. Читал одно — два стихотворения Пушкина, Боратынского, Тютчева. Или наугад раскрывал «Словарь — справочник «Слово о полку Игореве» — там цитаты из летописей и древнерусской литературы. Но бросил, забыл. Лучше всего сидеть после сна в кресле и долго привыкать к разомкнувшему веки миру. Или в тишине читать в полночь что?нибудь великое. Насытившись будничным днем, лицами, гулом трамваев, всегда одинокой в толпе мечтой, находишь в книге сочувствие таинственным переливам души. Днем, после писания, едва выйдешь на улицу, сомнешься с толкающимся людом, с продавцами, таксистами, услышишь слова о мелких заботах и вдруг подумаешь: не верится, что для всех нас творили Пушкин, Толстой, Чехов, мучались, и что изменилось? «Сочинение у меня — пятерка, капитальная! — говорит таксист. — Сдрючил чисто, не подкопаешься. Мне бы теперь дохлую троечку по математике, а историю я разочек просмотрю и сдам».
Все — разменная монета. Один человек может смутить твою музу. И становится страшно, и не хочется писать. А потом один же человек (кто?нибудь) напомнит тебе своим существованием, что не все прокоптились в жизни и надо кого?то и что?то славить. От людей и загораешься. Никакой Пушкин так не вдохновит, как человек твоего времени. Тогда и получается что?нибудь.
Как много дает некоторым литераторам билет члена Союза писателей! Они становятся неузнаваемыми, у них вырастают крылья наглости, и те хорошие писатели, перед которыми они робели еще недавно или, по крайней мере, не расточали о них высокомерных глупостей, — те уже для них ничто. У них в кармане членский билет с номером таким?то!
1972 год
У повести нет конца. Егорка уезжает, но это не конец. Пришел в 10 часов с моря, и ничего у меня не получалось, я лег и уткнулся в подушку — с чувством одновременно тяжким и освобожденным, потому что в эти минуты, во — первых, смирился с тем, что ничего не напишу больше, а во — вторых, потому, что сон отнимает страдание. В полдень от той же тоски играл в шахматы, а когда приехал композитор П., я ушел в город, сел на лавочку у гостиницы «Магнолия», читал статью «Китай после Линь Бяо», а мысли кружились все те же: ничего у меня не сложится, это конец!
Сейчас читаю письма Т. Вулфа. Как ребенку, хочется, чтобы кто?то пожалел меня, уверил, обманул лестью. Не верю в себя.
И вот только что прочел у Т. Вулфа: «Передо мной, должно быть, лежат тысячи часов отчаяния и боли, я выйду за грань, за которой исчезает надежда, я буду клясться, что не напишу больше ни одного слова в своей жизни, но, кажется, иначе я работать не могу, во всяком случае, не мог».
Слава богу, я не в одиночестве.
Сочи, 7 августа
Вот прошло лето, вспоминаю свои муки на даче в Сочи. Боюсь времени! Оглянешься — еще год. Самоуничижение угнетает. Маленькие вещи надоели. Роман?!
Пишу «Элегию». Учитель мой сидит уже в ресторане «Витязь». Рассказ посвящу Б. С. Скобельцыну. «Занимайте любую комнату, — говорил мне в 70–м году, — и живите». Добр и все бы отдал. Картины, которые дарили ему художники, относил в музей. Во время реставрации церквей много кой — чего попадалось ему, себе ничего не брал, все в музей. Честность безукоризненная. Люблю мир художников, их комнаты, где все есть, их щедрость. В звоннице показывали тогда проект памятника Александру Невскому. В звоннице, после споров об искусстве Возрождения и современном, он почувствовал себя плохо, принял сердечный наркотик и вдруг позвал меня: «Лихоносов! Я сейчас отрешен, и меня посещают философские мысли. Ощущение полета, знаете, когда летишь и ничто не страшно, смерти не боишься, потому что есть что?то выше нас и все люди — братья!» Он поцеловал меня в лоб и сказал: «Иди!» У него ничего нет, душа да талант; сделал десять тысяч снимков (все на свои деньги), чтобы воспеть Псков и окрестности. Этого он ждет и от своих друзей. Как любит работу! Когда реставрировал церковь в Устье, приходил домой к детям только раз в неделю — с зарей начинали и на заре кончали трудиться. В рассказ он не вмещается, надо особо писать о нем. И многое другое, что я видел на Псковщине, нельзя впускать на страницы о великом влиянии воздушного образа Пушкина, символа всего лучшего в Отечестве. В ресторане пьяный просит: «Дуся, дорогая моя… Дуся. Дорогая моя. Хоть стаканчик пива…» Нельзя! Не нужна здесь черная тень. И не из?за боязни резкой правды. А не нужно — и все. Пусть вся вещь будет музыкой.
Всегда, всегда надо искать поддержку у классиков. Вот И. А. Гончаров говорит, что нельзя всего одолеть одним умом: «…приходит на помощь независимая от автора сила — художественный инстинкт». Я понимаю его и радуюсь, что он издалека, с берегов того века, укрепляет мои робкие щупальца…
«Когда мы учились в театральной школе, у нас в гостях была Рыжова Варвара Николаевна, великая актриса Малого театра. Одна студентка спросила ее: «С чего вы начинаете работу над ролью?» Рыжова ответила: «Со слез, милочка, со слез». Это правда — со слез начинается наша работа. То есть с неуверенности, с мыслей о том, что ничего не получится, что ты выдохся, с сомнений во всем». (В. Розов).
Редкая находит солидарность! — в этом мире ты со своим отчаянием не один, все счастливы постоянным несчастьем поиска, и это счастье — несчастье возвышает твое дело. Иначе — крышка.
1973 год
«Элегию» закончил и отправил сегодня в «Наш современник». Увлечен сбором материала к роману о Екатеринодаре. Очень интересно сидеть в архиве по семь часов и листать газеты, дела. «Когда же мы встретимся?» пока не волнует, еще не принимался за работу. Хочется писать роман кратко, как у Пушкина повести. Пришел первый том бунинского литнаследства. Личность Бунина не столь интересна, но… его мироощущение, живопись, русское чувство! Печаль пространства, времени, формы преследует меня всю жизнь… Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Вот чем велик Бунин. А не метафорами. Любить «все кладбища мира», но сохраниться в литературе одним из самых русских писателей! — какие же надо иметь корни в своем Отечестве!
Фольклорная передача по телевидению. Женщинам по шестьдесят лет. У одной дочь, она здесь же, тридцать пять лет. Пока мать пела, она напряженно ждала своей очереди, смущалась. Очень симпатичная, длинное лицо, темные глаза, волосы спущены на плечо с одной стороны. Вся дышит естеством, нежностью. Когда пела, это еще усилилось. «Отдала меня матушка далеко…» Допеть не смогла, заплакала. Неужели еще остались такие молодые женщины? Сколько в их нравственных генах волокон исторической жизни народа!
Запись 1972 года, Новосибирск.
А вот:
— Девушка! Вас проводить, или вы сами уйдете?
1976 год
Обо всем, что дорого, надо писать вовремя. Сколько прекрасных черт нашей дружбы утрачено сердцем моим! Не могу воскресить. То, на что я надеялся больше всего, подвело меня. Дружба наша была редкой, и о ней?то я бессилен теперь сказать доброе, изящное слово. Просрочил. Долго откладывал. Теперь мучаюсь — и без толку. Чем это кончится? Бросить? Жалко. Это же было! Как же оно потеряется где?то, повиснет в воздухе?!
Когда кто?нибудь из нашей бригады выступает, я гляжу на лица слушателей. Люблю угадывать характер того, кто слушает и не замечает, что за ним следят. Все в глазах, в том, как сжаты или расслаблены губы и т. д. Иногда, кажется, чувствуешь чью?то семейную жизнь, неблагополучие женское, тоску. «Приезжайте еще!» — говорят доярки, но мы знаем, что уже больше не встретимся: край просторный. Мы садимся в машину, а они идут гурьбой по грязи к своим коровушкам. Кто?нибудь из нас обязательно скажет сопровождавшему нас начальству (в предчувствии хорошего обеда с бутылочкой, которую нам подадут из?за ширмы): «Хороший у вас народ!» Вспоминая, как пошли доярки по грязи, поневоле подумаешь: на свете еще много людей, чья жизнь гораздо труднее твоей. Побываешь на ферме, и число бездельников, всяких жуков на высоких окладах в твоем сознании вырастает. Иногда эти бездельники тут же и крутятся. А сам ты кто? Чего стоит твое бумажное милосердие? Писать правду о людях — значит защищать их. Вечером доярку ждет телепередача о романтиках или о «непрестижной профессии» официанта! И даже стихи будут на эту тему.
Был у меня такой вариант окончания «Чалдонок»: «Он уедет, и пройдет много — много времени, и много ночей проведет она под этим суконным одеялом, и вырастут ее детки, а она все будет одна и одна, и вот так же будет идти снег, и она будет помнить этот первый снежок, когда была с ним, он женится и помаленьку забудет ее.
— Я приеду, и мы с тобой пойдем в лес, на ту поляну, — помнишь, где я тебя встречал? А потом поедем в Северное, и я тебе куплю шаль, а себе масляные краски. Посажу тебя вот сюда и буду рисовать, а ты мне будешь петь песни, а Онька придет и станет гоготать и щелкать семечки».
И тут же подумал: «Боже! Что я говорю?то? О какой жизни мечтаю?»
Ишь, даже «масляные краски» придумал! Совести и чутья все?таки хватило выкинуть. Нельзя лгать даже из доброго чувства к кому?то, к чему?то.
Посмотришь, так никто лучше графомана не понимает в искусстве, потому что в графомане пишущем сидит такой же графоман читающий. За пятнадцатилетнюю жизнь свою в литературе прискорбно много встречал я писателей с низким плебейским чувством превосходства над устоявшимися в своем неизменном мастерстве собратьями, превосходства, ничем не оправданного, истинно графоманского, идущего от знойной жажды что?то значить на том поприще, куда пустила их не природа, а скопившаяся в каком?то кругу вседозволенность. Ковыряясь в чужом художестве, как в ветоши, они с важными позами, сминая в руке боярские шапки, хмыкают по каждому поводу, ищут в густых сочных травах сорняк, и душе их не дано почувствовать, с каким выразительным страданием написана та или иная вещь, ради чего она написана и каким внутренним гулом она наполнена, сколько в нее заложено искренности и правды! Мы ошибаемся, думая, что читатель — графоман поглощает только детективы и обывательскую галиматью. Графоман — читатель (он же писатель) может упиваться Булгаковым, Маркесом, Платоновым и Прустом и ни бельмеса не смыслить в корневых точечках их дарования. Графоману — читателю возражать невозможно — он вас снисходительно хлопнет по колену: «Ха — ха!» Еще и унизит вас. Так же он всемогущ в распространении мнения об общественном значении книги — особенно если книга с перцем. Фельетонную остроту книги принимает он за художественную исповедь, журналистское мышление — за романное. Страстям социальным он внимает постольку, поскольку желает преуспеть в литературной учебе и продвижении по лестнице успеха. Высшей материи для него нет. И отсюда его чувство превосходства «технаря»: ах, как это сделано, ах, как это закручено!
Графоманы делают погоду в литературном быту. Шум и энергия, с которыми они разворачиваются, заполняют всю местную культуру. Внимание общественности поневоле переключается на них. Они не в одиночку бьются у стен редакций; сплетясь в тугой клубок, они вырастают в явление культуры. Страшное это явление.
Пишу и думаю: ни Чехов, ни Бунин не знали массового вторжения в литературу не писателей. Авторша романа с чудовищной первой строкой «Мороз крепчал…» не писала жалоб, не оттирала талантливых членским билетом, не требовала себе званий и наград к юбилею. И никогда писатели не сочиняли такого множества грязных писем друг на друга в инстанции! Благо, если бы они только не понимали чужие хорошие произведения. Нет, им нужно затравить товарища. Боже мой! — на борьбу с кем уходили наши силы. И ведь нельзя было укрываться в камышах, каждый миг надо было защищать достоинство литературы, русской литературы тем более — всегда милосердной и правдивой.
1979 год
И по сию пору в провинции слышится:
— Вы чересчур увлекаетесь стариной… Ближе к сегодняшнему дню! С какой стати внимание к старине — грех? Отечественная война — разве это уже не старо? Но никто никогда палец не поднимет на того, кто о ней пишет. Коллективизация? Гражданская война? Еще стариннее. Писать об этом почетно. Какая же старина возмущает, пугает? Да та, писать про которую нет прямого указания. И запрета нет, но главное — нет указания. И такие люди все время трещат о патриотизме. У них патриотизм разбит по пунктам: этот патриотизм разрешен, а на этот еще официальная бумага не прислана. До чего только не додумается лицо, озабоченное собственной безопасностью! Неужели у него и Отечество делится по пунктам? Откроем старые журналы, ну хотя бы «Ниву». Там в каждом номере то статья, то репродукции с картин— о временах Донского или Грозного. И ничего! Никто не командовал: про Дмитрия Донского можно, а про
Ивана Грозного «не ко времени». И руки никто не разводил: ну зачем так много? Опять старина — а-а…
Отношение к людям.
Из райсобеса больному пенсионеру выслали сто рублей на лечение. Прошло две недели — почтового перевода нет. Внутри города почта несет деньги такой срок? Пенсионер позвонил начальнику отдела на почту. Снимает трубку женщина — секретарша.
— Мне нужен начальник отдела.
— А вы кто?
— Как кто? Я простой гражданин, пенсионер.
— У него совещание, — говорит секретарша после долгого молчания.
— Когда можно позвонить?
— (Нехотя, презрительно.) Через час.
Через час с лишним пенсионер набирает тот же номер.
— Совещание кончилось?
— Какое совещание? Никакого совещания. А кто это?
— У начальника отдела было совещание. Я вам звонил, мне почта деньги задержала.
— Вас тут много звонит. Кончилось.
И стало ясно, что никакого совещания у начальника не было, — секретарша час назад солгала.
Ложь всякого рода секретарш стала нормой. Этой лжи потворствуют многие руководители. Прежде всего своим стилем в работе. Секретарша постепенно перенимает бесчеловечный стиль общения с гражданами, подчиненными, какой завел начальник. Хуже того: секретарша порою значит больше, нежели начальник, потому что она всегда «на дверях». Секретарша и посажена у дверей словно для того, чтобы никого из простых смертных к своему шефу не пропускать! Легкая механическая ложь летит с намазанных губок секретарши: «он уехал», «его вызвали», «у него люди», «он болен» и т. п. «А кто вы такой?» — этот вопрос секретарши звучит по нескольку раз на день как оскорбление. Ее интересует степень важности «данного лица». Важность (или нет) позволяет ей соединять с начальником или не соединять. Конечно — могут позвонить «всякие». Все так. Но зачем лгать?! Я не вдруг заметил, что мужчины на службе стали еще лживее самых лживых женщин. На лживом мужчине (да еще на службе) надо тотчас ставить крест. Более ничтожного существа не придумаешь. Лживость замазывает мужчину несмываемой краской. В одном жилищном отделе распределяли ордера на квартиры. Счастливцы уже заселились, а писателю, тоже ждавшему ордер в этот дом, заведующий сказал, что дом этот по улице такой?то еще не сдавали. Когда же его на этом слове поймали, он с еще большей наглостью солгал, да мало солгать — возмутился: «Я такого не говорил! Когда?! Не помню… Вы наговариваете». Манера отказываться от своих слов — поведение совершенно бессовестных людей. За ложь, к несчастью, у нас еще ни разу никого не наказали.
А ведь есть иное начальство. Мы мало о нем пишем…
Считается, что само занятие литературой, печатание приподнимает человека в глазах знакомых. Любая глупость кажется значительной, потому что она набрана типографским шрифтом. Жил человек, и все относились к нему нормально и, может, даже принимали его за умного и способного. Вдруг он напечатал рассказ или стихи. И все заметили, что он бездарен, темен и туп. Но он радуется, заносится, он уже ставит себя выше смертных и, если услышит о себе непочтенное слово, воспылает к кому?нибудь ненавистью, шипит: завистники, злые люди. Рассовывая свои вирши и скудоумные рассказы в газеты и журналы, человек сияет помыслами: его будут любить. Но над ним смеются. И справедливо. Творчество вовлекает его в самообман, нарцисс любуется своим уродством.
Есть произведения для людей, а есть… для «развития литературы». И «для развития литературы» они нужны, но их почти не читает народ. Не всегда так, но…
У нас давно распространилась нехорошая обывательская привычка. Точнее — отшлифовалась, как галька морская, позиция этакого умненького подленького в пескариной премудрости человечка.
«Быть выше этого!»
Как это так? Как «быть выше» того, что является нашей идеей, нашей кровной жизнью, существованием, самоуважением, наконец? Почему те, кто требует жалобные книги, возмущается, пишет в редакции, «наводит порядок», должны восприниматься безумцами, идиотами, людьми, якобы недостойными называться умными и нормальными? «Быть выше этого!» Предпочитать гражданской смелости и напористости шептанье у себя на кухне
или телефонные сплетни? Некоторые люди свое унижение возвели в царское достоинство. Но… Но как только кто-нибудь их обидит, как только их лишат чего?либо законного (или незаконного), едва их откуда?нибудь выпрут, на крыльях какого пламенного «гражданского» гнева они тогда взлетают, в какой бой бросаются, какими словами обвиняют равнодушных, с каким бешенством привлекают себе на помощь цитаты из правительственных документов! Лезут на стены с гранатой правды! И ради чего? Ради того, чтобы жить так же, как жили: тихо, коварно, с пескариной премудростью. Буря над их денежной карьерой прошла, и они снова, мягко, величаво улыбаясь, говорят правдивому своему товарищу: «Ну, надо быть выше этого…»
1980 год
О красоте родной речи. Если красоту речи не чувствовать, не иметь вкуса к ней, то как же читать классиков? Родной наш язык — язык старинный, тысячелетний, и чтобы почувствовать его нынешнюю красоту, особенности и… к сожалению, засоренность «мовизмами», надо знать, как говорили и писали наши предки. Вы смотрите на какую?нибудь церквушку или ветхий амбарчик и любуетесь ими. Так же можно (и должно) любоваться великой речью предков. С умилением и многажды перечитываю я плач вдовы великого князя Дмитрия Донского — в передаче Епифания Премудрого:
На кого меня оставляешь? Солнце мое, — рано заходиши, месяц мой светлый, — скоро пошибаеши, звезда восточная, почто к западу грядеши? Царь мой милый, како прииму тя и како тя обойму или како ти послужу? Где, господине, честь и слава твоя, где господство твое? Господин всей земли Русской был еси — ныне же мертв лежиши, никем не владевши! Многы страны примирил еси и многы победы показал еси, ныне же смертью побежен еси. И изменися слава твоя, и зрак лица твоего превратися в истление. Жизнь моя, како намилуюся тебе, како повеселюся с тобою? Вместо драгоценной багряницы— худые и бедные ризы приемлеши, не мною расшитую одежду на себя одевавши, вместо царского венца худым сим платом главу покрывавши, вместо палаты красный гроб си приемлеши! Свете мой светлый, чему помрачился еси?.. На кого оставляешь меня и детей своих… Почто родилась и, родившись, прежде тебя како не умрох, дабы не видеть смерти твоей, а своей погибели! Не слыши ли, княже, бедных моих словес, не трогают ли мои горькие слезы.? Крепко еси, господине мой драгий, уснул, не могу разбудити тебя! С какой битвы пришел ты, истомился еси вельми? Звери земные на ложе свое идут, а птицы небесные к гнездам своим летят, ты же, господине, от своего дому не красно отходиши!
Плач переведен на современный русский язык с сохранением некоторых древних оборотов, но и то и другое прелестно не только словами, а еще и интонацией, мелодией — душа говорит своим ангельским языком.
В том?то и дело: нужно учиться еще и мелодии речи. Иногда мы слушаем кого?то раскрыв рот и не понимаем, почему обычный рассказ так затравливает наше внимание. А секрет весь в интонации, в том, я бы сказал, обаянии интонации, которою владеет рассказчик. Что теперь почти начисто исчезло в общении? Любезность, мягкость, дружелюбие тона. Тон разговора! Мы кричим, бурчим, лаем, рвем слова на клочки. Спросите на улице, как пройти к реке Кубани. И каким же тоном вам расскажут? А я еще застал, когда объяснение превращалось в любезный разговор, человек сам получал удовольствие от мимолетной услуги другому. Язык неразрывно связан с нашей душой. Недаром же говорилось: язык — душа народа. Малограмотная речь бывает прекраснее ораторской бутафории профессоров. Видимо, дело не только в грамоте.
1982 год
Писать этот роман — страдать и ничего не выразить…[2]
25 марта вернулся из Москвы. Ничего не соображаю. Пробовал переписать встречу Федосьи в Елизаветинской с Бурсаком и Толстопятом — нет! Чувство мертво. Москва опустошила. Не дописав две — три главы последней части, приступаю к перепечатыванию начала романа. Это будет лишь второй черновик. Так хочется все сжать! Когда заранее знаешь, что вещь будет большая, поневоле вытягиваешь ее, расширяешь ячейки. Лучше настраиваться на что?то маленькое, густое, тогда на одной странице уместишься с тем, что разбросал по многим главам.
Был три дня в станице Каневской. Никто не помнит старых имен. Мы выступали в библиотеке перед книголюбами. Можно ли винить людей? История в их памяти на школьном уровне. А как и чему учат на уроках истории — мы знаем. Еще году в 60–м, когда где?то на центральной улице я в ожидании автобуса на Краснодар читал «Запах сена» С. Никитина, можно было случайно с кем?то поговорить о Бурсаках, о табунщике Ф. Я. Скибе, о чудесном Иване Петровиче Бурносе, к которому я когда?нибудь проберусь сквозь кипы бумаг. Да, тогда можно было еще. Время все стерло. Так всюду по станицам Кубани. Я часто повторяю: никто ничего не помнит. Это неверно! Никто никого долгие годы не спрашивал, и они умерли, казаки, унесли с собой в небытие всю историческую скрижаль. Дома они припоминали что?нибудь среди своих, и так оно все и пропадало… (17 апреля).
Вчера приехал в Пересыпь. Набрал бумаг, хочу выполнить за полмесяца весь «план», едва ли не переписать всю 1–ю часть до конца. Но вот после ухода Костогрыза от Бабыча не знаю, что делать. Все?таки нет сюжета. Слишком много уже набежало героев в девяти главах. Материал встал на дыбы!
Идет дождь. Матушка ровно — тосклива.
Понедельник. Родительский день.
Мучиться надо — что?нибудь вызреет. Видел сны из своего романа. И вот, кажется, пришло начало: «Записки кавказского офицера», потом Д. Бурсак едет в Каневскую, там находят ему листки в скрыне, он читает их. Дорога в степи. Екатеринодар — «наш маленький Париж…» И т. д.
День солнечный. Матушка встала в пять утра, утомилась на кладбище (26 апреля).
День рождения Пушкина. Возился с главой о Попсуйшапке (его дело, мечта о женитьбе). Глава ненужная, никак не вяжется с текстом. Два раза засыпал от отчаяния. Ходил в музей, порасспрашивал, нет ли каких поступлений, мемуаров, фотографий казачьих. Куда вставить фразу: «Если эта милая девочка еще с вами, то передайте ей привет!» В 1–ю часть?
Теряю вкус к эпохе. Наверное, буду сокращать и писать, как «Элегию». Пропали мои долгие годы зря! Сегодня было так тяжело, будто погибал. Дождик к вечеру (6 июня).
Писал главу «1910 год». Нужен историзм. Я рассказываю не исключительные случаи, я беру типично протекающую жизнь большинства людей на земле, у меня нет блуждания сюжета и проч. У меня ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, истории, простой личной жизни на фоне событий, вдали и вблизи событий, — как это и бывает (10 июня).
Все приходит в мучениях. Утром искал подробности для 1–й главы «Записки кавказского офицера». Читал о кавказской войне, выписывал. Днем был в городе, попал под дождь, принес творогу, поужинал и решил перепечатать главы 2–й части. О празднике в Тамани понравилось. Лег спать. Пришло в голову: самовар Анисьи продадут с аукциона в Париже в 60–е годы. Вскочил, зажег свет, стал записывать — утром все вылетит из головы. В понедельник в архив!
Сижу. Ночь. Все давно спят. Люди живут с людьми, а я с героями. Какое роковое счастливое наказание мне — писать о том, что должны писать прирожденные кубанцы! Рок выбрал меня. Сижу, разговариваю с Толстопятом, Костогрызом, Попсуйшапкой. Чаю им налью. Попсуйшапка не курит, а с Костогрызом можно и люльку запалить. Так будет до того часа, пока не закончу роман (11 июня).
1983 год
Вчера позвонил вечером поэту К. «Нету, — говорит жена, — гуляет!» Гуляет по улицам четыре часа, принес домой два стихотворения. И так всю жизнь! Жена не видела, чтобы он писал стихи за столом. Не понимаю, как можно держать в голове все сплетения слов, всю эту нервную дрожь жизни, эти искры чувств и т. п. Я пока добегу с кухни — уже что?то оборвалось, и снова никак поймать не могу. Пропало навеки! Вчера на ночь поленился зажечь свет и записать какой?то ход в конце романа — такая прелесть поймалась, а проснулся — не помню! Заспал! Я пишу из тончайшей ткани, все рвется на лету, и, когда не ухвачу, ниспадает на лист что?то погрубее (29 января).
Еле собираю дух свой на остаток жизни в старине, на то, чтобы сосредоточиться и закончить роман. А толку! Именно об этом (толку!) и думал до самой ночи. Горевал. Горе иногда застигает такое детское, что не знаешь, кого позвать. События писать мне не надо. Все у меня будет окутано музыкой расставания со временем (это уже есть), туманом проходящего Бытия. И печалью милосердия.
…Уже пять часов утра. Так и не заснул. Раскрыл Бунина— давно не общался с Иваном Алексеевичем. Полыхнуло опять Россией. В однотомнике, составленном в
1961 году П. Л. Вячеславовым, только схватил начало «Жизни Арсеньева» и… Великая божеская душа! Никогда не будут больше писать так. Кротость души перед необъятным миром дает несравнимую высоту. Лежа, родственно думал об Иване Алексеевиче, о том, как стремился в Париж на улицу Жака Оффенбаха, о том, что его нет уже на свете тридцать лет и что мне жаль его: закрылись зоркие очи навеки и уже провалились, истлели… Когда читал «Часовню», вспоминал часовенку Ильи Мокрого в Изборске… Может, он ее и описал… Великая Россия, какие у тебя были художники (2 июня)!
«Дело немалое — вырастить книгу и написать». М. Пришвин.
Не спал до пяти часов. Вытащил рукописи, стал расставлять страницы. Выйду на балкон — все почему?то спят. Чего они спят? И ведь когда?то прочтут про моих казаков и, может, запомнят их фамилии, будут произносить: Толстопят, Попсуйшапка, Шкуропатская. Зачем слава? Надо выпустить забытых людей в мир — и хватит. Но когда это будет (2 июня)?!
Четвертый час ночи. Сходил на улицу. Чисто светят зеленые огни светофора. Никого. Но в девятиэтажке светятся три окна. И так когда?то лет через пятьдесят, выйдет ночью какой?то человек и, может, вспомнит нас, — как выходил кто?то в 1908 году, но о нас не думал. Вещь висит на мне. Иногда, перебирая в уме страницы, думаю, что никто ее не будет печатать. Ах, как надоело ждать благословенных дней! — окончания (12 августа).
Все потихоньку стихает. Вышел в полночь на улицу, к углу улиц Ленина и Седина, увидел опять дома, заколоченную старинную лавку, козырьки над дверями и подумал: все это я уже пережил! Прежних волнений нет.
Скоро закончу, и душа совсем распрощается с этим, — как когда?то с Таманью. Не могло длиться вечное томление по своему времени и у моих героев. День за днем, и все стихает… (14 августа).
Изумительные золотые дни. То к морю схожу, наберу птичьих перьев, то почитаю «Левшу», поправлю главы 1–й части, 11–й. Там, где гирло, чайки роняют перья почаще, подойдешь, а оно еще теплое, живое, дымится нежностью. Упало — как благословение. Помогите мне, чайки, завершить свой труд (14 сентября, Пересыпь).
Утром отвез 1–ю часть к машинистке. В сквере встретил В. А. Ч. (Попсуйшапку). 101–й год. Поговорили. Сколько еще будем встречаться?
— Иду, а по Бурсаковской бутылки везет лошадка. Я и вспомнил: в 14–м году у тестя моего Ревенка забрали жеребца вороного и кобылу Славу. Вексель на 1500 рублей дали. В 20–м году приехали из Тифлиса извозчики и екатеринодарцы — лихачи, продали им лошадей, а сами устроились на пожарную. У вас новые брюки. Я свои повешу обязательно, чтоб коленки ночь отдохнули… Так, Виктор Иванович, течение жизни идет… В сквере армяне сцепились спорить: когда было больше приросту в России? Я им говорю: «У моего первого хозяина, что я нанимался по шапошному делу, было тринадцать детей. Нас у матери было двенадцать — так когда же прирост был больше? Сейчас, если она родит двоих, то в тридцать лет никуда не годится. А раньше женщина — она все: она и мать, она и на огороде, она и барыня: оделась, пошла в церкву. И до восьмидесяти лет на своих ногах!» Они засмеялись: «Правильно, дедушка!» Я вам груш несу кулечек. Вы проводите меня до трамвая, я у дома Фотиади сяду».
Я сказал ему, что скоро поеду в Москву.
— Ага, Виктор Иванович, как будете там, то купите мне фланелевую рубашку, я деньги дам.
— Если бы они были, я бы и так вам привез. Вы не представляете, как вы обогатили меня своими рассказами.
— Ну что ж… благодарю вас за такие милостивые слова. Приятно слышать (29 сентября).
Тридцать лет со дня смерти Бунина. Ничего не делаю эти дни. Все! Уже хватит глядеть мне на эти строки. Еще поправлю последнюю главу в последней части и — с богом! Пусть печатают… Но и этот роман, самый все-таки основательный в моей биографии, побоялся бы показать Бунину. Говорил мне покойный Ю. П. Казаков: «Умерли старики — писатели, и как?то некого стало стыдиться. Напишешь, бывало, страницу и испугаешься: а что скажет Паустовский? А Твардовский еще круче. Шолохов, Леонов сейчас никого не читают» (8 ноября).
1984 год
Давно все кончилось, собирался отвезти рукопись в Москву, но заболел. Вдруг заметил в главе «Как во сне» лишнее! Выкинул! Ну что? Будем печатать? Как я все это выдержал? Страдания позади. Тридцать восемь листов! Ого. Графоман. Поздравляю (30 января).
(Наброски письма)
Вашу рукопись прочел залпом. Вы талантливый человек и пишете с невиданной откровенностью. Душа ваша богата, впечатлительна, знание литературы великолепное, мысли свои — учить вас трудно. Вы написали дерзкую вещь, прежде всего по форме. Удивительное дело: вы так любите литературу, что, кажется, ставите ее над самой жизнью. Но когда вы говорите о Шукшине, видно, что жизнь бьется в каждой вашей жилке. Хочется вести речь не столько о рукописи, сколько о вас. Рукопись— это вы. Понимаете? Не о каждом можно так сказать. Вся ваша тайна на раскрытой ладони с линиями судьбы и страданий. Когда вокруг много народу, обо всем, до конца, говорить неловко, нельзя. Так и в литературе. Есть предел. Фиговый лист нужен. Иначе «интересность» откровения притупляется. И не в интересности даже дело. Мера нужна во всем. Если к роману приложить шесть — восемь хороших рассказов, тогда все претензии автора будут… звучать. Рассказов таких пока не видно. Остается что? Роман с талантливым изображением обиды на литераторов.
Так что же делать?
Осознать себя. Не сделаться понапрасну упрямой. Поменьше бросайте заявлений, решать какой?то вопрос «на высочайшем уровне русской литературы» надо молча, без выкриков в лицо тем, кто вас не понимает. Младенцы Литинститута всегда отрицают знаменитые имена текущей литературы. Пишите лучше знаменитых тогда — вот и все. Я думаю, что обида и неудачи пройдут вскорости, и вы, позабыв все, сядете и напишете что?нибудь хорошее. И вас будут печатать. Повторяю: нынешнюю молодежь трудно учить. Сама жизнь вас обломает. Пишите, пишите, пишите без досады на всех, вас не признающих…
Читаю книгу А. Бабореко о Бунине. В Сосновке под Петербургом Бунин услышал о смерти Л. Н. Толстого.
«Утром профессор Гусаков, у которого мы с Верой гостим, вошел и сказал (о Толстом): «Конец». И несколько дней прошло для меня в болезненном сне. Беря в руки газету, ничего не видел от слез. Не могу и теперь думать обо всем этом спокойно…
Смерть Толстого как будто взволновала публику, молодежь, но не кажется мне это волнение живым. Равнодушие у всех ко всему — небывалое. А уж про литературу и говорить нечего. До толков о ней даже не уничижаются…»
Через семьдесят четыре года — похороны М. А. Шолохова. Я думал, что будет объявлен национальный траур, но нет, даже по программе «Время» уделялось скорбным проводам несколько кадриков. Из лучших писателей (представителей истинно народной линии) никого в делегацию не взяли. Я был в это время в Москве на пленуме СП. Сначала думалось, что прощание с Шолоховым будет в Москве, а потом повезут его в Вешенскую. Но он умер дома. Вечером сидел у писателя Н. Траурные кадры промелькнули, он тут же завел на магнитофоне западную музыку, пританцовывал: «Какой бархатный голос! Ты послушай… Странное чувство… двойственное… Жаль… но с другой стороны… кажется, что он умер давно…»
В Доме литераторов на другой день писатели пили водку, кофе в буфете как ни в чем не бывало. Разговоров о Шолохове не слышалось. Ни одного!
— Я написал десять рассказов подряд… — хвалился Г. — За месяц! Чувствую, что пишу все лучше и лучше…
— Ты пойди, Слава, — бурчал Н., уже пьяный, — и купи классикам бутылку коньячку…
Как же было не созреть в обществе идее перестройки?! Чему это некоторые удивляются?! И что это за граждане? Партия поступила прекрасно, мудро и смело. Не сразу, но станем жить чище и выше (11 марта).
1985 год
Лень — матушка.
Неожиданное известие: в этом году лермонтовские дни в Тамани отменяются. В первые минуты я подумал: наверное, причина отмены в том, что нынче на Кубани неважно с урожаем. Все прежние праздники литературы открывались речами… об урожае. Лермонтов и… урожай. Конечно, можно погордиться заслугами, но как?то нелепо выпячивали «показатели» (их, как выясняется теперь, и не было) и привязывали к ним приезд Лермонтова в Тамань на три дня. Праздник культуры начинался с демонстрации невежества. Странно! Но к этому привыкли. И вот… «устали».
Я всегда наивно полагал, что установленные с ведома и при поддержке партийных и государственных органов местные праздники, дни, декады подхватываются инициативой общественности; заботы и решения о стиле этих мероприятий ложатся на ее плечи; общественность потом сама решает, в какой срок и с кем мероприятие проводить. Музей имени Лермонтова, Союз писателей, общество книголюбов вправе автономно распоряжаться в своих владениях так, как это предписано самой идеей праздников. «Согласовать и увязать» (по пьесе Маяковского «Баня») с некоторыми вышестоящими товарищами — само собой. Но быть в полной детской зависимости от, в сущности, «не профессионального» мнения ответственного лица, ничего не сметь, сложить в стол все намеченные планы — это ли миссия общественности?
— Никого в этом году не приглашать!
Сказано — как отрублено. Довольно, мол. Надоело. Одни и те же лица, одни и те же речи. Устали.
Я был участником многих литературных дней на Кубани. И только дважды культура властвовала на этих днях. В 1979 году почтили в Курганинском районе память о писателе В. Овечкине, а в прошлом году открыли памятник М. Ю. Лермонтову в Тамани — воспоминания наши полны.
Все остальные «дни» были обыкновенным столпотворением людей, явившихся потолкаться да поскучать.
Прекрасная мысль о воспитании масс понимается кое — кем буквально: на огромной площади надо собрать «массу народа», произносить по бумажке речи и тем воспитывать. Пять, шесть, восемь лет подряд всходить на трибуну, объявлять о том, что сто с лишним лет назад па «эту древнюю землю» приезжал Лермонтов, прославил ее повестью «Тамань» и нам по сей день кажется, что он «где?то здесь с нами, быть может, в этих облаках, быть может, у этой хаты…» — кому не надоест слушать? В криках, усиленных репродукторами, ни мысли, ни чувства, ничего нет. Ниче — го. Зачитавший по бумажке речь отходит в сторону и первым делом поворачивает голову к начальству: понравилось? Милые детки в белых передничках невинно глядят на умного дядю, такого умного, что непонятно, о чем он кричит, и, терзая пальчиками стебельки цветов, ждут, когда он вскрикнет последний раз и этим позволит сорваться им с места и поднести букетики. Таманские жители, еще с прошлых праздников усвоившие истину о приезде Лермонтова к их предкам, печально выдерживают отведенные на церемонию минуты. Они знают, что «в следующий момент» у клуба будет греметь музыка, а на сцену поднимутся певцы и поэты. Многие прямо с площади пойдут домой. Совхозные, частные машины лихо разворачиваются и покидают Тамань. Зачем позвали? Для кого это устроили?
И близился вечер, и с ним?то являлся… настоящий праздник…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Ковякин и его записи
Ковякин и его записи Повесть, предшествовавшая «Барсукам», начинается так: «Мы город степной. Мы город тихий, заштатный, обделённый. От нас на север простирается степь, а к востоку — татаре вперемежку с лесом и мордва. На юг же — я и сам не знаю что. Вообще же очень много
17. Странные записи
17. Странные записи Мне запомнились некоторые домашние записи Юры и моего брата Сергея, особенно альбома «Сон в Красном тереме». Странная, загадочная, протяжная, завораживающая музыка! Осуществляя многоканальную доморощенную запись, Юра прибегал ко всевозможным
XXX. Перед сном
XXX. Перед сном Как хорошо под вечерок, Едва погаснет дня волненье, Пойти сложить у милых ног Весь груз тревоги и сомненья. Смелей прижмись к моей груди Пред сном головкою усталой, И речи мирные веди О том, что было да бывало. 23 сентября
«мужчина спящий сном спокойным это…»
«мужчина спящий сном спокойным это…» мужчина спящий сном спокойным это и смысл согласия и суть рассвета и женщина которая паря танцует над землей и с ней заря мужчина или женщина интимно с землей соединяют небеса как радуга в интимности всеобщность ни ты ни я а
История с обмотками, красными звездочками и четвертым сном Веры Павловны
История с обмотками, красными звездочками и четвертым сном Веры Павловны Василия Петрович Н. - член коммунистической партии с 1920 года, 87 лет«Я подумал: хороший день для смерти. Чисто. Снег. Кто-то начнет все сначала. Жизнь — театр, у каждого — своя роль. Мой театр исчез. Люди,
ЗАПИСИ
ЗАПИСИ Об А. Блоке«Александр Блок — такой же великий поэт, как и Пушкин…»«Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущены, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица…»Об А. Белом«Это был небольшого роста
ЗАПИСИ НА «МЕЛОДИИ»
ЗАПИСИ НА «МЕЛОДИИ»
ЗАПИСИ
ЗАПИСИ Об А. Блоке«Александр Блок — такой же великий поэт, как и Пушкин…»«Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущены, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица…»Об А. Белом«Это был небольшого роста
Записи. Наброски.
Записи. Наброски. «Рассказ Миши о чтении Робеспьера» и «Будто бы Михаил Афанасьевич…»» — попытки Е. С. восстановить невероятные, бесконечно варьировавшиеся устные рассказы Булгакова. (См. в ее письме к А. С. Нюренбергу 23.II.1961 г.: «Он никогда не рассказывал анекдотов… а
А прошлое кажется сном...
А прошлое кажется сном... Все гроссмейстеры и их рейтинги, 1970-71 гг.Это ирландская, что ли, "Записная книжка шахматиста" на 1972 год. Кстати, рейтинги тогда в нашей шахматной печати не публиковались, информация была секретной.Заранее приношу извинения за плохое качество
Глава восьмая. БОРЬБА СО СНОМ
Глава восьмая. БОРЬБА СО СНОМ Наши келлии были далеко одна от другой. Такого, чтобы кто-то стучал в дверь, подавая сигнал вставать, у нас не было. Да и кому было нас будить? Что же заставляло нас в нужное время вскакивать после сна, как резиновый мячик? Внутренняя ревность,