ГЛАВА IV
ГЛАВА IV
Как-то мне в руки попал исписанный карандашом сдвоенный листок полуистлевшей бумаги, испещренный химическими формулами, стрелками и значками. Он был обнаружен во время разбора бабушкиного архива, предпринятого по просьбе Ивана Васильевича. Разговоры об этом шли давпо. По вот настал день, когда бабушка распахнула обе дверцы, опустилась на колено и стала извлекать из секретера все его содержимое. Ключ, торчавший из опущенной крышки, был угрожающе нацелен в ее беззащитное темя, затянутое младенчески нежной розовой кожей, просвечивающей сквозь паутину седых волос. Я поспешил поднять крышку и повернуть ключ в замке.
— Неужели некому больше нагнуться? Дай-ка я сам вытащу.
— Действительно. Встань сейчас же. Не смей нагибаться, — поддержала меня мама.
Сердито оглянувшись, бабушка возмущенно воскликнула:
— Пожалуйста, не делайте из меня больную, беспомощную старуху. Честное слово, это безобразие! Всякий раз…
Не договорив, бабушка ушла с головой в секретер.
Листок был извлечен из старой папки с надписью «Разное», сделанной размашистым бабушкиным почерком. Поначалу я подумал, что это какой-то давний мой черновик, который любящая бабушка заботливо хранила вместе с иными атрибутами младенческих, школьных, студенческих и аспирантских лет. Знакомые химические структуры чередовались с фантастическими — столь характерное соседство тех смелых, отчаянных, самонадеянных дней. В годы безраздельного увлечения химией я покрывал подобными формулами сотни листков на скучных лекциях, дома, в лаборатории, в гостях, даже во время театральных антрактов. Просыпаясь среди ночи, останавливаясь посреди улицы, я записывал их рядом с чьими-то адресами, телефонами, библиографическими ссылками.
Записи на вырванном из школьной тетради листке с вылинявшими линейками были сделаны жестким карандашом. Тщательно скомпонованная схема напоминала декоративный восточный орнамент. Я вздрогнул от внезапной догадки, будто на какой-нибудь самаркандской или бухарской дороге наткнулся на осколок обливной керамики. Поднял, повертел его и по толщине ли, по заскорузлости, по странному ли рисунку вдруг догадался, что передо мной черепок воистину древнего сосуда.
Несколько настораживали, впрочем, ничем не объяснимые совпадения. В отдельных структурах определенно угадывались фрагменты темы, начатой мной еще в студенческие годы.
— Откуда это? — спросил я у бабушки.
Она рассеянно взяла листок и, едва взглянув, вернула:
— Может, Ванин? Или Богдана? Не знаю. Не помню.
Тетрадь, откуда выпал листок с химическими формулами, оказалась сплошь исписана твердой бабушкиной рукой сначала фиолетовыми, потом синими чернилами. Когда-то ее скорее мужской чем женский почерк был именно таким — уверенным, напористым, без каких-либо признаков застенчивой угловатости, появившейся лишь в последние годы. Полнокровные в прошлом буквы как бы похудели, опали, скособочились. «Мы пока не чувствуем осени, — по-прежнему писала мне, однако, бабушка с дачи. — Кругом пышная зелень, а под окном — кусты, усыпанные золотистыми шариками…»
Я надеялся, что разгадка химических формул содержится в этой тетради. Поверхностное проглядываяие записей ничего не дало, и поэтому я решил читать внимательно с самого начала.
«В июне 1903 года, — писала бабушка, — приехав из Баку в Шушу на каникулы, я неожиданно встретила в родительском доме невесту Богдана Лизу и Анну Лазаревну Ратнер. Перед отъездом в Петербург Богдан написал папе письмо с просьбой разрешить им приехать на лето в Шушу.
Живая, стремительная Лиза всем очень нравилась, даже папе, который поначалу переживал, что у Богдана русская невеста. К великому папиному удовольствию, она меньше чем за месяц выучила около ста армянских слов и уже объяснялась с мамой и Нанагюль-баджи.
Лиза носила легкие, воздушные платья. Высокая, стройная, светловолосая, она чувствовала себя совершенно раскованно. Это было, видимо, связано не только с доброжелательным отношением окружающих, но и с умением быстро привыкать к тому месту, куда забрасывала ее переменчивая судьба социал-демократки: к петербургским меблированным комнатам и к бакинскому дому на Чемберикенте, где коммуной поселились высланные студенты, к Дому предварительного заключения и к шушинскому дому жениха, где все женщины говорили по-армянски.
Анне Лазаревне тоже было хорошо у нас. Армянского она не учила, все дни была занята, и только раз или два я видела ее праздно стоящей на галерее второго этажа среди красных гвоздик. Прекрасный вид открывался с нашей горы.
В детстве я часто слетала во сне с галереи, парила над Шушой, делала круг над нижней, татарской частью города, возвращалась к Казанчинскому собору, облетала неприступный Кире и направлялась к долине Аракса. Ни с чем не сравнимую легкость таких полетов мне не пришлось испытать наяву — я никогда не летала на самолете.
Позже я узнала, что Анну Лазаревну направил в Шушу Бакинский комитет партии. БК поручил ей собрать деньги и напечатать литературу к готовящейся всеобщей забастовке. Шуша, куда на лето съезжались бакинские тузы, была едва ли не самым подходящим для этого местом. Чем могла, я помогала ей, хотя основной моей задачей было, как всегда, заработать частными уроками деньги для продолжения учебы в Баку. Свободное от уроков время поглощали совещания, собрания, организация и подготовка благотворительных вечеров, выступлений, спектаклей. Все студенчество было втянуто в дело, все местные либеральные дамы.
Бакинская забастовка, одним из руководителей которой стал Людвиг, началась в июле. Брат часто писал нам, просил денег, присылал тексты листовок, которые требовалось напечатать.
На чердаке дома работали три гектографа. Анна Лазаревна, Лиза и я часами пропадали там. Мама начала интересоваться, чем это мы занимаемся.
Как-то, задремав после обеда, отец был разбужен грохотом. Это Анна Лазаревна взобралась на лестницу, чтобы разложить мокрые листки, и упала. Отец тотчас встал, поднялся на чердак. Видимо, он и раньше догадывался. Мы были неважнецкими конспираторами в доме, где нам, по существу, ничто не угрожало.
Отец появился внезапно, застал нас врасплох. Его седые усы обиженно топорщились. Старческая, приземистая фигура и то, что он задохнулся, поднимаясь по лестнице наверх, — все это выражало немой упрек.
— Почему вы не предупредили меня о таком серьезном деле? Кругом соседн. Что подумают они? Зачем женщинам столько часов подряд находиться на чердаке? Все ведь слышат, о чем вы говорите… Эх! Тоже мне… Нужно покончить с этим, слышишь, Фаронька? И так? вас этой зимой дважды был обыск. За моей перепиской с сыновьями следят. Вы что, хотите совсем погубите нас?
— Прости, папа, — только и сказала я.
Что еще можно было ответить?
После этого договорилась с Айко, брат которой сочувствовал социал-демократам, чтобы перенести гектографы к ним.
Я не замечала, как пролетали дни, и не ведала, конечно, что Богдан в это время находился уже за границей. Как раз через неделю после дня моего восемнадцатилетия в Брюсселе начал работу II съезд партии. Но это позже, гораздо позже — шепотками и недомолвками — дошло до меня. А тогда я только знала из апрельского письма Богдана в Баку, что он сдал экзамены за четвертый курс Технологического института и перешел на питый. Одного не могла понять: когда при такой загруженности партийной работой он успевал заниматься, работать в лаборатории, сдавать экзамены?
В конце июля отец, настроенный радостно все эта полтора летних месяца, стал вдруг мрачным, задумчивым. Его точно подменили. Однажды за утренним чаем сказал:
— Лизанька, доченька. Ты знаешь, как люблю я Богдана. Я очень обрадовался, узнав, что у него есть девушка и что она приедет к нам в гости. Вы с Богданом подходите друг другу. Но, видно, ты не так его любишь, как он тебя. Если бы ты сильно его любила, не проводила бы все вечера до глубокой ночи с Ваней Мелик-Осиповым. Мало того, что вместе гуляете по бульвару, — сколько времени сидите потом у ворот или на ступеньках лестницы. Вся Шуша уже говорит об этом. Спрашивают меня: чья невеста эта русская девушка — сына твоего Богдана или Мелик-Осипова?
— Что вы, папа, — вспыхнув, отвечала Лиза. — Откуда у вас такие мысли? Я люблю Богдана, ежедневно ему пишу, а с Ваней у нас разговоры на партийные темы. В Баку сейчас забастовка, много дел.
— Нет, доченька, не все так просто. Я человек старый, до седых волос дожил. У меня на этот счет свое мнение. Я вот что решил. Чтобы тебя не стеснять и себя в неловкое положение не ставить, я сниму тебе комнату или у Зильфиянов, наших родственников, или у Сато — они всегда сдают. С сегодняшнего дня ты будешь жить у них, а питаться по-прежнему у нас. И когда меня спросят теперь: „Чья это невеста?“, — я отвечу: „Не знаю“. И Богдану не придется давать отчет о твоей жизни в Шуше. Скажу ему, что в конспиративных целях ты жила не у меня, и я не знаю, с кем встречалась, куда ходила, где бывала. Тем и кончим.
Лиза, вся красная, взволнованная, горящими глазами смотрела на отца.
— Какой же вы, папа…
Она досадливо махнула рукой и так сильно сжала спинку венского стула, что пальцы ее побелели.
Швейцарские часы в круглом кожаном футляре выпукло облегали широкую кисть сильной руки, и на мгновение в комнате стало так тихо, что я услышала их постукивание.
— Что ж, пусть будет по-вашему.
Я была ошеломлена решительным видом Лизы и поражена сдержанностью отца.
Дни Лиза проводила у нас, а ночевать уходила Сато. Она стала избегать встреч с Ваней Мелик-Осиповым, что радовало папу и маму. Они ведь по-прежнему любили ее.
Бедная мама! Сколько грустных, тяжелых минут пришлось ей пережить. То из-за наших гектографов, то из-за Лизы, из-за моей постоянной занятости и беготня по урокам.
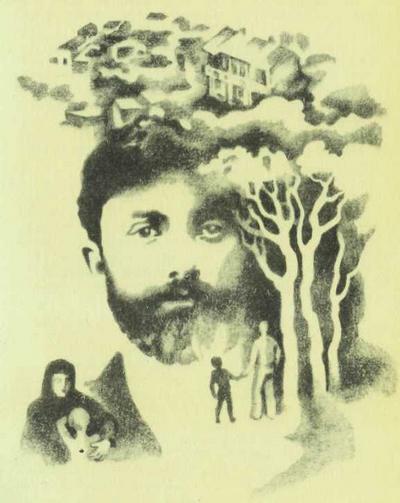
— Когда же, доченька, будешь ты отдыхать? Все твои подруги гуляют, а ты с утра до ночи работаешь…»
Этот передающийся по наследству из поколения в поколение вопрос прабабушки Соны заставил меня улыбнуться. Во всяком случае, его частенько задавала мне бабушка, каждый раз, разумеется, заменяя обращение «доченька» на более подходящее.
Я вышел в другую комнату, закрыл тетрадь и положил ее к себе в портфель, надеясь дочитать дома.
Валентин Богданович разгуливал по комнатам с заложенными за спину руками и насвистывал себе под нос какую-то неразличимую мелодию. Он не принимал участия в архивных раскопках и при всей любви к бабушке был совершенно равнодушен к ее славному революционному прошлому. Как адепта технического прогресса, дядюшку неизменно интересовало лишь будущее.
Воистину необыкновенный для наших дней аскетизм и комплекция роднили его с героем романа Сервантеса (высокий рост Елизаветы Голиковой оказался, однако, слабым генетическим признаком), тогда как моя матушка нередко называла его Плюшкиным в лицо и заглазно. С последним у дяди была разве что возрастная общность, отсутствие многих зубов и некое сходство в воззрениях на экономику, имевших своим прямым следствием предельную ограниченность в продуктах питания. Так, одного апельсина хватало ему обычно на неделю, а из трехсот граммов клубники удавалось съесть только половину, ибо другая половина успевала испортиться, несмотря на наличие в доме холодильника, отвечающего последнему слову техники. Одежда дядюшки вполне гармонировала с его внешностью, и даже деньги, предназначенные для покупки автомобиля, он, помнится, носил в авоське завернутыми в старую газету.
Принадлежал ли листок с химическими формулами его отцу Богдану, дядюшка знать не мог, ибо отца своего не помнил.
Разумеется, мне проще было пойти к другому дяде — сыну старшего из Неразлучных, одному из возможных владельцев листка, нежели читать около двухсот страниц бабушкиных записок. Дядя жил довольно-таки высоко — в одном из тех помпезных московских домов, которые вблизи являют собой как бы пародию на великолепие готических соборов, а на расстоянии выглядят весьма величественно и даже изящно.
Скоростной лифт доставил меня на нужный этаж. Дядя открыл дверь. На нем были форменные брюки с широкими генеральскими лампасами и шлепанцы, в которых он легко скользил по светлому лакированному полу. На парадном портрете, писанном маслом и воспроизведенном на цветной вклейке журнала «Огонек», эти брюки выглядели более величественно.
Коротко изложив дяде цель визита, я показал листок с формулами. Водрузив на нос очки, дядя некоторое время изучал его, потом, взглянув на меня с недоумением, сказал:
— Бред какой-то. Здесь написана совершеннейшая глупость. Почему тебя интересует подобная чепуха?
Я объяснил.
Дядя снял очки с отсутствующим видом. Мне показалось, что он больше не сердится. Лицо его сделалось добрым и ласковым.
— Пойдем покажу тебе кое-что.
Мы перешли в другую комнату. У большого зеркала дядя отпустил мою руку и принялся вытаскивать стоявший за ним у стены большой подрамник с натянутым холстом. Прислонив картину к косяку двери, он отбежал в сторону.
— А? — спросил дядя. Его глаза сияли. — Итальянское Возрождение!
Он поправил холст, чтобы поверхность не бликовала.
— Итальянское? — переспросил я, продолжая думать о своем.
— Приглядись повнимательнее. — Тапочки зашлепали мне навстречу. — Как написаны пальчики младенца. Даже боюсь предположить, чьей кисти может принадлежать эта картина. Спроси, где я ее достал?
— Где?
— У одной старухи. Холст был весь черный. Ничего не видно. Риск был, конечно. Я взял с собой растворитель, потер, отмыл в уголке, а там — небо…
Он подбежал к картине, поскреб ногтем нос девы Марии.
Я спросил:
— Не знаешь, какой химической проблемой занимался Богдан Минаевич в Петербургском технологическом институте?
Дядя с удивлением взгляпул на меня.
— В том, что это Итальянское Возрождение, нет никаких сомнений. Весь вопрос, кто автор.
— А отец, — спросил я, — твой отец какой занимался проблемой?
— Все, кто был связан с Баку, работали по нефти.
Как бы досадуя на то, что я не вполне оцепил последнее его приобретение, дядя взял картину обеими руками и понес ее прятать за зеркало мимо горящего позолотой, сияющего эмалью, просвечивающего алебастром дворцового великолепия квартиры.
— Эти формулы не мог написать твой отец?
— Нет, — отрезал дядя. — Кстати, ты моих Базилей видел?
— Конечно. Они ведь давно здесь висят.
— Ну и как тебе?
— Замечательные вещи. Особенно та, что справа.
— А мне что-то не очень. Мне больше нравится старая живопись. Ты посмотри, какое у нее личико. Какие пальчики. Как все выписано. Догадайся, чья это работа?
— Грёз?
— Вот! — воскликнул дядюшка, осчастливленный. — Я тоже считаю, что это Грёз. И ты так считаешь? А некоторые, — сказал дядя, осуждающе кивнув куда-то в сторону, — сомневаются, что это Грёз. Как твои дела? — поинтересовался он вдруг.
— Ничего.
— Не надоела химия?
— Пока нет.
— Скучная паука, — сказал дядя. — Не понимаю, зачем молодые, способные люди стремятся в химию. Если бы я начинал заново, то занялся бы биологией или астрофизикой.
— Что же мешает?
— Годы, — жестко сказал академик. — А вот зачем ты занялся химией?
— Боюсь, что это у меня наследственное, — заметил я. — Бакинские гены.
Дядя рассмеялся.
— Между прочим, моего Бальтазара Аста недавно брали на выставку, удостоили похвалы в каталоге. Сейчас я тебе покажу.
Дядя рьяно принялся перебирать бумаги на столе, будто несколько отпечатанных типографским способом казенно-поощрительных слов по поводу принадлежащего ему натюрморта Бальтазара Аста значили для него больше, чем все его химические и военные заслуги, вместе взятые.
Вернувшись домой, я вновь раскрыл бабушкину тетрадь, но не в начале, а пропустив несколько десятков страниц, ибо ничего, связанного с химическими формулами, там не могло оказаться.
«В декабре 1903 года, — писала бабушка, — Лидия Николаевна Бархатова, встретившись со мной в Балаханах, сказала, что если я хочу видеть Богдана, то должна остаться ночевать у нее. Завтра воскресенье, а сегодня поздно вечером мы пойдем в одно место.
— Неужели Богдан в Баку? Когда он успел вернуться? Почему я ничего не знаю об этом?
— Успокойся, ради бога, и никому не говори. Богдан не хочет, чтобы о его приезде знали в городе.
Перед отъездом из Шуши в Баку мы договорились с Варей Долухановой и с Сато, что поселимся втроем в одной комнате. Так будет дешевле и удобнее: одной жить страшно.
Папа и мама плакали, провожая нас».
Далее бабушка приводила слова своего отца, обращенные к Лизе, которая уезжала из Шуши на две недели раньше:
«Увидим ли когда Богдана? Передай ему нашу просьбу: пусть бережет себя. Ведь такой талантливый человек зря пропадает. Берегите себя оба, любите друг друга. Прости, Лиза, если обидел тебя своими сомнениями. Каюсь, дорогая, каюсь…»
И ответ Лизы:
«Что вы, папа. Вы ведь хотели предостеречь меня. Спасибо за все. Я горжусь, что у Богдана такой отец, и всегда буду помнить о вашем гостеприимстве».
Слезы на глазах прадедушки Мирзаджана могли показаться проявлением обычной стариковской чувствительности, неоправданных страхов, если бы его риторический вопрос: «Увидим ли когда Богдана?» — не имел столь жестокого ответа: «Нет, никогда не увидите».
Что же касается мимолетного бабушкиного замечания на предыдущей странице о том, что Лиза Голикова была «вызвана Богданом в Тифлис», то оно, пожалуй, свидетельствует лишь о незнании истинного местонахождения брата. Отправляясь в Женеву, Ляза, правда, могла сказать о посадке в Тифлис в конспиративных целях. Может, она и в самом деле побывала там, прежде чем выехать за границу.
В июне бабушка пишет о ней как о невесте Богдана, а в октябре Надежда Константиновна Крупская, принимавшая участие в женевском собрании большевиков после их ухода со съезда Лиги, называет Лизу его женой. Это следует из соответствующей выписки:
«Плеханов заявил, что надо идти на уступки. „Бывают моменты, — заявил он, — когда и самодержавие вынуждено делать уступки“. „Тогда и говорят, что оно колеблется“, — подала реплику Лиза Кнунянц. Плеханов метнул на нее сердитый взгляд».
Об условиях жизни в Баку по окончании летних каникул бабушка Фаро писала:
«В сентябре мы наняли втроем комнату на Верхно-Тазапирской улице, в татарской части города. Хотя далеко и страшновато по вечерам возвращаться домой, зато дешево — двенадцать рублей на троих. Это уже потом выяснилось, как обманул нас почтовый чиновник, старый холостяк, сдававший комнату. Оказывается, он всю свою двухкомнатную квартиру нанимал за двенадцать рублей и, сдавая нам комнату, сам жил бесплатно. Много мы шутили над тем, как содержим на свой счет почтового чиновника.
Для заработка я решила преподавать сразу в двух местах — в воскресной школе и в вечерней на Баилове. На восемнадцать — двадцать рублей в месяц можно было жить, не бегая днем по урокам. Ведь я училась уже в седьмом, последнем классе.
Саша Бекзадян и Мелик Меликян одобрили мое решение. „Ничего, что далеко, — говорили они. — Зато, работая на Баилове, можно совмещать педагогическую работу с пропагандистской и агитационной“.
Так начался учебный 1903 год. Учебники достали товарищи, тетради нам с Лелей Бекзадян подарила Машо-куйрик. Если не считать того, что в дни занятий в вечерней школе я не успевала делать уроки, то жизнь моя была вполне устроена. Ежедневно к нам приходили старые друзья: Трдат Трдатян, Егор Мамулов, а также мой новый знакомый — поэт Кирилл Трошев…»
Чтение бабушкиных записей увлекло меня само по себе, даже вне связи с химическими формулами. Так, наткнувшись на имя Кирилла Трошева, я вспомнил, что оно мне знакомо. Что-то говорила о нем бабушка или мама в связи с какими-то старыми фотографиями. Но что? Когда?
Листая тетрадь, я все дальше уходил не только от декабрьского разговора с Лидией Николаевной Бархатовой, но и от причин, побудивших бабушку прекратить работу в вечерней баиловской школе. Связь событий распалась, и я снова вернулся к тому месту, на котором прервал чтение.
«Какой-то лезгин, — писала бабушка, — стал преследовать меня, забросал безграмотными записками. Вместе с ним начал писать другой ученик вечерней школы — Смирнов, который грозился убить меня и покончить с собой. „Я не в силах больше так жить. Вы убили во мне человека, оставив одного дикого зверя“.
Сначала мы только смеялись. Потом, когда дело приняло угрожающий оборот, Варя посоветовала перейти работать в балаханскую вечернюю школу. Там более скромная публика, и мы сможем иногда вместе возвращаться домой с работы. Это был выход.
Лидия Николаевна жила в Балаханах, работая там библиотекаршей. Я пришла к ней в субботу сразу после занятий в вечерней школе.
— Вот и хорошо, — сказала она. — Скоро пойдем.
Ночь выдалась темная и дождливая. В сопровождении молодого молчаливого рабочего мы направились в район Асадулаевской фирмы к старой, заброшенной вышке, где было устроено что-то вроде сарайчика. Нас пропустили по паролю „Ходи домой“. Судя по размерам строения и приглушенным голосам, собралось не более пятнадцати человек. В темноте нельзя было различить лиц.
Но вот чиркнули спичкой. Сжавшись в крохотный комок, точно привыкая к мраку и холоду, один огонь породил другой, который, разгораясь и распрямляясь, тотчас осветил ровным светом свечи небольшое пространство.
Я сразу увидела его, бросилась навстречу:
— Ты откуда?
— Сейчас все узнаешь.
— А я здесь неподалеку в школе работаю, — шептала я.
— Как старики?
— Беспокоятся о тебе. Просят, чтобы поберег себя.
Он улыбнулся.
— Вот достанешь мне шапку-невидимку, и тогда все будет в порядке.
В полутьме насмешливый голос брата звучал почти торжественно. Я все еще не верила, что вижу его наяву. Это было скорее похоже на гадание перед зеркалом.
— Пора начинать.
Кажется, это сказал Саратовец. Я скорее догадалась по голосу, чем увидела его глубоко посаженные, голубые глаза типично русского человека. Маленькие, печальные глаза, чем-то напоминающие кошачьи. Когда-то они тревожили, волновали и правились мне. Нет, это был, пожалуй, не он. Саратовец перебрался в Баку позже.
— Приехавший из Женевы товарищ сделает сейчас сообщение о недавно состоявшемся II съезде партии, — сказал кто-то.
Этим товарищем был Богдан».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ
Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ
Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
ГЛАВА 9. Глава для моего отца
ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»
«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ
Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним
Глава Десятая Нечаянная глава
Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная