ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
Первая часть романа «Как закалялась сталь» печаталась в пяти номерах «Молодой гвардии» с апреля по сентябрь 1932 года[61]. Роман увидел свет в сокращенном виде; многие страницы в журнале были сокращены из-за «режима бумаги».
В декабре того же года первая часть романа вышла отдельным изданием. Островский приступил к работе над второй частью. Еще в феврале он писал А. А. Жигиревой:
«Я принимаюсь за литучебу и намечаю план новой работы. Но учеба и учеба…»
С тех пор вплоть до 1933 года (сначала в Москве, затем в Сочи) он продолжал работать над второй частью «Как закалялась сталь».
Кривая его жизни попрежнему колеблется и скачет. Его письма, подобно графику температуры, запечатлели эти взлеты и провалы; мы восстанавливаем по ним линию его самоотверженной борьбы.

Дом в Сочи, на Приморской, 18, где Н. Островский работал над второй частью романа «Как закалялась сталь».
1932 год. Апрель
«Нелепо разгоревшаяся болезнь оттянула работу над второй частью «Как закалялась сталь».
Июнь
«Я на-днях, наверно, уеду в Сочи, в санаторий… Стал кашлять кровью и физически ослаб… На литфронте все радует и ободряет к жизни, к труду, все зовет, дает толчок, дает напряжение в 100 тысяч вольт. Ненавижу все эти хворобы, как классового врага».
Август
«Я на свежем воздухе целые дни, под дубами. Начал работу».
Октябрь
«Моя жизнь — это работа и дружба друзей…
Я стал суровее. Жизнь наша требует большой воли, упорства и веры в лучшее, большое, яркое, скорое будущее. Без этого упадочничество и уныние».
Декабрь
«Мною уже написана четверть второй книги. Борьба за качество… К партчистке я прихожу уже как трудящийся, а не как лодырь».
«Беру все преграды, а их уйма, упорством. Суровы мои дни, но все силы, всю жизнь отдаю книге. Сам пишу, своей рукой… Спешу жить… Хочу написать, пока сердечко стучит».
«Мое желание работать обратно пропорционально возможностям, и все-таки — движение вперед… Я устаю раньше, чем истекают созданные образы. В моем «секретариате» чудовищная текучесть. Как жаль, что здесь нельзя применить декрет СНК о прогульщиках… Я назло всем предсказаниям врачей о моей скорой гибели упорно продолжаю жить и даже иногда смеяться. Ученые эскулапы не учли самого главного: это качество материала их пациента. А качество вывезло. «Разве могут не победить те сердца, в которых динамо», — говорил Павка Корчагин в своей горячей речи в 21-м году. Это относится и ко мне».
1933 год. Январь
«Сорвалось было мое здоровье. Залихорадило. Простудился. 20 дней ни одной строчки. Сейчас опять в труде».
Февраль
«Напряженно работаю».
Март
«Я работаю добросовестно, то-есть вкладываю в труд все наличие физических сил, пишу пятую главу… Мои силенки сгорают быстрее, чем бы я хотел, а отвратительные месяцы с непрерывными дождями и промозглой сыростью для меня убийственны. В груди играют марши, но зато незыблема упрямая воля и неудержимо стремление к труду. У нас партийная чистка. Шваль и балласт летят за двери, метут сурово и беспощадно. Глядишь — и сердцу приятно».
Апрель
«Стараюсь работать по совести. Кончаю седьмую главу».
Июнь
«Закончена и отослана в Москву вторая часть «Как закалялась сталь» — 330 печатных страниц. Усталость — громадная. Отсыпаюсь за бессонные ночи».
«Мое настроение прекрасное. Как же может быть иначе? Вышел на первую линию по всем показателям — это в отношении темпов и интенсивности труда, каково же качество моей продукции— покажет будущее».
Как мы видим, в состоянии здоровья Островского не произошло за это время никакого улучшения. Более того, напряженная работа над первой частью романа еще больше подорвала его организм. Центральная лечебная комиссия при ЦК ВКП(б) в июне 1932 года срочно направила его в сочинский санаторий «Красная Москва». Он уехал вместе с матерью и, закончив курс санаторного лечения, по настоянию врачей продолжал оставаться в Сочи.
Один из обычных здешних декабрьских дней, — сырой и теплый день черноморской зимы, — оказался тем самым днем, о котором он мучительно мечтал на протяжении последних лет. В Сочи была получена вышедшая в отдельном издании первая часть романа «Как закалялась сталь», и Ольга Осиповна принесла из магазина Когиза связку авторских экземпляров.
Островский попросил дать книгу ему в руки. Его тонкие быстрые пальцы ощупывали переплет, пробовали качество бумаги. Палец нащупал в переплете впадину тиснения. Невидящие глаза насторожились. Он пытался на ощупь определить рисунок на переплете. Пальцы то возвращались к нижнему краю переплета, то снова и снова пробегали по узкой полоске рисунка. Лоб нахмурился. Он напряженно думал, как бы проверяя себя и не веря догадке. «Неужели это штык?» — наконец спросил он.
Да, это был блестящий серебряный штык, пересекавший наискось стальной фон коленкорового переплета.
— Послушай, Лев, — обратился он к находившемуся здесь, в его комнате, другу Льву Берсеневу[62], — ведь это замечательно, ведь это тот самый штык, о котором писал наш друг Павел Корчагин брату Артему. Ведь это мой штык, мое новое оружие, которое позволит мне вместе со всеми вами, вместе с партией, со всей моей страной драться в строю бойцов за социализм!
Его радости и торжеству не было предела. Он десятки раз просил подробно описать ему вид книги, рассказать, как выглядит переплет, на какой бумаге она напечатана, каким шрифтом. Просил узнать имя художника, нарисовавшего иллюстрации, — он хотел писать ему.
Вечером Островский перечислил близких товарищей, которым хотел подарить книгу. Первой в списке значилась «матушка». Затем он продиктовал надписи и собственноручно под каждой подписался.
На следующий день он заставил прочесть ему вслух всю книгу. Слушая ее, Островский испытывал и чувство огромной моральной удовлетворенности и чувство досады: редактор резал порой по живому мясу, — были вычеркнуты даже слова «самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь…»
Попадались грубые опечатки. К тому же он убеждался, что и сам не все изложил так, как хотелось. Вторая часть должна быть значительно ярче.
После короткого отдыха снова началась работа. Комната его находилась на Приморской улице, в доме № 18. Во дворе росли многолетние дубы. За короткой фразой письма: «Целые дни под дубами» — кроются долгие дни поистине ударного труда. Обычно с утра Островского выносили на плетеном лежаке во двор и вставляли под раскидистой тенью деревьев. Он не переносил комнатной духоты. А здесь и в жаркий день было свежо и приятно. Двор выходил в Приморский парк; за парком начиналось море.
Место было хорошее. Но квартира была тесновата: Островский переселился сперва в дом № 29 по Ореховой улице, затем — в дом № 47, окруженный фруктовыми деревьями и пышными кустами олеандров. Его часто навещала молодежь.
В то время, в феврале 1933 года, познакомился с Островским главный врач Сочинской районной больницы Михаил Карлович Павловский. Больной, по понятным причинам, относился к врачам с недоверием. Случалось, кто-либо из родных, без его ведома, приглашал доктора. Узнав об этом! Островский рассерженно ворчал: «Ты вызвал (или вызвала) — пусть он тебя и осматривает. Мне он не нужен». На книге, подаренной одному из сочинских врачей, Островский написал: «От человека, который никогда не был порядочным больным и не будет».
Но доктору М. К. Павловскому Островский поверил как-то сразу; они быстро сдружились. Павловский стал для молодого писателя близким, необходимым человеком.
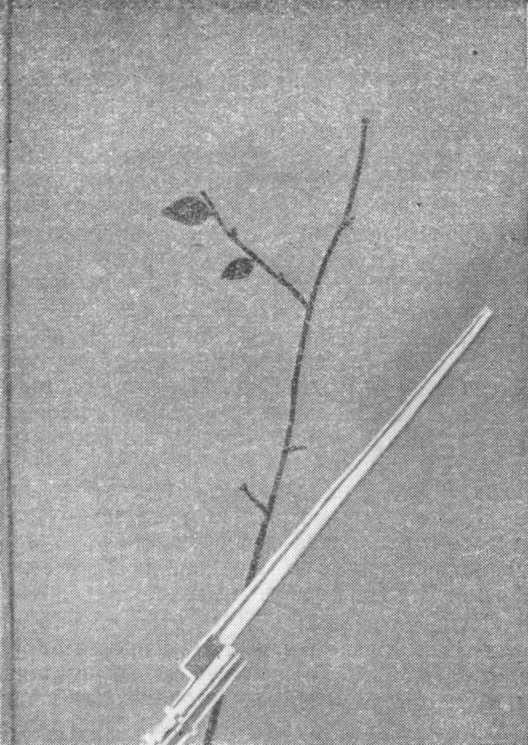
Переплет первого издания «Как закалялась сталь».
Островский тепло называл Павловского «юношей, убеленным сединами». На экземпляре «Как закалялась сталь», подаренном доктору, написано рукой автора; «Михаилу Карловичу Павловскому! На память о его упорной борьбе за возрождение отчаянной жизни парня».
Действительно, в течение трех с половиной лет доктор М. К. Павловский[63] вел упорную борьбу за жизнь Островского. Бороться приходилось не только с болезнями. Забегая несколько вперед, скажем, что в конце 1934 года к Островскому в Сочи явился Казаков (тот самый, что участвовал в банде, злодейски умертвившей В. Р. Менжинского и А. М. Горького). Он применил «лекарства» и «методы», действие которых вызвало резкое ухудшение в состоянии больного. М. К. Павловский вмешался со всею решительностью. По его настоянию Н. А. Островский перестал выполнять предписания врача-убийцы.
Позже, уже из Москвы, Ольга Осиповна, жалуясь находящемуся в Сочи Павловскому на то, что сын ее не следит за своим здоровьем, писала:
«Вы единственный в медицине пользуетесь его доверием… Вас он слушался и лечился».
Но Павловский был для Островского не только авторитетным врачом и даже не просто другом. Человек энциклопедических знаний, с живым, острым умом и юной душой художника, обладатель богатейшего жизненного опыта, Павловский был для Островского своеобразным «университетом на дому», постоянно желанным собеседником.
Медик по специальности, он окончил, кроме медицинского, также юридический факультет и музыкальную школу, владел кистью и пером, хорошо рисовал, корреспондировал в газеты. Жизненный опыт его был богат и многосторонен. М. К. Павловский служил полковым врачом во время русско-японской войны и находился в действующей армии в качестве старшего врача артиллерийской бригады во время первой мировой войны 1914–1918 годов. Он принадлежал к той части передовой русской интеллигенции, которая с первых дней Октябрьской революции примкнула к большевикам и твердо стала на сторону советской власти.
Островскому дорого было и то, что шестидесятилетний доктор воевал в гражданскую войну в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах, встречался с товарищем В. И. Лениным, с товарищами М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинским.
Врач и его пациент вместе вспоминали боевое прошлое, говорили о литературе, искусстве. Павловский рассказывал Островскому о прочитанных интересных книгах (в его личной библиотеке насчитывалось около трех тысяч томов), читал, приносил клавиры опер, исполнял отдельные арии…
После первого своего визита к Островскому доктор М. К. Павловский записал:
«Автомобиль подвез нас к домику № 47 по Ореховой улице. Мы вошли в скромный флигель, расположенный в глубине двора. Правую половину усадьбы занимал сад. Квартира Н. А. Островского состояла из двух небольших комнат. Первую, поменьше, занимали мать и сестра писателя. Во второй жил он сам. Это была небольшая комната, два окна которой выходили на северо-восток. Два стола, книжный шкаф и несколько стульев составляли всю его скромную обстановку. На стене висел портрет И. В. Сталина.
Почти на середине комнаты стояла кровать, на которой неподвижно лежал человек в возрасте около тридцати лет. Черные волосы обрамляли его лоб. Приветливая улыбка освещала лицо и смягчала несколько суровое выражение.
Мы познакомились. Начался обычный врачебный опрос. В результате осмотра я диагносцировал болезнь Штрюмпель — Мари — Бехтерева, то-есть одеревянелость позвоночника, прогрессирующий, обезображивающий суставной ревматизм, слепоту на оба глаза, почечные камни, остаточный левосторонний сухой плеврит с возможностью туберкулеза легких. Кроме того, имелась весьма значительная атрофия мышц. Конечности больного вследствие окостенения суставов были совершенно неподвижны. Шея также неподвижна. Вращение головы невозможно. Только в лучезапястных суставах и суставах рук сохранилась ограниченная подвижность. Движение нижней челюсти также весьма ограничено. Рот открывался лишь настолько, что между зубами проходила пластинка около сантиметра толщиной. Сердце работало удовлетворительно, и с этой стороны опасности не было. Но болезнь, несомненно, имела наклонность прогрессировать.
Это был один из самых тяжелых случаев такого рода заболевания. Больной должен был испытывать мучительнейшие боли. Судя по рассказам Николая Алексеевича, все терапевтические мероприятия, так же как и неоднократные хирургические вмешательства, особой пользы не принесли. Медицина оказалась в данном случае бессильной.
С первого же момента осмотра больного я невольно отметил его образ и манеру держать себя. Его ответы на все мои вопросы отличались краткой и точной формулировкой.
Как оказалось, Николай Алексеевич был отлично осведомлен о сущности своего заболевания и знал, что исход его болезни предрешен.
Из уст этого живого изваяния лилась поражавшая меня речь, насыщенная самым радостным оптимизмом. Он тонко иронизировал над медицинским бессилием и своими болезнями. Он рассматривал свои болезни как барьеры, которые его воля должна в борьбе за жизнь и творчество преодолеть во что бы то ни стало. Вообще ему некогда страдать. Он должен работать и будет работать…»[64]
В то время, к которому относится эта запись, Островский работал с особенной яростью. Раньше против темных сил недуга в нем боролись лишь силы неистребимой надежды на возвращение в строй. С помощью этих сил он отбил атаки смерти и выстоял. Сейчас же, когда надежда сбылась и он ощущал уже себя в строю, — силы жизни, окрыленные победой, стали еще крепче, увереннее. Он знал, как высоко оценили читатели выкованное им самим новое оружие, с которым он вступил в строй, и это возбуждало в Островском жажду еще более активной деятельности. Его труд признавали нужным, полезным и ценным. Значит, не зря он боролся и жил. Восемьдесят процентов тиража только что отпечатанной книги были куплены Политуправлением РККА для Красной Армии. В декабрьском номере журнала «Книга — молодежи» за 1932 год появилась рецензия «В активе комсомольской литературы». Отмечалось, что книга читается с громадным, захватывающим интересом, что она заслуживает широчайшего распространения в массах молодежи, так как воспитывает их в духе коммунизма и поднимает на борьбу и победу. Аналогичные отклики были напечатаны в 1933 году в № 5 «Молодой гвардии» и в № 11–12 журнала «Рост». Товарищи горячо одобряли первую часть книги и ждали ее окончания.
«Моя жизнь — это работа над второй книгой, — писал Островский в мае Гале Алексеевой. — Перешел м «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как на кинопленке, события и рисуются образы и картины. Павка Корчагин уже разгромил глупое свое чувство к Рите. И, посланный на стройку дороги, ведет отчаянную борьбу за дрова, в метели, в снегу. Злобно воет остервенелый ветер, кидает в лицо комья снега, а вокруг бродит неслышным шагом банда Орлика…»
В июне 1933 года вторая часть романа была вчерне окончена. Но Островский теперь не торопился с ее изданием, а возвращаясь к рукописи, улучшал ее, переписывал и дописывал отдельные страницы и главы. Сказывалась упорная его учеба; он больше знал, больше умел и неизмеримо больше от себя требовал.
«Я признаю, — писал Островский 11 августа А. А. Караваевой, — что вторая книга не такова, какой я хотел бы ее видеть, и, несомненно, когда будут силы, я возьмусь за капитальную переработку книги».
И, руководствуясь этим сознанием, он делал все возможное (и невозможное!), чтобы поднять качество достигнутого.
Уже в мае 1934 года, подготавливая польское издание романа, Островский сообщает свои планы доработки книги.
«Во-первых, ввожу в эпизод расстрела поляками нашей подпольной организации тот факт, что поляк-солдат, радиотелеграфист, имевший связь с подпольным комитетом, тоже был приговорен к 20 годам каторги. Этим самым борьба за советскую власть рисуется не как дело лишь одних украинцев.
Во-вторых, образ поляка-революционера, машиниста, старика Политовского Вячеслава Сигизмундовича, должен быть расширен в национальном разрезе в противовес польским панам типа Лещинского и других.
Есть еще два рабочих-поляка, принимавших участие в борьбе за советскую власть. И если расширить обрисовку комиссара продовольствия Пыжицкого (тоже поляка, о нем сказано лишь два слова), то этим самым несколько сгладится то возможное впечатление, что все поляки сплошь отрицательные типы, что, конечно, ни в коем случае не входило в мои замыслы и что резко противоречило бы действительности».
Он выполнил задуманное, и сделанные им поправки свидетельствуют о политической зоркости и чуткости писателя.
Читая «Как закалялась сталь», мы запоминаем молодого капрала Снегурко. В этом образе нашел свое воплощение замысел, приведенный выше («поляк-солдат, радиотелеграфист, имевший связь с подпольным комитетом…»). Первоначальный замысел (присуждение Снегурко к 20 годам каторги) нашел иное воплощение. Узнав о смертном приговоре, вынесенном ему военно-полевым судом, Снегурко не подал прошения о помиловании. Он признал, что является членом коммунистической партии и вел пропаганду среди солдат. Но предъявленное ему судьями обвинение в измене родине он с негодованием отверг.
«— Мое отечество, — сказал он, — это Польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши, солдатом меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я, солдатами которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет, — я в этом глубоко уверен, — никто меня изменником не назовет».
Рельефнее и ярче стал также образ старого железнодорожного машиниста Политовского, который «при царе не возил при забастовках» и теперь, то-есть в 1918 году, когда гетман Скоропадский привел на Украину армию кайзера Вильгельма, тоже отказывается везти карателей и устраивает крушение поезда.
В седьмой главе мы знакомимся с продкомиссаром Пыжицким. Стуча кулаком о барьер трибуны, он говорит по-польски на фабричном собрании:
«Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть советская всех их в железный кулак сожмет. Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь…»
Эта правка, предназначавшаяся, конечно, не только для предстоявшего польского издания, но и вообще для всех последующих изданий романа, открывает существенно важные стороны в творческой лаборатории Островского. Он представил себе обширную группу своих будущих читателей, к которым придет его книга на их родном, в данном случае польском, языке. И, представив, глубоко задумался об их грядущей судьбе, о политической судьбе польского народа. В этих раздумьях коренится суть всех упомянутых поправок, внесенных в роман. Писатель не только отображал реальную расстановку сил в прошлом и в настоящем, противопоставляя машиниста Политовского шляхтичам Лещинским, — он набрасывал также прообраз строителя будущей Польши, создавая образ Снегурко.
Раздумья заставляли Островского вновь и вновь возвращаться к своей книге; они изменяли роман от издания к изданию[65].
Живя в Сочи, Островский усердно продолжал вести партийно-пропагандистскую работу, руководил районным советом культстроительства, литературным кружком.
В этот кружок входили А. П. Лазарева — будущий секретарь Островского — и писательница В. И. Дмитриева — автор повести «Червоный хутор» и рассказов для детей (с Дмитриевой Островский познакомился еще осенью 1930 года). «Прочел ваш «Червоный хутор» и хотел бы побеседовать, — писал он ей. — К сожалению, сам не могу притти, прикован к постели. Приходите вы, буду ждать». Она пришла и с тех пор часто навещала квартиру Островского.
Кружок собирался раз в неделю по выходным дням. Здесь знакомились с новинками советской и зарубежной литературы, читали и обсуждали рукописи кружковцев, критические статьи, печатавшиеся в «Правде» и литературных журналах.
«Занятия кружка происходили обычно так: на предыдущем собрании мы назначали какую-нибудь вещь к прочтению; иногда кому-нибудь давалось задание ознакомиться с этой вещью, сделать что-то вроде маленького конспекта для себя, чтобы потом прочесть на кружке небольшой реферат. Товарищ излагал свою точку зрения, давал критическую оценку произведению, а затем шел уже обмен мнениями.
Когда у Коли собирался кружок, то, обычно, собрание заканчивалось его словом, к которому все очень прислушивались. Все ловили каждое его слово. И это вполне понятно, ибо суждения его всегда были очень остры, красочны, оригинальны и насыщены большим содержанием. Критическая оценка произведения, даваемая Николаем, была четкой, образной, выкристаллизованной и являлась синтезом всех других высказываний»[66].
Островский писал в декабре 1933 года.
«Как я прожил последние три месяца? Я отнял от литучебы массу времени и отдал его молодежи. Из кустаря-одиночки стал массовиком. В моей квартире происходят заседания бюро комитета. Я стал руководителем кружка партактива, стал председателем районного совета культстроительства, в общем! придвинулся к практической работе партии вплотную. И стал полезным парнишкой. Правда, я сжигаю много сил, но зато стало радостней жить на свете. «Комса» вокруг. Непочатый край работы на культурном фронте. Заброшенные, с полунищим бюджетом, с хаотическим учетом городские библиотеки возрождаются и становятся боеспособными. Создал литкружок, как могу, так и руковожу им. Внимание партийного и комсомольского комитетов ко Мне и моей работе большое. Партактив у меня бывает часто. Я ощущаю пульс жизни, я сознательно пожертвовал эти месяцы местной практике, чтобы прощупать сегодняшнее, актуальное».
Приближалось пятнадцатилетие комсомола, и сочинская организация торжественно обменяла старый комсомольский билет Островского на новый. «Сочинская «комса» возвратила меня в свои ряды», — говорил он.
Жизнь его была наполнена до краев, вот почему он и считал себя боеспособным на «все сто».
В месяцы, «пожертвованные местной практике», Островский успел прочесть «Шагреневую кожу» О. Бальзака и «Воспоминания» В. Фигнер, «Анну Каренину» Л. Толстого и «Последний из удэге» А. Фадеева, «Дворянское гнездо» И. Тургенева и «Вступление» Ю. Германа, номера «Литературного критика» и «Литературного наследства».

Комсомольский билет Н. Островского
Он неустанно готовил себя к предстоящей новой работе. Думая о ней, Островский писал: «С нового года начинаю наступление».
Болезнь пыталась сорвать это наступление. Весной 1934 года жизнь его висела буквально на волоске. «С величайшим трудом удалось тогда отстоять его от смерти», — вспоминает М. К. Павловский. Больше, чем физические боли, Островского, как всегда, мучило сознание, что силы уходят и творческие планы под ударом. И, как всегда, едва почувствовав улучшение, он удесятерял темпы, торопясь к цели и стремясь наверстать упущенное во время острого припадка болезни.
«Я учусь упорно и настойчиво, — писал он, поправившись. — Мне читают так много, пока не иссякнут силы у меня и у читающего. Набросаны силуэты новой книги, и скоро я начинаю работать. Сейчас же учеба и учеба. Ведь вперед итти можно только ростом. Топтание на месте — это гибель. С меня теперь будут требовать, как с подмастерья, а не как с ученика, и потому учеба до головокружения…»
18 марта 1934 года в «Правде» появилась статья А. М. Горького «О языке». Она вызвала живейший отклик в среде литераторов и широких кругов читателей. Великий писатель резко выступал против засорения русского языка всяческим «паразитивным хламом». Он писал, что борьба за очищение книг от неудачных фраз так же необходима, как и борьба против речевой бессмыслицы, и дружески указывал начинающим литераторам путь, идя которым они могут быстро и сильно вырасти.
Статья эта оказала большое влияние на Островского. Она многому научила его, заставила еще более критически взглянуть на свой труд. Под ее впечатлением он написал статью «За чистоту языка», в которой горячо поддержал Горького.
«Я открываю первую книгу повести, — писал он, — вновь читаю, вернее слушаю, знакомые строки, и статьи великого мастера открывают мне глаза, я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркивается. И если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет».
Отклик Островского на статью Горького остро самокритичен. Он понимает, что борьба за чистоту языка, за его смысловую точность есть борьба за орудие культуры. Чем оно острее, чем более направлено— тем оно победоносней. Ему тоже не по душе люди, «оседлавшие» славу. Беспокойное чувство ответственности за писательский труд диктует ему следующие строки:
«Архитектор, прежде чем построить изумляющее своей красотой и стилем здание, кроме любви к своему искусству и таланта, годами учится технике строительства, азбуке архитектуры. Думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что многие из нас, молодых писателей, не овладели азбукой литературы. В нашей стране, исключительной по своему строю, самой свободной стране в мире, выходят из печати десятки и сотни произведений, которые нужно назвать «первой пробой руки». Эта работа учеников-подмастерьев художественной литературы. Только у нас возможно это. Но, получив право еще в ученическом периоде печататься, неизбежно внося в литературу сырой полуфабрикат, молодой писатель не имеет права забывать, что страна дает ему аванс за счет его таланта, искорки которого вспыхивают в его произведениях среди беспомощных, детских нагромождений, и что этот аванс он должен вернуть. Оплатить этот счет можно лишь одним ростом на основе большой и упорной учебы, овладением техникой, а для этого нужна учеба, учеба и еще раз учеба».
Островский показывал пример такой учебы, и потому слова его, обращенные к товарищам, звучали так убеждающе.
«Всю свою жизнь я учился у большевиков, знающих больше меня на всех участках борьбы, — писал он в редакцию «Молодой гвардии», — и жажда знать у меня ненасытна. Я глубоко уважаю тех, кто учил меня быть неплохим бойцом за наше дело. Такой же учебы я жду и от вас, дорогие товарищи».
Он ждал этого, постоянно стремился к этому. Чувствуя себя подмастерьем, Островский старался стать мастером.
На Ореховую, 47 заглянул в ту весну А. С. Серафимович. Он отдыхал в Сочи и навестил Островского. Между старым писателем-большевиком и молодым литературным «подмастерьем» установились дружеские отношения. Островский не раз потом с сыновней благодарностью вспоминал о своем дорогом госте.
«Трижды был у меня А. Серафимович, — писал он 4 мая 1934 года. — Старик сделал подробный анализ моих ошибок и достижении. Очень и очень полезна мне эта встреча. А. С. произвел на меня прекрасное впечатление… умница и не плохой души человек».

А. С. Серафимович у Н. А. Островского (1934).
О нем вспоминал он спустя год:
«А. С. Серафимович отдавал мне целые дни своего отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику свой опыт. И я вспоминаю об этих встречах с Серафимовичем с большим! удовлетворением».
Тогда же Островский познакомился и с Матэ Залка. Они быстро нашли общий язык; сближало боевое прошлое, схожесть неукротимого темперамента, чувство юмора. «Этот венгерец не может не стать мне другом, — говорил о нем Островский. — С такими ребятами даже умирать не скучно». (Залка послужил затем прототипом «отчаянного парня-венгерца, лейтенанта Шайно» в «Рожденных бурей».)
Гость унес еще более сильное впечатление о новом друге. Вспоминая первое посещение Островского, Матэ Залка писал:
«Наша первая встреча с Николаем не была знакомством. Это была встреча давно знающих друг друга близких людей, и мы с первого слова как бы продолжали давно начатый и незаконченный разговор.
Впечатление, которое произвел на меня Островский, можно назвать резко контрастным, и, главным образом, оно было ободряющим. То, что Николай лежит, что он разбит, не видит и т. п. — это все внешнее. Сущность — это силач, доблестный парень, боец. Да, в нем все еще чувствуется красноармеец. Он чувствует себя в рядах, и он в рядах, даже передовых. А то, что он физически таков, кажется даже ерундой, атрибутом страшноватым, но преодолимым, временным и, безусловно, неокончательным»[67].
Строки эти довольно точно передают впечатление, которое производил Островский на многих своих посетителей.
«Горящим факелом активности» назвал Островского — слепого и неподвижного — Ромэн Роллан. Он был прав. Факел этот никогда не угасал. Он разгорался тем яростней и ярче, чем сильнее налетали на него встречные лобовые ветры. Его нельзя было потушить.
Страдания не подрезали крыльев корчагинского оптимизма, краски жизни для него не потускнели. Он научился лишь еще более ценить «тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому».
Те, кто бывал у Островского, слышал его вдохновенную речь и следил за стремительным полетом большой и умной мысли, забывали, что сидели у постели человека, сраженного тяжелым недугом. Никогда и ничем не напоминал он о своей болезни. Он обычно говорил: «Когда я закрываю глаза…» И вы не вспоминали в тот момент, что его глаза уже закрыты много лет. Он жаловался на «проклятый грипп», и всем казалось, что только эта болезнь его и беспокоила. Он был слеп и говорил: «Я читаю»; он не мог шевельнуть рукой и говорил: «Я пишу»; он не мог двигаться и говорил: «Я собираюсь поехать». Слепой, он был зорче многих зрячих; неподвижный, он был подвижнее многих двигающихся; тяжело больной, он излучал столько тепла, бодрости, энергии, что люди, сидящие у его постели, чувствовали себя как-то неловко, казалось, что нездоровы они, а не Островский.
О возможной смерти своей он сказал однажды пишущему эти строки:
— Если тебе сообщат, что Николай умер, не верь до тех пор, пока сам не придешь и не убедишься в этом. Но если я все же окажусь сраженным, не пиши, как обычно пишут в некрологах: «Он мог бы еще жить». Знай: если хоть, одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся… Я уйду лишь абсолютно разгромленным. Я покажу ей, старой ведьме, как умирают большевики.

Членский билет Союза советских писателей СССР, врученный Н. Островскому и подписанный А. М. Горьким и А. С. Щербаковым.
Островский мечтал побить рекорд долголетия. Он не побил его в обыкновенном, физическом смысле этих слов. Но он безусловно поставил рекорд жизнедеятельности, жизнеактивности. Его положение было безнадежным, меч смерти, висел над его головой, а он, презирая смерть, жил так энергично, так щедро, как могут жить лишь редкие по своей полноценности люди.
Это и ощутил Матэ Залка.
Островский подолгу беседовал с ним о литературе, обсуждал написанное, делился своими замыслами.
На Ореховую, 47 пришел поэт Иосиф Уткин. Он читал свои новые стихи, рассказывал о литературной жизни столицы…
Островского тянуло в Москву. Пройдет лето — уедут и Серафимович, и Залка, и Уткин… Письма не смогут заменить личной встречи, живой беседы.
«…Я должен вернуться в Москву, — настаивал Островский перед А. Караваевой. — Это для меня непреложная истина. Рост и учеба — это Москва. А здесь даже книги необходимой нельзя найти. Чорт с ним, хоть в подвале, но лишь бы я мог встретиться с вами, говорить, делиться и на ходу поправлять ошибки. Поскольку это вопрос вообще о моем литературном будущем, то тут я буду за возврат в Москву драться. Это нужно не для меня, мне все равно где жить, — для автора первой книги нужна Москва, и я там должен быть».
Потребность уехать в Москву становилась тем острее, чем ближе подходил он к новой работе, чем яснее созревал замысел этой работы и вырастало желание драться за его осуществление.
1 июня 1934 года Островского приняли в члены московской организации Союза писателей. «Приняли, конечно, авансом, за счет моего будущего», — сообщал он А. А. Жигиревой, искренне считая себя должником.

Роман «Как закалялась сталь», выпущенный различными издательствами СССР.
Это было накануне выхода в свет второй части романа «Как закалялась сталь». Она была издана одновременно на русском и украинском языках: в издательствах «Молодая гвардия» и «Молодой бiльшовик».
Эпиграфом ко второй части стояли слова песни:
Слезами залит мир безбрежный.
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный…
. . . . . . . . . . . . . . .
Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом —
Над миром наше знамя реет,
Оно горит и ярко рдеет, —
То наша кровь горит огнем…
Знамя его собственной жизни уже реяло над миром.
И он говорил:
«Моя жизнь прекрасна. Моя заветная мечта осуществилась. Из бесполезного партии товарища я стал опять бойцом. Я нашел свое место в жизни нашей страны».
Роман быстро нашел дорогу к сердцу читателя. Особенно горячо встретила книгу молодежь. Вслед за первым изданием в том же году вышло второе. Роман перевели на польский, татарский, мордовский и чувашский языки.
11 июля 1934 года в Киеве в связи с пятнадцатилетием ЛКСМУ состоялся юбилейный пленум ЦК комсомола Украины. Прекрасно изданную книгу Островского «Як гартувалася сталь» (обе части в одном томе) раздали в виде подарка пятистам делегатам. На ее титульном листе было напечатано: «Ленинскому комсомолу Украины, воспитавшему меня, посвящаю свой труд».
В журналах и газетах продолжали появляться рецензии и письма читателей. Последние главы «Как закалялась сталь» были напечатаны в пятом (майском) номере «Молодой гвардии», а в шестом номере появилась статья «Рождение героя», в которой Островский был признан передовым молодежным писателем, творчество которого сыграет немаловажную роль в деле коммунистического воспитания подрастающего поколения. В других номерах печатались взволнованные отклики читателей.
Группа командиров — слушателей военных академий — писала:
«Мы с гордостью читаем, как наша партия и комсомол воспитывают таких могучих духом людей, как Павел Корчагин, которые не складывают партийного оружия и остаются бойцами на фронте строящегося социализма даже после жуткой физической катастрофы.
Печальный конец становится для нас, читателей, источником силы и бодрости. Мы считаем, что книга должна стать достоянием всего комсомола, его армейского, рабочего и колхозного отряда».
О том же сердечно писала автору замечательной книги одна из многих читательниц. Она подчеркивала, что это произведение заставляет читателя «жить одной жизнью с его героями… По мере того как автор с необычайной простотой и искренностью страница за страницей раскрывал передо мной жизнь Павки, все больше и больше я втягивалась в эту жизнь и вместе с героем переживала все его горести и радости, любила и ненавидела, страдала и торжествовала».
Она выражала уверенность, что Островский даст читателю еще много книг такой же высокой идейности и художественности.
Комсомольцы единодушно требовали издать книгу массовым тиражом. Студентка предлагала выпустить кинокартину «Как закалялась сталь».
Несколько позже газета «Комсомольская правда», выражая мнение читателей, поместила рецензию, в которой предсказывала книге большое будущее. Многие молодые герои грядущих битв с фашизмом, утверждалось в статье, на вопрос, откуда берется их мужество, ответят: «Читайте «Как закалялась сталь», тогда узнаете».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Сквозь строй
Сквозь строй IМне вспоминается внутренность деревенского кабака: маленькие окна, бревенчатые стены, грязные сосновые столы и скамьи. За столами сидят мужики и пьют водку большими шкаликами из толстого зеленого стекла. Высокая стойка отгораживает полки с бутылками и
Сквозь губернский строй
Сквозь губернский строй Кадровую работу в регионах Дмитрий Медведев считает своим крупным успехом: «Я сменил не два десятка губернаторов, а практически половину губернаторского корпуса». Первой громкой серийной отставкой стало увольнение сразу четырех губернаторов.
Укрепить строй
Укрепить строй …День июльский, настоящий, такой, как писал Борис Зайцев, когда наше лето хоть на что-то похоже: 30 градусов. Мы приехали с Шотой Ивановичем на электричке в Ильинское в 12 часов. Молотов встречает у крыльца.– Если не возражаете, пойдем полчаса погуляем. –
Сквозь строй
Сквозь строй За революционную пропаганду и организацию стачек рабочих нефтяной промышленности Кобу-Джугашвили в 1908 году арестовали и посадили в Баиловскую тюрьму (Баку). Политические арестованные выступили с протестом против невыносимых условий заключения. Их решили
Высокий строй его души
Высокий строй его души В этом человеке все было по Чехову: и лицо, и душа, и одежда. Одного в нем никогда не чувствовалось — лагерного налета. Пройдя, пожалуй, все девять кругов гулаговского ада, он сохранил в себе врожденную интеллигентность, чистоту языка и душевный
СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ
СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ В истории революций нет интереснее той части, где описывается, как сама власть, точно ослепшая, подготовляла бунт, усердно работала над крушением общества, расшатывала устои - и вдруг тысячелетняя почва расседалась и в пропасть валились древние
Вступаю в строй работяг
Вступаю в строй работяг Вот и кончились двадцать два дня карантина. Мне и прибывшим в один день со мной выдают лагерное одеяние: нижнее белье, так называемого второго срока, то есть кем-то уже ношенное и побывавшее в стирке, и верхнюю одежду. Тоже второго срока. Штаны и
Снова в строй
Снова в строй Вернувшись в полк, прежде всего зашел в штабную палатку и доложил командиру полка Голованову о выполненном задании и о том, как закончился наш вылет. При докладе присутствовал начальник штаба майор Богданов.— А вам, товарищ майор, большое спасибо за
БОЛЕЗНЬ. БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
БОЛЕЗНЬ. БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ Победа над врагами революции дала ему величайшее счастье. Болезнь же вывела его из строя. Она стала его новым врагом, которого нужно было победить.Островский попал в клинику Харьковского научно-исследовательского
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ Первая часть романа «Как закалялась сталь» печаталась в пяти номерах «Молодой гвардии» с апреля по сентябрь 1932 года[61]. Роман увидел свет в сокращенном виде; многие страницы в журнале были сокращены из-за «режима бумаги».В декабре того же года первая
Глава одиннадцатая Возвращение в строй
Глава одиннадцатая Возвращение в строй Все имеет свой конец, все движется вперед то медленно, то стремительно, грянут события, и перевернут жизнь. Подходил к концу вынужденный простой Литвинова. Утро 22 июня началось как обычно. Максим Максимович встал рано, читал газеты. В
Вступление в строй
Вступление в строй Снова отпуск, родной Надеждинск, встреча с родными и друзьями. Все признавали, что Толя стал более подтянутым, повзрослел, был более сдержанным, но все же остался таким же увлекающимся, хорошим товарищем; его звали в каждый дом, он принял участие в делах
Строй красиво
Строй красиво «Работа занимает большую часть жизни, и единственный способ полностью получить от нее удовлетворение – любить то, что делаешь». Стив Джобс Гордись Теперь, когда планка была поднята высоко, требовалось ее удержать. И в этом вопросе Джобс был неумолим, а в