ВЕСЕЛАЯ ГОРА
ВЕСЕЛАЯ ГОРА
Положение на шахматной доске было занятным и спокойным.
Город оплывал туманом, горизонтов не было, весенняя капель съедала гнилой снег, пестрые флаги пришедших издалека кораблей полоскались под низким небом, жизнь проходила под окном петербургского дома неустроенная, скудная, безжалостная и стремительная жизнь! Росли дети, сыновья и дочери, старший лысел. Дом был просторен и совсем не похож на прежнюю избу. Седая щетина проступила на щеках, могучее тело стало грузным.
За плоской чертой земли и серой воды лежала страна – в тундре и льдах на севере, скудными посадами и мужицкими деревнями, рожью и овсом – в сердце старой Московии, степным татарским ковылем – на юге, дикой тайгой вдоль неведомых рек – на востоке. И ничего не происходило в стране – только воли оставалось все меньше, миллионы людей прирастали к земле, гнулись под батожьем по пашням, по заводам, по казармам. И глухо гудела и содрогалась уже земля, сытая потом и кровью, – по заводам, по рудникам, по казачьим станицам.
Страна лежала такая огромная, что месяцами добирались до краев ее указы из Петербурга, царского города с голландскими и немецкими домами, ловить беглых, ушедших искать воли людей.
Так проходило время, мешкало, ничего не свершало, все долгие годы оно твердило голосом кукушки на часах голландской работы: «завтра, завтра – не сегодня», – и вот, наконец, совсем прошло.
Нартов—старик, тот самый Нартов, что был Сухаревским мальчишкой, петровским токарем, который удивлял своим искусством мастеров Темзы и парижского аббата Биньона.
Давно покрылось ржой и зеленью по бронзе лучшее его создание – станок, невиданный и неслыханный В мире, обратившийся в «курьезную махину».
Тяжелым ключом старик отомкнул массивный шкап. Там лежали ножички, иглы, табакерки, шпага, чулки грубой шерсти, стоптанные башмаки, пожелтевшие лосины и прут длиной четыре фута, весом полпуда, который Петр выковал 12 января 1724 года на олонецком заводе. В креслах сидел «портрет», восковая фигура – парик из темных жестких, словно конские, волос, голубое платье, шитое серебром, при кортике и ленте Андрея Первозванного. И с него посыпались пыль и тля.
«Сколько бы ныне было работы дубине Петра Великого, если б посмотреть хорошенько!»
Он записал эту фразу.
И вот он взялся за непривычное дело – сел писать. Он доверил перу свою горькую обиду на жизнь, обещавшую так много, но изошедшую в пустоте. Жестокому и несправедливому времени он противопоставил героическое прошлое. Теперь оно представилось ему почти мифическим золотым веком. Он писал о Петре. День за днем он заносил на бумагу все, что сохранила его память. Дела государственные, великое строение, случаи в «петровском домике», похожем, на избу, и его, Петра, наивные любовные приключения. В воображении Нартова все эти события претерпевали незаметную метаморфозу. И, очищенный ею, царь сделался средоточием всех добродетелей, как их понимал старый токарь и как, по его мнению, должны были их представлять современники, читатели мемуаров. Ненавистник черной монашеской своры, протодьякон «всешутейшего и всепьянейшего собора», он превратился в «истинного богопочитателя и блюстителя веры христианския». Он стал мудрым и терпеливым наставником подданных, и даже страшные расправы дубиной оказались кроткими уроками нравственности.
Но руки Нартова более привыкли держать резец, чем перо. Он не мог превратиться в отставного генерала, строчащего мемуары. Жизнь без «мастерства» была для него немыслима. Изгнанный из Академии, он снова отдался единственно оставшемуся ему артиллерийскому делу. В октябре 1746 года канцелярия Главной артиллерии и фортификации отправила сенату второй документ, из которого мы узнаем о заслугах Нартова. Там говорится о нартовском способе зачинки раковин в литье чугунных пушек, «чего как в России, так нигде еще в европейских академических диссертациях всему ученому совету о таковом преполезном государству новом способе публиковано не было».
И снова мы можем судить только о круге работ Нартова. Литье пушек, открытие секретов 4 в зачинке раковин, сверление цилиндров, обтачивание ядер, какие-то многочисленные «механические и химические инвенции» (изобретения).
Но ничего неизвестно о самых этих «инвенциях», нигде не удосужились отметать, что именно сделал Нартов, чего не было ни в России, ни в Европе.
Теперь, наконец, должна была миновать каждодневная нужда. Токарь получил 5 тысяч рублей наградных, чин статского советника, 153 души в Новгородском уезде и жалованье 1 200 рублей в год. А семья была велика (три сына, три дочери), токарь не был ни скупцом Гарпагоном, ни отшельником и никогда не вел особенно воздержной жизни.
Да, это были праховые деньги, подачка выслужившемуся смерду – они не стоили петровской избы с мыльней во дворе. Он многого добивался на своем веку, когда мечтал о разумной машине, покорительнице вещей для человека, когда удивлял французских академиков, вез в Россию хитрые европейские приборы и когда – в последний раз! – спорил с Шумахером о месте в списке академиков. Ему слали подачки за ядра и пушки, за чеканку монет, за колокола – и не пустили на порог «высоких и свободных наук» ни его, ни все его искусство. Он не добился ничего и был ничем.
Со всеми своими «инвенциями» он стоял у разбитого корыта.
И, возвращаясь в свой новый дом, Нартов садился писать «Достопамятные повествования и речи Петра Великого». Он писал их в укор и как бы для реванша «вздорным людям, которые не токарные, но государственные фигуры по глупости портят».
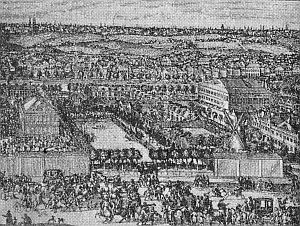
Петербург середины XVIII столетия, в елизаветинское время.
Современная гравюра.
Неприметно он объединил себя там с Петром и стал в своем писании ближайшим советником и поверенным монарха, которого он изображая самым мудрым, могучим и милостивейшим. Он вложил в уста Петру обильные нравоучительные изречения о вселенной, о славе отечества, о великих людях истории, о возвышении и падении царств, о ничтожестве знатности и полезности для государства искусных мастеров-инженеров. Царь, из-под пера Нартова, обращался, через три десятилетия, прямо к современникам своего токаря, читателям мемуаров. И под предисловием токарь подписался: «Андрей Нартов, действительный статский советник, Петра Великого механик и токарного искусства учитель» (он умер только статским советником).
Мы можем сомневаться, действительно ли Петр сопровождал каждый свой шаг глубокомысленным афоризмом в классическом духе середины XVIII столетия. Но зато, читая в «Повествованиях и речах» записи хотя бы только о тех случаях, свидетелем которых был сам Нартов (здесь, во всяком случае, очевидно его непосредственное авторство), мы убеждаемся, как широк был круг интересов Нартова, разнообразны знания, гибок и восприимчив ум, далеки от примитивности взгляды и как грубо лжив был отзыв Шумахера, повторенный с его голоса столь многими историками…
Отцу помогал писать сын – самый младший и самый удачливый, Андрей Андреевич, воспитанник шляхетского корпуса: для него, если не для себя и не для старшего Степана, петровского крестника, отец добился-таки превращения из смерда в шляхтича.
В 1747 году Нартов был послан в Кронштадт, где разладилась работа каналов. Он перестроил шлюзные ворота на большом канале и сделал модели «пятников и подпятников» для них.
Это было его последнее инженерное дело.
Впрочем, изредка о нем вспоминали еще. Есть сведения, что под конец жизни он проектировал «катальную гору» в Царском Селе для веселого двора, залитого шампанским.
Работа, а с нею и жизнь Нартова были исчерпаны. Он протянул еще недолго и умер 6 апреля 1756 года в своем доме, из окон которого были видны леса, шумевшие на Васильевском острове.
Он не оставил богатств, а только 3929 рублей долгу.
«Достопамятные повествования и речи» заканчивал сын Андрей. Он переводил и вставлял в книгу рассуждения Элеазара Мовильона, анекдоты, рассказанные Вольтером, и тирады из Жан-Жака Руссо, не смущаясь тем, что Петру приходится декламировать сатиры на французское общество. И Петр у него становился все больше похожим на ложноклассического героя во вкусе французских драматургов и просветителей.
А от отца, искусством своих рук расчистившего сыну путь к вершинам табели о рангах и в толпу российской знати, осталось несколько токарных станков. Они хранятся в Ленинграде. И тот, кто их увидит, «не сможет не подивиться, – как говорит один из историков техники, – тонкости отделки, красоте форм, остроумию конструкции их».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Веселая семейка
Веселая семейка Синявский сидел уже в тюрьме, когда я в переходе метро увидел, что продают книжку Андрея Синявского «Веселая семейка» с медвежатами на обложке. Автором был, конечно, не тот знаменитый Андрей Синявский, а некий работник алмаатинского зоопарка. Я хотел
Веселая квартира
Веселая квартира В середине августа я вернулся в Тольятти. Квартира была готова к обитанию, но Лилю надо было куда-то пристраивать на работу. К тому же с сентября нужно было уже начинать работы по Львовской теме, а Лиля была конструктором с опытом. Опыт, правда, был
МОЯ ВЕСЕЛАЯ АНГЛИЯ Рассказы
МОЯ ВЕСЕЛАЯ АНГЛИЯ Рассказы Здрасьте, Ваше Величество! ...Круг вышел не очень-то ровный. – Правильность формы несущественна, – сказал Додо. Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» В восемь лет я разбила лоб, и мне наложили четыре шва. Бабушка всплеснула руками и горько
ВЕСЕЛАЯ БЕДНОСТЬ
ВЕСЕЛАЯ БЕДНОСТЬ Хотя мы все усердно работали, я не могу сказать, что мы имели в достатке еду и одежду. Одежду нам перешивали из старых вещей. Мы донашивали то, что оставалось от старших братьев и сестер. Обновы нам делали только в крайних случаях и к праздникам. Обычно мы
Веселая семейка
Веселая семейка Синявский сидел уже в тюрьме, когда я в переходе метро увидел, что продают книжку Андрея Синявского «Веселая семейка» с медвежатами на обложке. Автором был, конечно, не тот знаменитый Андрей Синявский, а некий работник алма-атинского зоопарка. Я хотел
«Веселая царица была Елисавет…»
«Веселая царица была Елисавет…» В ее рождении батюшка Петр I увидел добрый и веселый знак. В тот день, 18 декабря 1709 года, император возвращался в Москву после победы над Карлом XII под Полтавой. И сам он, и окружение были застужены и спасались водярочкой, потому известно –
Веселая война
Веселая война Когда Л. Целиковская и М. Жаров в 1943 году уезжали с фронта, в землянке Первой воздушной армии им устроили прощальный банкет. «М.М.Громов явился как бы подсказчиком нового фильма о ложном аэродроме. Он так и сказал: „Ложный аэродром — это как будто пустяк,
Кругленькая, веселая и… Лилиан Малкина
Кругленькая, веселая и… Лилиан Малкина В фильме снимались: Квентин Тарантино, Курт Рассел, Роуз МакГоуван, Николас Кейдж, Ферджи, Брюс Уиллис, Тим Роббинс, Чич Марин, Лилиан Малкина…Это не шутка. Летом 2007 года вся Европа повалила в кинотеатры на премьеру очередной
«Веселая мишпуха»
«Веселая мишпуха» Со смещением «центра тяжести» русской песни из Европы в США разительно меняется репертуар. Что-то я не припомню действительно известного артиста из Штатов, кто бы пел в 70–80-х репертуар «а-ля рюс».С началом третьей волны в эмиграции зазвучали в основном
Веселая семейка
Веселая семейка Как пишут историки, год, когда Цезарь занимал должность претора после инцидента с Непотом, прошел спокойно, и лишь домашние дела причинили ему изрядные неудобства.Виной скандала был наглый молодой человек, светский лев, как сейчас сказали бы, и
ВЕСЕЛАЯ ТРАПЕЗА
ВЕСЕЛАЯ ТРАПЕЗА В Михайловском доме было настолько тихо, что он казался необитаемым. Да он и был сегодня необитаем. Старуха нянька с другими дворовыми бабами ушла на богомолье в Опочку, хозяин заперся в своей каморке, приказав всем-всем не тревожить его под страхом гнева.
Гайра Веселая ВЛАДИМИР АЗИН
Гайра Веселая ВЛАДИМИР АЗИН Молодой красивый военный в лихо сбитой на затылок папахе наблюдал за разгрузкой только что прибывшего с франта воинского эшелона. Ничто не ускользало от взгляда его живых внимательных глаз.Он знал: эти люди только что пережили позор
Фанта Веселая Об отце
Фанта Веселая Об отце Фанта Артемовна Веселая родилась 30 ноября 1924 г. Окончила филологический факультет университета им. Ломоносова. Работала на иновещании Гостелерадио СССР. Долгое время мне снился один и тот же сон: ко мне приходит отец — оборванный и измученный. Он с
Веселая Карусель
Веселая Карусель В карете Скорой Помощи есть кресло-вертушка. И есть еще доктор весом 120 кило. А может быть, он фершал, но тоже нужная фигура. Но с недостатками: мало того, что пьет, так еще и со слабым мочевым пузырем. Выпьет, втиснется в кресло-вертушку, и никому его не
ВЕСЕЛАЯ «АРТЕЛЬ»
ВЕСЕЛАЯ «АРТЕЛЬ» Я тогда уже неплохо знал, что такое артельная жизнь. Несколько лет наша семья жила в степной красноармейской коммуне, затем более года отец был председателем первого в районе колхоза. Но такой «артели», как Яшина, я еще не видел.Яша толкнул ногой скрипучую