Кино
Кино
Сталин смотрел все фильмы. Я помню, снимался у Довженко на Мосфильме в фильме «Прощай, Америка!» про сбежавшую американскую журналистку. Это журналистка, которая вышла замуж за русского артиста, певца. У меня была очень приличная роль — американского корреспондента — циничного и развязного господина. Довженко делал фильм. И как раз тогда в одну ночь на Мосфильме по приказу Сталина закрыли несколько фильмов. Он взял список и сказал: «Если она изменила своей родине, то может изменить и новой», — и вычеркнул фильм. Хотя это снимали по его заданию. Потом он еще закрыл несколько картин.
— Вы сколько делаете фильмов?
— Двадцать пять.
— А сколько хороших?
— Ну, семь-восемь.
— Не надо двадцать пять, делайте восемь, но шедевров!
И съемки прекратились — в одну ночь. Только бедный Александр Петрович отхлопотал дополнительные два часа ночной смены, и вдруг начались повальные отмены съемок — никто ничего не понимал, думали, война какая-то новая надвигается.
* * *
До войны я снимался в «Снежной королеве». Сказочника там играл. Были дети, актер Ларионов и замечательный оператор Кириллов.
«Снежная королева» не успела выйти. Началась война — ее закрыли. Потом дети выросли. Очень жалко, потому что был хороший материал. По-моему, я снимался до самой войны. Это была центральная роль. Фильмы снимались медленно тогда. Меня пригласил Легошин, режиссер такой был. Может, видел где. Знаете, как киношники — всегда звонок, что вот вас хотят вызвать на Детфильм — тогда был. Ну, сказка прелестная, я был рад, поехал.
Был еще «Свинопас» — сказка Андерсена.
А до этого еще меня пригласил Довженко на «Тараса Бульбу». Он хотел, чтоб я играл Андрия. Но он со мной побеседовал и это ничем не кончилось. По-моему, он так и не снял «Тараса Бульбу». Он меня увидел на съемках «Снежной королевы» и, видимо, запомнил.
Во время войны я снимался у Столпера в фильме «Дни и ночи» по К. Симонову. Видимо, Симонов меня знал до войны. И потом, наверное, кто-то посоветовал, может, Юткевич — я не знаю.
Я помню, что я снимался в сапогах из ансамбля — они были поприличней, а я играл командира. И там была большая очень панорама, я спал, потом бомбежка, и я вскакиваю и сразу натягиваю сапоги и бегу. И пока шла эта длинная панорама, сперли сапоги. И я проснулся, ну как полагается по кадру, а это очень же сложно наладить все по киношным делам — бах! сапог нет!
Все следили за панорамой — как идет аппарат, а в это время кто-то сапоги-то и украл у меня. А сапоги-то не мои — казенные.
Столпер кричит: «Что ты не играешь?!» Я говорю: «Сапоги украли!» — и поднял такой ор, что мне дали какие-то сапоги — в казарму идти. Это было на Мосфильме.
Симонов мало бывал на съемках. На натуре он ни разу не был, в Сталинграде. Но он смотрел картину, и ему нравилось, как я играю.
По-моему, картину даже показали в ансамбле, когда в Москве мы были, привезли и показали — вот это я помню.
Потом Столпер снова пригласил меня сниматься в «Нашем сердце». Там была очень хорошая роль, я ее любил.
Я снимался у такого мариниста Брауна в фильме «Голубые дороги», где играли замечательные актеры: Романов и Кадочников. Я там играл матроса — такого непутевого оболтуса, который все на губу попадает. Замечательная роль, очень острая, и рисунок был.
Как-то на съемки, по-моему, фильма «Дни и ночи», пришел Эйзенштейн и хотел меня взять в «Ивана Грозного». Дважды меня великие кинорежиссеры хотели брать: это Довженко и Эйзенштейн. И я с Эйзенштейном раза два виделся, разговаривал. Это был очень своеобразный господин. Он пришел на съемки и долго сидел, и Столпер говорит: «Сергей Михалыч хотел вас куда-то брать». Но потом я с ансамблем куда-то исчез — и ничего не произошло.
У Довженко дважды я снимался. Один раз в «Прощай, Америка». А потом играл в «Мичурине» эпизод, но осталось там очень мало. И там я с ним подружился, несмотря на то что характер, конечно, у него был своеобразный, мягко говоря.
Рассказ о Довженко.
(Расшифровка магнитофонной записи 1964 года.)
Я не раз видел Александра Петровича Довженко в работе и мне хотелось бы вспомнить несколько случаев, когда он работал над фильмом «Мичурин».
Съемочная площадка на природе. У аппарата сидит седой человек, очень красивый, который безумно любит природу, который много посадил садов, красивых цветов, который очень любит цветы, сады и который даже считал, что самое полезное, что он сделал в жизни, — это то, что он посадил много садов, которые цветут и облагораживают душу человека.
Снимается фильм «Мичурин». Актер, играющий Мичурина, стоит в кадре. Снимается сцена «приезд американцев», корреспондентов американских, таких беспардонных людей, которые приехали за сенсацией к Мичурину. Снимается эпизод, что Мичурин показывает выведенный им интересный сорт какого-то ореха, которого нигде в мире нет.
Александр Петрович подходит и говорит:
— Тихо кругом! Тихо! Тихо кругом! Я попрошу, группа вся ко мне, полное внимание и тишины творческой настоящей. Григорий Акимбыч, знаете, я попрошу вас так. Вы, значит, берете этот орех, который вы вывели с таким трудом, большим творческим трудом, берете его и показываете этим американцам и говорите им: «Орех». Попрошу вот этот кадр, вот это слово так сказать — раздельно и точно, точно. Чтоб был неумолимый человек, такой, который ни на что, ни на какие компромиссы не идет! Попрошу повторить.
— Хорошо, Александр Петрович, значит, беру. Орех.
— М-да. Тихо, тихо кругом! Григорий Акимбыч, я попрошу еще раз, у вас это было, я бы сказал, насредине, понимаете, насредине пути между тем, что нужно, и между тем, что не нужно. Так. Значит, вы берете орех, я повторяю — попрошу вас сосредоточиться — берете и говорите: «ОРЕХ». Тихо кругом, тихо! Да. Пожалуйста, Григорий Акимбыч, простите меня, что я так резко. Давайте. Так, тихо, спокойно все. Давайте. Прошу вас. Прошу вас. Давайте.
— Э-э… Орех.
— Тихо! Тихо кругом! Григорий Акимбыч, я попрошу вас прочистить ушки. Да. Прошу вас собраться и сказать мне так: «Орех. Оре-ех». Тихо! Прошу повторить. Тихо кругом! Юлия Ипполитовна, вы со своими ассистентами мне все время ту-ту-ту-ту-ту… в мозги мне гвозди вбиваете своими глупостями, которые вы все время говорите и раздражаете меня пре-дель-но! Тихо! Тихо кругом! Отойдите в сторонку и там балакайте. Тихо! Прошу абсолютной тишины — торжественный момент творчества наступает и не может никак наступить, благодаря бедламу! Тихо! Тихо крутом! Тихо! Прошу прощения, Григорий Акимбыч, это такие свои неприятности. Вот прошу вас начинать.
— Эх… Орех.
— Перерыв. Актер в тупике.
(Входят костюмеры.)
— Александр Петрович, мы хотели вам показать новый костюм Мичурина вот для этой сцены. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста. Мы все сделали так, как было в эскизе у художника. По-моему, все нормально.
— Хорошо. Так. Попросите ко мне актера. Да, Григорий Акимбыч, здравствуйте. Здравствуйте. Как почивали? Хорошо. Очень приятно. Я попрошу вас так, чтоб вас это не затруднило, пройдитесь немножечко туда. Не обижайтесь, что я смотрю на вас, как на лошадь, но это необходимо для точности искусства. Попрошу вас. Так. Так. Хорошо. Художников по костюму ко мне сюда быстро! Я хотел бы вас спросить, художник, он, значится, должен прежде всего быть наблюдательным человеком, я так полагаю. Я попрошу вас сказать, как вы находите этот костюм? Да-да-да. Вглядитесь вн-нимательнее. Не спешите, не спешите отвечать. Не спешите. Спокойно посмотрите и скажите ваше мнение. Готов ли актер к съемке в этом костюме? Прошу вас.
— Александр Петрович, согласно эскизу, все здесь намечено так, как в эскизе.
— Нет, я попрошу вас ответить, готов ли актер к съемке или не готов?
— Так вот я смотрю, согласно эскизу…
— Не «согласно эскизу», а на ваш художественный взгляд — готов он к съемке или нет? Прошу ответить.
— Готов.
— Тихо кругом! Слепцы! Слепцы вы! Обжить костюм немедленно, это же он в новой вещи, совершенно не органично сидящей на человеке! Тем более на Мичурине, который копается все время у себя в саду, годы целые копает. Обжить костюм быстро!
Тут подбегает группа ассистентов, стаскивает с актера костюм, начинает его обживать — мять ногами, грязнить, валять в тертом кирпиче — всячески, значит, приводить его в обжитое состояние. Минут через десять снова надевают на актера костюм, подводят актера к Александру Петровичу.
— Вот, Александр Петрович, все сделали как вы просили.
— М-да. Да. Тихо кругом! Юлия Ипполитовна, опять вы говорите все время со своими ассистентами и все время мне это как-то отражается на моей деятельности мозговой! Постановщика сюда ко мне быстро!! Поставьте вот здесь за мной щит повыше. А вы отойдите все за щит туда и там стойте и там балакайте своими разговорами и там ту-ту-ту-ту! Мебельщиками вам работать, гвозди забивать все время, понимаете. Тихо кругом! Прошу прощения, Григорий Акимбыч, бывает, это все так, знаете. Так. Прошу повернуться. Так. Ну что же, испортили вещь. Испортили. Все. Перерыв!
Александр Петрович разговаривает со своей дирекцией по картине на съемочной площадке. Стоит директор, его заместитель и Довженко.
— Александр Петрович, понимаете, какая штука, вы знаете, сегодня тридцатое, так с казать, конец месяца, ну это, конечно, неважно, но все-таки конец месяца и хотелось бы дать метраж некоторый. Тут это связано с выполнением плана, ну и в общем-то и премия, хотя это не очень важно, но все-таки, знаете, так. И как раз не хватает метров сорок нам. А тут у вас в сценарии, сейчас мы вам, вот как раз тут проходы Мичурина. Проходики Мичурина сорок пять метров. Вот бы нам сегодня их снять и все было бы в порядке. Как вы смотрите на это дело?
— Хм, так, так, так. Тихо кругом! Тихо! Это хорошо, что вы мне сказали. Да, сейчас я подумаю. Проходы Мичурина. Да, это необходимо сделать. Это будем делать так.
— Вот хорошо, Александр Петрович, значит, сегодня мы это дело так и фиксируем. Сегодня проходы Мичурина, да?
— Да. Тихо, не мешайте мне. Тихо, прошу тишины полной. Полной тишины. Будем снимать проходы Мичурина. Начнем так. Весна. Весна. Только что набухают почки, природа снова возвращается к жизни. И вот стоит этот молодой человек, тогда еще совсем молодой, неопытный. И вот он смотрит на эту распускающуюся природу и сам он тоже еще распускается, набирается полных сил, творческих сил. И он идет по этой природе, и он идет по весне, и расцветают цветы, лопаются почки, а он все идет, идет, гордый, неприступный человек, покоритель природы; идет, идет, идет. И потом уже, понимаете, так у нас будет лето, и уже листья кругом и сучья, все обросшие листьями, в полном соку жизни. И уже идет человек в зрелом возрасте. И он идет по летней природе, и все идет, идет с гордым лицом. И потом уже выведем так, из наплыва в наплыв — уже осень, желтеют листья. И уже седина серебрит его шевелюру. И он все идет, идет по этой природе. Потом уже начинаются голые ветки, черные голые ветки, как бы символизируя, что его жизнь исхлещет, а он все равно гордый и неприступный все идет по этим сучьям, расталкивая эти сучья. Они хлещут его по лицу, а он все идет, идет, идет, идет по природе. И потом мы уже видим седина, сучья в инее, все заиндевело, и он все идет, идет, идет, идет, гордый человек. Гордый человек идет, идет по природе. Вот так мы будем снимать полторы тыщи метров. И вот отберем для плана эти сорок пять. Вот. Так и будем поступать. И у нас будет выполнение плана. Все.
Он мог войти, вежливо постучав, к директору Мосфильма, во время какого-то заседания важного. На секунду все, значит, прерывают разговоры и так вопросительно на него смотрят.
— Я попрошу прощения за мое неожиданное вторжение. Разрешите, я посижу здесь с краешку так. Благодарю вас.
— Пожалуйста, Александр Петрович, пожалуйста.
— Спасибо.
Продолжаются разговоры о производстве, о том о сем. Значит, вроде заканчивается совещание, и директор обращается к Александру Петровичу:
— По какому вопросу вы пришли?
— Я прошу прощения, я хотел… Разрешите мне позвать моих художников по декорациям сюда.
— Пожалуйста.
Входят художники.
Я попрошу у вас полного внимания. Я вас просил сделать мне декорации, которые бы отображали полную бесхозяйственность и запущенность. Я вас просил, чтоб вы мне сделали такой кабинет и, знаете, такой потолок весь в таких подтеках, где ржавчина вся и капает так, капли, капли и разводы на потолке, как сифилитические язвы. И вы говорили, что вы это не понимаете. Так вот посмотрите на это заседание и вот на этот потолок. Вот теперь вы поняли, какой мне нужно кусочек сделать декорации, да. Прошу прощения за беспокойство. — Это он говорил этим заседающим. И уходил.
Вот что он позволял себе.
Или на съемках — директор картины суетится перед ним, а он ставит кадры. Он всегда долго ставил, потом говорит:
— Так-так, снимать будем вот тут — вот-вот… не отсюда, — и уходил на следующее место.
Потом директор что-то ему говорил:
— Надо план, план, Александр Петрович, ну немножечко снимите, метраж необходим, отчитаться надо.
Он говорил:
— Я прошу мне не морочить голову и не забивать гвозди мне в мозг, понимаете ли. И потом, помимо всего прочего, вы жулик. Вы провели вот этим несчастным людям, у которых вы арендовали на несколько дней съемок, водопровод, чтоб тек, вода мне была нужна, и потребовали с них огромные деньги, взятку они вам давали. Поэтому удалитесь отсюда, вы — жулик, вы обманываете честных тружеников. Так. Удаляйтесь, удаляйтесь.
Александр Петрович был человек чрезвычайно интересный. Ведь он посадил яблоневый сад знаменитый у Киевской киностудии. И когда его спрашивали:
— Что это, зачем, Александр Петрович, вы сад огромный сажаете?
— Я думаю, что это хотя бы немножечко облагородит души артистов, их цинизм сгладит.
Вот они будут ходить в эту студию, и когда они пройдут эти цветущие яблони, то, может быть, в их зачерствелых душах что-то дрогнет. Но думаю, что это идеализм мой глупый. Ничего у них не дрогнет.
* * *
«Мичурина» снимали под Москвой. Я тогда много снимался и все мотался взад-вперед. А чем я завоевал его расположение? Тем, наверное, что я приходил на съемку довольно подготовленный. Я играл американца, корреспондента какого-то, и говорил с акцентом. Я это сам сделал и поэтому в кадре я занимал меньше времени, чем другие, и он приводил в пример, что вот артист приходит, и он готов к съемке. «Мичурин» — это была небольшая роль, и потом картину без конца корежили: ее заставляли переснимать, переделывать.
Американскому акценту я у кого-то учился, как в свое время я учился у старой дамы француженки французскому акценту, когда играл в «Беспокойном хозяйстве».

«Беспокойное хозяйство» — французский летчик (с Л. Целиковской)
Эта роль осталась у многих в памяти. «Ромаши?шки, ромаши?шки, штучки», — я играл французского летчика. Это был большой успех. Особенно у дам.
И он до сих пор идет. Я помню, когда были наши успехи в космосе, шел все «Человек с планеты Земля», где Кольцов играл Циолковского, а я играл его друга — был такой фильм. Это роль большая и яркая. Друг Циолковского — такая гротескная фигура острохарактерная. Ты, Петр, даже можешь меня не узнать в гриме. Я считаю, эти роли были довольно удачные.
Потом в 1949 году я попал в «Робинзона Крузо». Меня взял режиссер Андриевский. Это был первый в мире стереофильм, который снимался года два, по-моему. Вот там я познал очень хорошо грузин, потому что мы снимали на Тбилисской студии, потом снимали в Сухуми, в Батуми.
Это было в Сухуми. Я замерз — там было ноль градусов, а я голый… Ну, и через пять часов я замерз как собака. А пришел кто-то из местных начальников и говорит: «Давай план, вторую смену. Чтоб перевыполнить, получить деньги, чтоб группа хорошо жила. Ты можешь это понять? Ты не знаешь наших обычаев, русский!» И я от отчаяния пульнул матом: «Идите вы к такой-то матери со своими…» — и они бросились меня убивать. Только кол спас. В пещере я вытащил кол и начал колом отбиваться. И вскочил на лошадь, и уехал в баню, потому что я намазанный весь, черный. Там линейка такая стояла, знаете, линейки раньше были, по горам туристов возили. Он не мог снести, что я его париком Пятницы отхлестал, потом говорил: «Ты меня унизил на весь Сухуми. Все говорят: „Вот этот тот Чичинадзе, которому этот париком Пятницы по физиономии давал“. Пожалуйста, оскорбил бы меня как угодно, но париком Пятницы — это не могу простить!» А я не стал бы, я не драчун был, я отбивался просто.
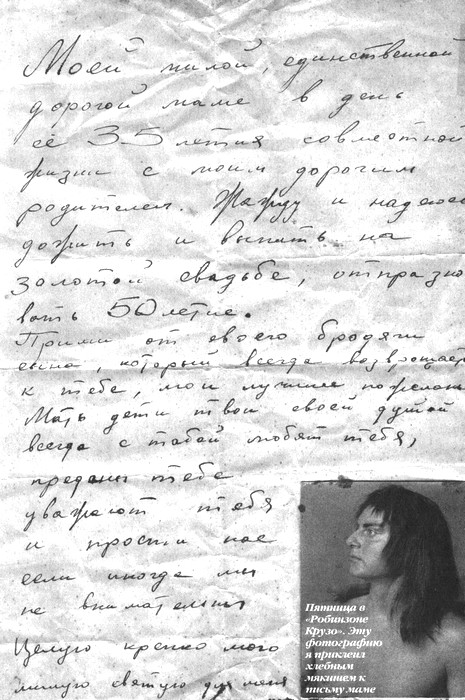
Но меня этот фильм тогда здорово подкормил.
И там, я помню, был случай, когда мы шли на съемки, и газеты были полны сообщений, что Сталин произнес тост за великий русский народ, который выиграл войну. Какая-то горечь была для грузин в том, что он выступил с панегириками в адрес русского народа, что русский народ «первый среди равных» — но все-таки первый. И тогда я и говорю грузинам, которые шли со мной рядом, я говорю:
— Ну вот теперь вы поняли наконец, кто тут самый главный?
И второй случай «политический» был: у нас с Кадочниковым был концерт в клубе в Батуми. И я бегу на концерт, опаздываю, и наш оператор мне с балкона кричит:
— Вы газету смотрели сегодняшнюю?
Я говорю:
— Да нет, когда я успел, мы с шести утра… — и бегом. Он мне кидает. Я схватил эту газету и бегу. Прибежал, там полно зрителей, Павел что-то начал, он знаменитый артист, а у меня были подготовлены только два рассказа Зощенко. И пока он вышел, рассказывает о своих киноподвигах, я сижу повторяю мысленно текст Зощенко. Разворачиваю газету — и там постановление об Ахматовой и Зощенко, а у меня в репертуаре больше ничего нет. И я думаю, чего же мне делать, потому что я как-то стеснялся трепаться о своей деятельности на этих халтурных выступлениях. И что делать? Но даже тогда — видите, сидит во мне глубоко озорство, я долго, минут пять соображал: «А может, мне выйти и сделать вид, что я ничего не знаю и прочесть Зощенко». Но подошел ведущий и говорит:
— Вы что будете читать?
— Я буду читать Зощенко.
Он на меня посмотрел так странно и куда-то убежал. Тут прибежал директор и говорит:
— А вы что будете, товарищ Любимов, читать?
Я говорю:
— Зощенко.
Он говорит:
— Вы что, не понимаете?
Я говорю:
— А что я должен понимать? У меня нет ничего другого.
Он говорит:
— Одну минутку.
Это было в Доме офицеров. Короче говоря, пришел еще кто-то и сказал:
— Вы знаете, у нас нет к вам никаких претензий, пожалуйста, не читайте. Мы вам заплатим, только не читайте.
И я с удовольствием отбыл. Выскочил Пашка на секунду попить воды и говорит:
— Ну брось ты! Конечно, Зощенко не надо, но ты расскажешь что-нибудь, какие-нибудь стихи прочти — ну что тебе стоит?
Это сейчас смешно, а ведь это был сигнал к разгрому. За этим вскоре последовала трагическая смерть бедного сатирика.
А читал я «Приключилась с Петькой Ящиковым „пшенная болезнь“, когда его глазной врач попросил носки снять, а он никак этого не ожидал, потому что у него ячмень был. Он говорит: „Зачем же мне ботинки снимать, когда у меня глаз болит?“» Вот этот и еще какой-то — забыл, это было так давно.
И потом запомнился еще случай, когда они арендовали цирк, уже была зима, и шел снежок, который, конечно, таял. А Павел страдал ангиной сильно, и мы решили закаляться. Но я-то всегда закалялся, и я ему сказал, что «ты докторов не слушай, а вот давай каждый день купаться», — а уже никто не купался в Батуми, холодно было. И вот мы такую игру с ним придумали: спокойно входить в море, кто первый дрогнет, не спеша, делать вид, что совершенно не холодно. И потом, кто дальше заплывет. А там не очень резко берег шел, а нужно было идти метров тридцать, а вода была 12–13 и даже, по-моему, поменьше.
Потом каких-то еще бедных чирков ловили — птичек этих диких, разновидность уток. Помню, пару наловили, Павел их потрошил, жена у него варила их, жарила — с едой плохо было.
Я часто просил режиссеров, предположим, Столпера снять несколько дублей как я хочу. В чем это выражалось? Ну, например, он меня просит: вот сцена — встреча двух летчиков. Там три летчика: Дружников, Кузнецов и я — мы играли этих трех летчиков. И он мне ставит кадр, и я говорю:
— Я не могу сыграть то, что ты просишь.
— Почему?
— Потому что невозможно на этом плане сыграть то, что ты говоришь.
— Ну, а что ты предлагаешь?
— Ну, сделай один дубль, как я тебя прошу. — И он делал, и этот дубль входил в картину. И так было несколько раз.
И отсюда я понимал, что все-таки у меня сильное видение результата, как должно быть в итоге. И таких у меня случаев было много. И в моих спорах с режиссурой я всегда говорил о том, что это не так надо выразить, как они требуют, что я не могу это сыграть как актер, потому что не та мизансцена, тут другие выразительные средства нужны. То, что вы требуете, это невозможно сыграть, это в программке надо писать, что с ним происходит то-то, то-то, а выразить это невозможно. И конечно, я был бедствие для режиссеров. Я понимаю, так нельзя. Но я все-таки довольно воспитанный, я считаю, человек. Во всяком случае, стараюсь быть более-менее приличным. И делал я это от чистого сердца, а не потому что я хотел досаждать. Но, видимо, опять характер сказывается. Я помню, один режиссер, покойный ныне, Раппопорт, милейший и умный господин, сказал на худсовете в Театре Вахтангова — он ставил «Много шуму…», где я играл потом Бенедикта и Клавдио — две роли, и он ко мне очень хорошо относился, но мы ставили какую-то белиберду какого-то польского великого, казалось бы, драматурга. Но он главным образом велик был тем, что был председателем союза писателей к тому времени — я забыл фамилию. И там про нашествие немцев новеллы были. И когда вывели немцы довольно плотного сложения артистку с веревкой на шее на сцену, а я изображал фашиста — то я рассмеялся. Все обиделись очень.
Он говорит:
— Что вы смеетесь, Юра, это неприлично.
А я тихонько ему говорю:
— Ради Бога извините, но неужели вы хотите после такой войны вывести на веревке даму довольно плотного сложения, особенно в нижней части тела, и вызвать сочувствие к несчастному ребенку — мне это смешно, потому что я кое-что в этих делах понимаю.
И он очень обиделся и как-то на худсовете сказал, что «видимо, Юрий Петрович понял изречение Владимира Ивановича Немирович-Данченко буквально! Что режиссер должен умереть в актере». Я помню этот худсовет, я был членом художественного совета же очень долгие годы и только потом, после случая с Поликарповым, я был удален со всех должностей. Также как потом после моего «неудачного» выступления в ВТО я был снят с председателей молодежной секции… Бедный Черкасов покойный, всеми силами старался за меня заступаться — он был милейший человек. Он острил всегда так, своим голосом странным: «Каждый кузнец своего счастья. Надо ковать, ковать, работай и куй, получишь… то, что нужно», — он остряк был. И многим старался помочь. Сергей Михайлович Эйзенштейн рассказывал, как его Черкасов привел просить прощения у Сталина… Сергей Михайлович рассказывал, что «я не могу понять, что со мной произошло; когда мы вошли в приемный зал, он смотрел в кремлевское окно вдумчиво, глубоко на заходящее солнце — такие отблески красные, кровавые, трубка — все в лучших традициях величия римских цезарей».
А Черкасов сказал Сергею Михайловичу:
— Вы только молчите. Рассказывать буду все я, а вы только делайте физиономию соответствующую и поддакивайте так, молча.
— Ну и вот, — говорит Эйзенштейн, — мы входим, никакого внимания он не обращает, — это был один из его приемов, — долго мы стояли, потом вдруг так невзначай взглянул на нас, оторвавшись от кремлевского окна и французской шторы в лучах заходящего солнца, и, что со мной произошло, — Эйзенштейн говорит, — я не знаю, я вдруг сделал земной поклон, — а он довольно тучный человек, — то есть до земли поклонился, и рукой коснулся земли, такой традиционно русский поклон земной. Не понимаю, почему, это же без умысла я сделал, но ведь сделал.
Черкасов буркнул:
— Правильно.
А у того не шелохнулась бровь.
Вот, видимо, это и вызывало восторг у определенной части коммунистов — вождь настоящий. Цезарь, Нерон, Калигула, так же как Калигула, изрыт оспой. Так что у Пастернака не случайно, помните, в начале «Доктора Живаго»: «У древних истории не было, а были только оспой изрытые калигулы и торжество бронзовых памятников», — так что Пастернак, видимо, не случайно это написал.
Я бы хотел поставить «Калигулу». Пьеса хорошая. И Владимир хотел играть. Она потому и классика, что она звучит. Ведь есть классические пьесы, которые как бы в данный исторический отрезок времени уходят в тень, а потом опять появляются на солнышке. Я, как Свидригайлов, который говорит: «Я мало лгу». Володя Высоцкий очень хорошо играл эту роль, замечательно. Потому что сам писал хорошие стихи, и чувствовал слово, а Достоевский, хотя у него часто бывает скоропись, у Достоевского, но все равно в этом неудержимом фонтане темпераментном есть поразительные прозрения, словесные сочетания замечательные. Отсюда и юмор такой своеобразнейший, как в «Бесах». Ведь там же читаешь и смеешься. Вслух я перенизывал, особенно когда делал инсценировку. Катя, жена, говорит: «Что вы смеетесь?» — потому что ситуация не до смеху, а я все вчитываюсь в роман и действительно смеюсь. Особенно мне приятно было, что у Достоевского это есть: «Чем больше я пишу, тем мне все становится смешней и смешней», — на Петьку Верховенского. А уж Федор Михайлович знал толк в этих делах, сам прошел через них.
* * *
«Каин XVIII». Был замечательный сценарий написан Николаем Робертовичем Эрдманом. Когда умер блистательный оператор Москвин, который снимал с Эйзенштейном вторую серию «Ивана Грозного», у его жены, Надежды Кошеверовой, остались три листочка какие-то от Шварца — «Каин XVIII». Там написано, по-моему, «Эрдман — Шварц». Я не знаю, как в титульном листе сценария это значится, но фактически Николай Робертович это делал сам, потому что он обещал Москвину как-то помогать жене его — они дружили. И когда я стал сниматься, то увидел, что они портят сценарий то ли со страху, то ли по недостатку дарования: Кошеверова со вторым режиссером Шапиро — вдвоем они снимали. И когда я приезжал из Ленинграда и встречался с Николаем Робертовичем, я ему говорил:
— Николай Робертович, приезжайте в Ленинград, помогите.
Он мне стоически всегда отвечал:
— Юра, но я же не могу Наде прибавить таланта. Я все написал. И она часто говорит со мной, я ей все объясняю.
— Но они на площадке не то делают.
Короче говоря, я его уговорил, и он приехал. Не знаю уж, как он там себя вел, что он им говорил, но он несколько раз приходил на съемки. Я там несколько дней жил с Гариным в одном номере — и он мне много рассказывал о Мейерхольде, Эраст Павлович. И Николай Робертович рассказывал часто. Например, Николай Робертович всегда утешал мою бывшую жену Целиковскую и говорил, что «вы зря на него сердитесь, Люся, что он все время проводит в театре и что он там часто стоит сзади и смотрит, как идет спектакль. И Мейерхольд также, бедный, все стоял и потом говорил: „Вот не посмотришь раза три и во что они превращают — артисты — спектакль“. Так что зря вы на него сердитесь. Постоит, глядишь, и стоиком станет.» — он же был каламбурист.

С Эрастом Гариным в «Каине XVIII»
В «Каине XVIII» было такое созвездие блистательных артистов, что нужно было в оба смотреть, потому что все растащат в кадре сразу: кто кого переиграет. И я считаю, что я экзамен выдержал.
* * *
Я не жалею, что снялся на телевидении в «Мольере». Это Эфрос пригласил. Это был, с моей стороны, еще и эксперимент: артисты стали на меня нападать, что я их стремительно гоню к результату, то есть к спектаклю. Это звучит очень странно, для западных это просто непонятно: вроде это само собой и разумеется, когда на репетиции восемь недель дают. На Западе трудно получить больше восьми недель.
Там канон: опера — шесть недель, драма — шесть-восемь — все. И поэтому, когда Эфрос предложил, я согласился. Я был очень занят — как всегда чего-то репетировал и поэтому снимался только с четырех, после репетиции — я всегда репетировал с десяти до трех каждый день, не считая вечерних репетиций. Но тут я пошел на это, потому что, думаю, может, действительно я забыл, как я был артистом, и слишком много требую — и я решил снова влезть в шкуру артиста. Ну влез, сыграл, и я остался при прежних убеждениях, и режима не смягчил.
Я снимался с четырех до семи там. Во всяком случае, к себе в театр на второй акт я всегда успевал. Но каждый день я не мог выстаивать, у меня терпения бы не хватило на свое искусство любоваться каждый вечер. Но, к сожалению, приходилось много стоять. И если я не смотрел спектакль, предположим, месяц, а ведь репертуар, который шел, был огромный, и была проблема, чтоб хоть раз в месяц шел спектакль, иначе трудно артистам играть. Суфлера у нас нет все тридцать лет, к счастью, как и гримов. Ну кое-какие гримы… дамы, к сожалению, как не усмотришь, обязательно намажутся, чтоб быть, как по простонародному выражаются, покрасивше — ужас. Я помню, сколько раз к той же Славиной подойдешь, скажешь: «Что ты там делаешь? А ну сейчас же иди разгримируйся, вымой лицо». То есть демократии в театре не может быть никакой.
Стыдно плохо играть.
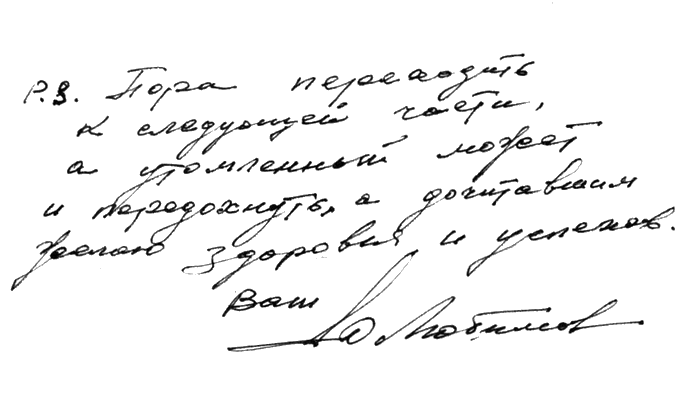
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Кино, театр, кино
Кино, театр, кино Сначала кино было в школе. В спортзале висел экран, и после уроков почти каждый день мы бесплатно смотрели кино «Сын полка» — про Ваню Солнцева, ефрейтора дяденьку Биденко и капитана Енакиева. Мы смотрели, смотрели, смотрели про сына полка, и никак не могли
Кино
Кино «Возвращение Святого Луки». Катя Васильева, Рыжаков, Дворжецкий и я – в роли спекулянта иконами Лоскутова – веселимся в перерыве. «О бедном гусаре…». Мерзляев. Впоследствии – Мерзяев. «Раба любви» Михалкова. Кинопредприниматель Южаков. «Осенний марафон» Г.
Кино
Кино Я терпеть не могу кино? Нет, не всякое.Театр лучше.Положим, я плохо сыграла. Бесконечно стыдно перед теми, кто сидел в зале, но сколько несчастных увидели мою плохую игру – полтысячи, тысяча? Критики не в счет, эти могут разнести в пух и прах то, что сыграно талантливо, и
Кино
Кино Собственно, с кино как с видом деятельности меня свел кукольный театр. Еще до пражских событий у нас в театре Образцова был спектакль «Чертова мельница» по пьесе чеха Дрды. Я играл Люциуса — черта первого разряда, такого легкого, быстрого, саркастического. Тогда
Театр – это такое кино. Кино – это такой театр
Театр – это такое кино. Кино – это такой театр Я считаю правильным снимать в кино театральных актеров. И объясню почему. Специфика кино такова, что актер выстраивает свою роль по кускам: снимается эпизод из конца картины, затем из начала. Нет законченности действия,
Кино
Кино Аркадий Натанович был, по свидетельству людей, хорошо его знавших, неплохим актером. Когда он писал, то на разные лады и разными голосами «опробовал» те или иные реплики персонажей, отбирая наиболее подходящие. В годы армейской юности его даже приглашали сниматься в
Кино
Кино Театр театром, но манило Мастроянни и кино. Он мечтал сниматься у знаменитого режиссера Витторио Де Сика. Мать Марчелло Мастроянни знала сестру Витторио Марию и просила ее передать брату рекомендательную записку: «Сын моей близкой подруги…» С этой запиской
Из театра – в кино, из кино – в театр
Из театра – в кино, из кино – в театр Невероятный Иннокентий МихайловичВот собрался писать о кино, а ушел куда-то в другую сторону, в поток обыденности. В сущности, я человек достаточно постоянный. В любви, в привычках, в укладе жизни. Да внутри этой постоянности всегда ищу
Кино
Кино Когда выходишь из кино ????????В мерцанье вечера сырое, Лишь краем зренья замечая, ????????Что землю снегом замело, То существуешь за двоих: ????????И за себя, и за героя. Или совсем не существуешь: ????????Ни за себя, ни за него. Ознобом воздух напоён, ????????Тоской по Куперу и
Кино большое – кино маленькое
Кино большое – кино маленькое Однажды меня пригласили в партком «Ленфильма». Парторгом на студии была в то время Ада Алексеевна Лубянцева. Она выполняла свои обязанности бодро-весело. Из всех видов партийной деятельности она предпочитала дальние и долгие выезды в
КИНО
КИНО 1955 Паяльщик-лудильщик. «Мать» (по романуМ. Горького). Сценарий Н. Коварского, М. Донского. Режиссер М. Донской. Киевская киностудия художественных фильмов.1956 Эпизод. «Главный проспект». Сценарий Г. Кушниренко. Режиссер И. Эстрин. Киевская киностудия художественных
Кино
Кино Настоящая жизнь бывает только в кино. О’Санчес Институт медицинской генетики и его сотрудников Сергей полюбил всем сердцем. Здесь работало много выдающихся исследователей, ярких людей. Дружеские связи возникли у него с невропатологом Константином Назаровым,
О кино
О кино Значение каждого явления в нашей жизни определяется его задачей, его необходимостью для человека. Кино сумело соединить достижения почти всех видов искусства и в свою очередь оказало несомненное влияние на литературу, живопись и театр. Взаимосвязь сказывается
Кино(!?)
Кино(!?) О, холод ледников, далеких и прекрасных. Палатка ? облако в просторе отдаленном. Артюр Рембо Мы возвращаемся в наш альплагерь «Шхельду». Отдых ? летний сезон заканчивается, некоторые уже собираются уезжать домой, но вдруг нас потрясает необычайное событие ? с шумом