ОДНА МАЛЕНЬКАЯ РАШКОВСКАЯ УЛОЧКА
Памяти Марка Шагала
Откуда мне начать?
От начала, разумеется.
Где же это начало, вверху или внизу? Куда положить мне первый мазок кисти?
Длинная полоска вверх, покороче — в сторону, две перекрещенные полоски сбоку: дверь и окно. Даже и не окно, широкая деревянная ставня, заложенная железным запором. Резницкая. Первый домик на улочке сверху. Я сразу слышу встревоженное кудахтанье над крышами. Жертвенные куры хорошо понимают, бедняги, и для чего их выхватывают вдруг ночью из курятника, и слова искупительной молитвы. Я сразу вижу трепетную спину Зусие-резника, его острый нож во рту. Сегодня, один раз в году, он режет до поздней-поздней ночи. Сегодня он — нужнейший среди нужнейших. Снаружи толкутся к нему женщины и девушки с кошелками в руках. Хрипят на крючьях зарезанные куры. Старые женщины злятся, проклинают весь свет. Молоденькие девушки перекидываются в темноте смешочками, грубостями, весь свет обсмеивают. Сейчас уже можно, наверно, все. После жертвы уже все-все простится.
А может, первый мазок кисти положить внизу, в нижнем конце улочки? Может, скорее начать снизу вверх, а не сверху вниз? Все равно? Все равно!
Три или четыре ступеньки, высокая резная дверь, стена с полудюжиной закругленных окон — «аристократическая» синагога в местечке. Небольшая синагога под жестяной крашеной кровлей стоит и молчит. В ее окнах день и ночь темно. На резной двери висит большой черный замок, прямо как на амбаре с зерном. Я прижимаюсь лбом к стеклу, приплющиваю нос, как когда-то в детстве носик, и еле различаю внутри двух позолоченных львов над алтарем, блескуче-лакированные перила вокруг амвона. Так как вверху улочки, в резницкой, сейчас время предпраздничной суеты, перескакиваю я здесь, внизу, на пару дней вперед, и все окна в синагоге сразу вспыхивают. Я вижу двух «аристократов», прогуливающихся у синагоги в квадратных ермолках и с узкими блестящими талесами на плечах. «Аристократами» называются потому, что во всю эту ерунду, в молитвы-шмалитвы и все такое, уже не верят. Но «аристократическую синагогу» имеют из-за трех вещей. Первое — чтоб видели, что есть. Во-вторых — за что им не любить канторское пение? А в-третьих — со всевышним не шутят, есть он или нет его, два раза в году, на Новый год и в Судный день, отдать ему что причитается невесть каких денег не стоит. А может, он все-таки есть, а?
Сверху, снизу — все равно? Нет, не все равно.
Как раз напротив синагоги, на другой стороне улочки, я вижу ледник. Вот отсюда, с почерневшей и замшелой соломенной крыши на самой земле, начну я вырисовывать, восстанавливать для памяти домик за домиком, заборчик за заборчиком, крылечко за крылечком, хоть одну рашковскую улочку. На полотне или на бумаге — одну маленькую рашковскую улочку. Домик за домиком, крылечко за крылечком — хоть по пальцам пересчитай.
Ледник со льдом для больных. Соломенная крыша прямо на земле с почти лежачей дверью вкривь, как у обыкновенного погреба. Таки вкривь и таки выкрашена особо кричащим цветом, как нарочно, ради веселости, ради надежды, что больной выздоровеет. Сейчас, осенью, почти весь ледник уже пуст. Весь лед уже использован.
Я открываю дверь, кладу ее на крышу, стою с ведром в руке, с секачом в ведре, и гляжу в глубину, как в колодец. Я бегаю сюда за льдом пол-лета, и раз от раза колотится сердечко все сильнее: раз от раза ледник становится все глубже и глубже. Все мамы в Рашкове умирают? Все мамы лежат в кроватях с остекленевшими глазами и с пузырями льда на лбах? Шаткая лесенка качается подо мной. Секач колет лед с эхом, как в жуткой пустоте. Сквозь проем двери заглядывает вниз светлый кусок неба и подбадривает меня. Я карабкаюсь с ведром льда по лестнице обратно наверх, с перекладины на перекладину, и на каждой перекладине отдыхаю. Со стен ледника срываются капли талой воды. Мне вдруг кажется, что не простые капли капают со стен. Все больные в местечке уже давно поумирали, и мама тоже не сегодня завтра умрет. Мне вдруг кажется, что этот ледник — не просто ледник. Я подымаюсь по лестнице в глубоком святом домике, где оберегаются все слезы, пролитые по умершим. Я еще очень маленький и громко-громко реву. Кусок неба в двери исчезает. Кто-то кричит мне сверху: «Эй, мальчик, что ты ревешь? Скажи, ты чей, я твою маму приведу, ну же!» Но я слышу нечто другое: «Эй, мальчик, что ты несешь? Беги скорей, твоей маме лед уже не нужен!»
Лед маме и вправду больше не понадобился лишь несколько недель спустя, ближе к зиме. Я вижу, как она ходит уже маленькими шажками по дому, кожа да кости, опирается о край стола, о спинку стула. Я чувствую на своей щеке исхудавшие и обескровленные пальцы ее. Я слышу, как она говорит мне еще очень слабым голосом: «Конечно, сыночек, когда суждено, так суждено. Но если бы не ледник с твоим льдом, кто знает, была бы я еще жива сейчас?» Ну? Так как же не начать именно отсюда, с соломенной крыши прямо на земле, над глубоким святым домиком слез, внизу, у самого конца, у самого начала улочки?
Рядом с ледником, чуть выдвинутая вперед, точно такая же низкая почерневшая соломенная крыша. Не прямо на земле — между землей и соломенной стрешней маленькая желтая стенка, оконце и крошечная дверь. Стрешня слишком глубоко и слишком косо надвинулась на стенку. Как сердитый козырек над хмурым лицом. Поэтому издалека обе соломенные крыши выглядят как близнецы. Поди угадай, где ледник, а где Довид-Иосифа хедер. Конечно, так только говорится. Я еще до полных шести лет не дорос, а ни разу не заблудился, точно попадал к Довид-Иосифа щеколде. И главное, без провожатого. И главное, короткими зимними днями — еле начинало светать. Только-только синело за окном.
Вокруг Довид-Иосифа соломенного домишка я развесил бы все наши кабаковые фонарики, которые мы сами мастерили, собственными руками, а семечки изнутри начисто сгрызали еще сырыми. Вырезанные квадратные «окошечки» в выскобленных кабаках выглядели оконцами старой крепости или даже тюрьмы. Когда нас распускали по домам, на дворе давно уже было темно, мы зажигали свечки в фонарях, с дикими радостными криками высыпали на улицу, не шли — бежали, фонарики бежали вместе с нами, как звездочки наши, разбрасывали вокруг нас блики света, единственные блики света на темной улочке.
Пусть висят фонарики-звездочки, как нити бус, вокруг соломенной крыши Довид-Иосифа, пусть приукрашивают и прихорашивают Довид-Иосифа соломенный домишко.
Единственное оконце в хедере Довид-Иосифа имело шесть стекол. Четыре затянуты были морозом, два — всегда высажены, заткнуты подушечками. Довид-Иосиф был очень старенький, очень сгорбленный, очень махонький — самый маленький ученик выглядел выше него. Не помню, чтобы он когда-нибудь что-нибудь ел. Не помню, чтобы у него была жена, дети. Не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-нибудь прикрикнул, когда-нибудь кого-нибудь ущипнул. Ему можно было подстроить любую штучку из тех, что хедерники подстраивали иногда меламедам, а он, Довид-Иосиф, спустит, притворится, что ничего не видит и ничего не знает, зато они, шалуны, от своих штучек никакого удовольствия не получат. Больше того: я не помню, чтобы Довид-Иосиф умер, как все простые люди, чтобы он вообще когда-нибудь умирал. Мне представляется, что он так изо дня в день становился все крошечней, все легче, и однажды, как легкий дымок, потянулся он через припечек вверх, в трубу, из трубы на соломенную крышу, с крыши рассосался в облаках, обволок кроны деревьев, слился с лучами солнца в самой вышине, под самым небом.
Пусть висят фонарики-звездочки, как нити бус, вокруг второго домика на рашковской улочке.
Дальше, за боковым заросшим переулком, что выходит на Мясницкую, стоит дом Шлойме-табачника. Возле двух приземистых соломенных крыш дом Шлойме-табачника выглядит таким высоким, что аж шею начинает ломить, когда смотришь на него вверх. Возле двух соломенных домишек дом Шлойме-табачника выглядит как дворец. Стеклянная угловая дверь с жестяным изукрашенным козырьком над дверью. Деревца под окнами. Синие «граммофончики» тянутся по веревкам от земли до самой крыши. Что творится в доме изнутри, какой вид у него там, не знаю. Так же как не знаю, почему Шлойме зовут Шлойме-табачник. Он никогда, кажется, табаком не занимался. Точно как Фейге-Лея-свечница никогда не промышляла свечами. Точно, как Бася-молочница никогда, поверьте, даже и вкуса молока толком не знала. Имена унаследовались, наверно, от отцов, от дедов, от прадедов. Зато я хорошо знаю, что делается у дома Шлойме-табачника снаружи.
Возле стеклянной угловой двери и возле заросшего репейником проулка всегда стоит железная кроватка, а в кроватке, стянутая, как повивальником, известково-белыми бинтами, вытянувшись, как, боже упаси, маленький покойник, лежит Шлойме-табачника дочка моего возраста, девочка с очень красивым именем: Переле. Переле лежит все лето в гипсе. Еще крошкой, говорят, Переле выпала из окна, и у нее на спине начал расти горбик. Горбик на спине — для Рашкова не бог весть что. Но такая в этой маленькой девочке сила, что лежит она все лето в железной кроватке, затянутая гипсовыми бинтами, как окаменевший кусок гипса, только бы скинуть со спины рашковский горбик.
Я останавливаюсь у железной кроватки. И горбику Переле я сочувствую, и терпение Переле трогает меня. О чем говорить с ней, я не знаю.
— Правда тебя зовут Переле, да?
— Кому какое дело, как меня зовут!.. — зыркают на меня ее круглые глазенки.
— Я хочу дружить с тобой, Переле!
— Иди, иди! Со смертью иди дружи!..
За что мне такая плюха? Почему Переле такая вредная? Я стою как ошпаренный. У меня аж глаза наполняются слезами от обиды. Переле выглядывает из своего гипсового повивальника, как обманутый бельчонок из клетки:
— Тебе меня жалко, я знаю, знаю!
— Наоборот, Переле. Я тебе так удивляюсь!
— Иди-иди, ты все врешь!..
Чуть выше живут друг возле друга двое портных. Первый портной, Додя Борух-Мордхэ — высокий человек с широкими плечами, с широким квадратным лицом и широкой улыбкой, с громким широким голосом, который слышен с утра до ночи. Все рашковцы любят говорить много, но Додя Борух-Мордхэ не говорит — Додя Борух-Мордхэ кричит. Не на жену, боже упаси, и не на двух своих сыновей, на Нюку и Фридла, и даже не на соседа, второго портного, который потихоньку-понемножку порядком выматывает ему душу, да и вообще ни на кого. Просто у него такой сильный голос, что слышно его по всей улочке. Прямо будто он, Додя Борух-Мордхэ, среди портных не последний среди последних, а наоборот: первый среди первых.
Додя Борух-Мордхэ — портной деревенский. Он одевает и обшивает целые села вокруг Рашкова. На крыльце у Доди Борух-Мордхэ, на длинной скамье у открытой двери, часами ждут молдаване, иногда даже ночевать остаются прямо здесь, на крылечке, лишь бы он, Додя Борух-Мордхэ, и именно он, Додя Борух-Мордхэ, выдал им побыстрее готовую работу — сукман, жилет или пару полотняных штанов.
Портные, известно, любят посмеяться друг над другом. На лучшей одежке, что сшил другой, сейчас же отыщут тебе тысячу недостатков: тут пола тянет, там рукав вставлен не ай-ай-ай, здесь лацканы не сегодня завтра скрутятся. Тем более над таким, как Додя Борух-Мордхэ, который говорит еще к тому же, как нарочно, чтоб позлить, громким, самоуверенным голосом. Что такое железка, то бишь утюг, чтобы разгладить шов, он не знает — издевались портные. Раз-два, тук-тук на машинке, пока он строчит вторую пару брюк, первая уже выглажена под его задницей. Ширинки он не делает. Зачем брюкам вообще ширинка? Но если он уже делает эту ширинку, делает ее сзади, не спереди — издевались портные.
Портные издевались, а Додя Борух-Мордхэ и бровью не вел, хотя, с другой стороны, эти шуточки здорово его обижали:
— Эх, братцы-портняжки, не от хорошей жизни вы все это делаете. Или я не знаю, откуда все эти шпильки идут? От него (большой палец выворачивается к стене, к соседу за стеной), от молчуна, который якобы до двух считать не умеет. Эх, братцы-портняжки, над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Здорово он вас всех обвел. Он ведь уже и портным называться не хочет. Вы бегаете с высунутыми языками без работы, иголку воткнуть не во что, а он открыл себе мануфактурную лавку на базаре. Откуда он это вдруг взял? Кого он ограбил? Эх, братцы-портняжки, в себя вы камни кидаете! Кидайте камни туда, куда надо.
Второго портного зовут Беришл Шиншевуцер. Действительно-таки молчун, молчун с упертой молчаливостью — никогда не знаешь, что он себе думает. Какая-то совсем не портновская узкая бороденка, как черная рамочка. Обе руки засунуты всегда в рукава. И при всем при том быстрый, шустрый, везде поспевающий, нервный.
Дом Беришла, возле дома Доди Борух-Мордхэ, недавно побелен, двери — свежевыкрашены, дранка на крыше — новая, белая. Окна затянуты занавесками, под окнами — грядки, огороженные красным штакетником. Не шумит уже внутри швейная машинка, детей у Беришла нет — тихо-тихо, шороха живого не слыхать. Целый день сидит жена портного у окна, угол занавески отогнут, локти ее уперты в подоконник, она любит, говорят, так сидеть и смотреть в огород. Она получает, говорят, удовольствие, когда сидит и смотрит, как петрушка растет, как становится все выше и выше.
Каким образом из портного, из жалкого портняжки, получился вдруг лавочник с мануфактурной лавкой — остается тайной. Тайной среди всех рашковских тайн. Крупный выигрыш Шимеле Сорокера[10] здесь ни при чем. Большого наследства получить тоже не от кого. Все дедушки и бабушки, дяди и тети, двоюродные и троюродные братья и сестры, просто родственники — бедняки бедняками. Тогда что же? Вообще-то поговаривают, что Беришл обходительным говорком своим уболтал вояжеров, и они все вдруг прислали ему ткани без копейки денег, за одни только векселя, и не смотрите на его вид, Беришла, он со временем объявит себя банкротом, ни копейки денег не отдаст, и поди сделай ему что-то, поди не позавидуй ему! Но все эти разговоры — пустые разговоры. Где Беришл Шиншевуцер и где вояжеры? Ну, а вояжеры дадут разве так запросто себя одурачить? Короче — тайна среди всех рашковских тайн, земля давно уже их покрыла.
Два соседа, дверь в дверь — враги. Круглый год не разговаривают, не глядят друг на друга. Правда, один раз в году, в Судный день, говорят друг другу с порогов: «С праздником, выпросим себе хороший год!», а в конце Судного дня, когда год уже выпрошен, бормочут друг другу, опять же с порогов: «Остается по-старому!»
Оба дома — Доди Борух-Мордхэ облупленный дом с вечно дырявой крышей и Беришла Шиншевуцера свежепобеленный, свежевыкрашенный дом со сверкающе-новой драночной крышей — одинаково, в одно и то же время стерты были с лица земли, обоих, совершенно одинаково, больше нет.
Рашковские зубоскалы рассказывают в шутку — а рашковские зубоскалы любят шутить даже при величайшей беде — что фашистские головорезы в те жаркие июльские дни настигли обоих рассоренных соседей на подводах как раз вместе, где-то у переправы через Днестр, где-то возле Вертюжен. Их увели вместе в лес, раздели догола и поставили рядом у открытой ямы. Когда клацнули уже затворы винтовок, Додя Борух-Мордхэ посмотрел на Беришла Шиншевуцера и гаркнул ему своим громким голосом:
— Нас мирят, а?
А Беришл Шиншевуцер своим тихим говорком ответил:
— Остается по-старому!..
Как будто я кнопку нажал, выдвигается вдруг из глубины, чтоб его хорошо было видно, опять низенький домик, крытый старым, прогнившим и пересохшим камышом; и каким это образом такая сухая крыша — достаточно ведь было одной искре вылететь из трубы — столько лет не сгорала? Рассказывают, что давным-давно праведник, цадик, благословил Рашков, чтобы здесь никогда не было пожаров. Рашковские мудрецы умничали: благословил? Может, проклял?
В домике, на голой земле, даже глиной не обмазанной, с двумя голыми деревянными топчанчиками и с закопченным припечком в углу, живут несчастная вдова — Лоне и ее сын, долговязый парень лет двадцати с чем-то, Шапсэ Лонин. У Лоне всегда скривившееся в плаче лицо. Шапсэ Лонин на рашковском языке — причмеленный. В хорошие минуты марширует он босиком по улице, штаны откромсаны выше колен, маршируя, он делает гимнастику — машет длинными, раскинутыми руками. Раз, два! Раз, два! В плохие минуты он буянит, вышибает стекла, срывает с петель и так уже несчастную дверь. Лоне раздирает себе лицо, визжит на улице жутким визгом: помогите, люди добрые!
Пол-улочки, все мальчики из хедера толкутся вокруг домика с пересохшей тростниковой крышей. Я тоже. Стою у выбитых стекол и дрожу. Внутри лежит на земле Шапсэ в луже воды. Люди добрые связали его длинной веревкой, обмотали его с ног и до шеи. Он лежит и орет, как зарезанный: ххра-а-а… ххра-а-а… Потом он перестает орать и начинает плеваться в потолок. Потом на миг замирает, и горло его начинает выбулькивать из себя тихие просительные слова: «Я умный. У-у-умны-ы-ый. Это вы все сумашечие!»
Пол-улочки идет за повозкой, что увозит Шапсэ Лониного в Костюжены. Я — тоже. Шапсэ лежит связанный в соломе и все еще выбулькивает, без сил, еле слышно: «Я умный. У-у-умны-ы-ый. Это вы все сумашечие!» Потом, через несколько месяцев, возвращается он из Костюжен остриженный, с совершенно переменившимся лицом, исцеленный. Он шагает по улочке медленно и степенно, ни к кому не цепляется, и никто не цепляется к нему. А когда сорванцы, шалопаи, останавливают его и начинают подначивать: «Скажи, Шапсэ, кто сумасшедший, а?» — он отступает в сторонку и отвечает с улыбочкой, быстро, как бы откупаясь:
— Я!.. Я!..
…Крылечко колышется. Маленькое крылечко без перил — пара планок прибиты с одной стороны к одному столбику, с другой стороны — к другому столбику. Крылечко колышется, когда внутри, в доме у окна, гудит швейная машинка. Три сестры. У старшей, у Кейле, уже седеет коса. Младшая, Хайкеле, всегда веселая, всегда смеется. На швейной машинке строчит средняя — Ривке.
Вокруг машинки, вокруг Ривкиных быстро-быстро работающих ног, валяются разноцветные тряпочки: желтые, красные, зеленые, всех цветов радуги. На стене висит увеличенный портрет отца. Сестры знают своего отца только таким, как здесь, на стене. Вытянувшийся по струнке, на голове русская солдатская фуражка без козырька, усы, ряд железных пуговиц, длинная шашка — эфес выше локтя, а кончик у самых ботинок. Никто не знает, куда он подевался, где его похоронили, когда и как он погиб на войне. Война закончилась, началась революция, сюда вошли румыны, Рашков остался на этой стороне Днестра, он, отец — на том берегу. Куда же он подевался? Хоть похоронили его где-нибудь? А может, он и вовсе живет где-нибудь там, живет, дела творит, горы переворачивает?
Я еще парнишка лет четырнадцати, а уже влюблен в Цейтл Харитон. В Ривкину лучшую подругу. Не просто влюблен — без памяти влюблен. Никто на свете не знает об этом, сама Цейтл об этом не знает, знает одна Ривке. Цейтл ходит принцессой, к ней не подступись. Ривке добрая, хорошая, простая. Я могу часами говорить с ней о своей влюбленности. То, что я должен рассказать Цейтл, рассказываю я Ривке. Я сижу возле нее на табурете, машинка ее строчит, и мне приходится говорить довольно громко. Старшая сестра, Кейле, возится на кухне и злится. Вдруг она, все еще из кухни, выкрикивает:
— Когда нет ума, и годы не помогут. Сидит с этой и говорит о той!..
Ривке перестает строчить и взглядывает на меня точно такими же влюбленными глазами, как мои:
— Говори, говори. Рассказывай, прошу тебя!
И вдруг голова ее падает на машинку, плечи начинают подрагивать, кажется, что не она — что швейная машинка всхлипывает.
Никогда потом не говорил я с Ривке о тех всхлипываниях. Много лет спустя, когда я встретил ее как-то в Кишиневе, старую седую женщину, после всех разговоров у меня было сильное желание спросить: «Отчего вдруг ты так расплакалась тогда?» Но поди задай старой седой женщине сейчас, столько лет спустя, такой глупый вопрос.
Эта улочка называется в Рашкове Дайенской улочкой. Длинное крыльцо с четырьмя точеными столбиками, два по краям и два посередине, у четырех деревянных ступенек на улицу. Очень-очень старое крыльцо, кряхтящее и ойкающее, со скрипучим одышечным кашлем; еле уже держится, даже сердитое дуновение ветерка вмиг, кажется, раскидает его на щепки и унесет. Еще старее, во всяком случае, точно такой же старый и седой, едва-едва кряхтящий и легкий, как перышко, сам рашковский дайен[11] — Янкл-дайен.
Лишь изредка старушка, сомневаясь, была ли разделанная ею курица вполне здорова, поднимется по этим ступенькам спросить у старого дайена совета: есть ее или не есть? Когда-то на крыльце часто кричали и ругались компаньоны и даже родные братья, пришедшие с наследственными тяжбами или с деловыми распрями, чтобы старый дайен с его белыми, мудро нахмуренными бровями и с пергаментным глубокоумно сморщенным лбом тяжбы распутал, распри утихомирил, компаньона с компаньоном и даже брата с братом уравнял и помирил. Поссорившиеся супруги могли заскочить к Янклу-дайену за разводом. Хоть я и не припомню, чтобы кто-нибудь в Рашкове за все мое время разводился.
Я всегда вижу старого дайена сгорбившимся над книгой у окна или стоящим в окне закутанным в свой талес. Когда он появляется иногда на улочке, одетый в свою черную капота, с черным картузиком на макушке и с талесом в мешочке под мышкой, я вижу, как медленно, шаг за шагом, двигается вперед длинная, белая, обвислая, бедняцкая борода, и я вижу, как под белыми, мудро нахмуренными бровями прикрываются в такт шагам старого дайена глаза. Рашковские умники острили, что Янкл-дайен закрывает глаза потому, что по дороге в синагогу может еще встретиться, боже упаси, молодая красивая женщина. Но рашковские умники острили, наверно, не всегда умно. Кто знает, чего именно старый рашковский дайен не хотел видеть на улочке открытыми глазами?
Рассказывают, что когда убийцы в тот горящий июльский день ворвались в Рашков, весь Рашков был уже пуст. И старые и малые ушли за Днестр, кто на подводах, кто пешком. Несколько оставшихся стариков и старух палачи повытаскивали из домов, засыпали ими колодец, а крышку колодца заколотили гвоздями. Старого дайена убийцы вели закутавшимся в свой талес. Белую длинную бороду свою он держал задранной вверх, и весь путь до колодца шел с прикрытыми глазами. Так глаза его и остались закрытыми навечно.
Возле дайенского дома с длинным крыльцом опять стоит такой вот простой маленький домик:  . В домике живет Велвл-мясник. Велвл-мясник носится всю неделю по деревням, по ярмаркам, заполошен на бойне, у мясницкой колоды в мясной лавке, и поэтому здесь — только его домик. Ему самому не уделяю я на улочке много места.
. В домике живет Велвл-мясник. Велвл-мясник носится всю неделю по деревням, по ярмаркам, заполошен на бойне, у мясницкой колоды в мясной лавке, и поэтому здесь — только его домик. Ему самому не уделяю я на улочке много места.
Затем, аж до резницкой, до верхнего конца улочки, тянется длинный забор, сколоченный из бочковых клепок, одна клепка к другой приделана распрямленными обручами. Не простой забор — своего рода вывеска: здесь живет Берл-бондарь, мастер-бочкодел — единственный в мире.
Дом Берла-бондаря задвинут в глубь двора, стоит как-то неуклюже повернутый, ни туда, ни сюда, не дом здесь главное; королевство Берла-бондаря — это его двор. Посреди двора — узкий верстак Берла с тисками спереди, на верстак можно усесться, как на норовистую лошадку. На стене резницкой, что выходит к Берлу-бондарю во двор, висит шкафчик (тоже сколоченный из клепок) со всяким инструментом: долота, клещи, отвертки, фуганок, пила, молотки, кувалды, коробочки, баночки, куски пакли и все такое прочее. По двору катаются витые стружки. В стороне, сложенные друг на друга, лежат свежевыдолбленные клепки, сияюще-новые обручи. Но главное — выставлены рядами, одна за другой и одна рядом с другой, бочки и бочечки с одинаковыми блестящими поясками вокруг животов, как лейб-гвардия королевства Берла-бондаря.
Для чего Рашкову столько бочек и бочечек? Нашему бочонку для пасхального борща уже бог знает сколько лет, служил он еще бабушке и прабабушке, и будет еще стоять на чердаке от пасхи до пасхи бог знает сколько лет. Бочка, в которой мы держим воду, таки подтекает понемножку, но отец заткнул щелочки паклей, и воду там можно держать и держать без конца.
Я люблю останавливаться у Берла-бондарева забора. Стоять и заглядывать во двор. Берл-бондарь, в фартуке, без шапки, с длинными обвислыми усами, скачет с молотком в руке вокруг высокой бочки, выше него самого. Зачем Рашкову нужна такая высоченная бочка? Молоток наколачивает на бочку обруч с раздольным звоном, и пустая бочка отвечает молотку еще более раздольным эхом. Весь двор уже наполнен молоточным звоном и бочечным эхом.
Берл-бондарь замечает меня у забора, подмигивает мне издали и распевается вдруг громким-громким голосом, еще громче и еще раздольней, чем звон молотка и чем ответ бочки на этот звон:
Точно обруч в руках бондаря,
Нам любовь — вокруг шеи петля.
Ой-вэй, ой-вэй…
Берл-бондарь пьянеет, наверно, от одних только бочек. Пьяненькое пение его, звон молотка и эхо в бочке возносятся вместе над крышами и крылечками, растекаются по всем уголочкам маленькой улочки.
Рашковец, конечно, скажет:
— Я бы рассказал это лучше.
Правильно. Все рашковцы имеют талант рассказчика. Говорят, что когда ангел воображения (есть и такой ангел) на своих крыльях нес миру мешок историй, мешок этот зацепился за острый камень на высокой рашковской горе, разорвался, и все истории рассыпались над всем Рашковом. Половина историй упала в Днестр, они уплыли вниз, покачиваясь на волнах, как бумажные кораблики, застряли в каждом из прибрежных местечек, тут несколько, там несколько. Другая половина целиком осталась у рашковцев.
— Послушай, — спросит рашковец, — на что тебе это надо, что ты хочешь этим сказать?
На такого рода вопросы и ответить-то нечего. Но с рашковцем разговариваю я всегда как равный с равным:
— Ну а просто так нельзя?
— Просто так не бывает. — Рашковцы к тому же еще и философы тоже.
— Значит, оно таки не просто так.
— Например?
— Не для рашковцев. Рашковцы никогда толком Рашков не понимали. Для всего мира. Вернуть миру рассыпанный мешок историй.
— Ай, брось, не тяни корову на чердак.
— Что ж тебе здесь покоя не дает, корова или чердак?
— Ты мне покоя не даешь. Само то, что ты тянешь, не дает мне покоя.
— То, что тяну, или то, что получу за это, — слава?
С рашковцем можно спорить день и ночь. Рашковец тебе так скоро не уступит. Разве что щелкнешь его как следует по носу. После щелчка он начинает делать одолжения:
— Ну, будет. Ты уже начал, рассказывай дальше. Ты рассказывай, а мне уж придется тебя выслушать. Ладно.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Теперь, дорогой читатель, будь так добр перейти со мной на другую сторону улочки. Другую сторону улочки начинаю я сверху вниз.
Снова длинное крыльцо: невысоко от земли; веселое; с вазонами на окнах изнутри; с веселыми портняжскими песенками, которые часто слышатся из окон. Лейб Шлойме-Ореша — обыкновенный, неплохой мужской портной, и причитается ему не больше, чем его имя: Лейб Шлойме-Ореша. Но он хочет называться Лейб Фридман (он бы даже хотел — Лео Фридман); местечко же зовет его еще лучше: «американец», а шить у него шьют только господа, только высокие персоны, торговцы с шикарными магазинами да какие-нибудь разособенные женишки. Счастье такое. Судьба такая. Такое вывернутое счастье и такая вывернутая судьба.
Много лет назад Лейб Шлойме-Ореша уехал в Америку, отмучился там какое-то время на швейной фабрике, был, говорят, простым гладильщиком, к пиджакам и брюкам только пуговицы пришивал, никак за те годы не смог вскарабкаться, прижиться. Мучился, мучился и в конце концов вернулся обратно домой, в Рашков, в одних, говорят, портках. Но шумливость, хвастливость и ухватистость он, видать, все же прихватил с собой из Америки. Сразу напротив двери, как только входишь в портняжскую, стоит на винте манекен, который, если хочешь, может становиться и выше, и ниже, а на манекене висит сметанный пиджак, без рукавов пока, но такой точеный и такой вылизанный, аж сияет. Вокруг длинного стола носится Лейб Шлойме-Ореша в расстегнутом жилете, с очками на носу, и плоским мелком рисует на куске ткани столько линий и столько кружочков, что ткани из-под них уже и не видно. У окон строчат две или даже все три швейные машинки. Хозяйка дома, высокая веснушчатая женщина — мачеха трех сыновей Лейба Шлойме-Ореша, да у нее у самой еще, от первого мужа, своих два мальчика. И так вот, с таким, не сглазить бы, количеством рук, портняжская Лейба Шлойме-Ореша и в самом деле не просто портняжская, а прямо-таки целая фабрика. А Лейб Шлойме-Ореша действительно заслуживает, чтобы называли его, как он сам хочет — Лейб Фридман, или таки Лео Фридман. Особенно если встречают его иногда после работы на улице. Твердый круглый котелок на голове, цветастый галстук на шее, а пальтишко с плюшевым воротничком такое точеное, такое вылизанное, аж сияет. Будто сам манекен на винте, рекламы ради, выбрался погулять по местечку.
Мачеха же, кроме всего, прекрасная хозяйка, золотые руки. Сзади дома, совершенно сама, посадила деревца: черешни, вишни, сливы. Деревца постепенно разрослись. Ребята поставили вокруг них забор. И со временем за мастерской Лейба Шлойме-Ореша поднялся чудный фруктовый сад. То есть и задняя сторона дома Лейба Шлойме-Ореша тоже сияет.
Мне уже лет пятнадцать, и я дружу со средним сыном Лейба Шлойме-Ореши, с Решеле Лейба Шлойме-Ореша, с Гершеле Фридманом. Дружны мы, понятно, потому, что оба левые. Субботним днем собираемся мы с Нюкой, Вигдором и Нислом у Гершеле Фридмана в саду. Сидим в траве под вишней и обмозговываем мир. Самый горячий среди нас всех — Нюка. Нюка говорит, что Рашков надо расшевелить. Единственное, что нужно в Рашкове, это забастовка. Объявить хозяевам забастовку! Гершеле, видим мы, сильно переживает. Он все вздыхает, аж постанывает:
— Ой, и как раз моим хозяином должен быть родной отец!
— Ну и что? — горячится Нюка. — Какая тут разница, отец или не отец? Есть кое-что повыше, чем отец!..
То ли мачеха подслушала наши разговоры, то ли просто так, без всяких почему, она выскочила вдруг из дома с длинной кочергой в руке, смешала нас всех с грязью, обругала на чем свет стоит и по одному выгнала нас кочергой из сада. Гершеле был страшно расстроен, издалека он пожал нам плечами: мачеха! А Вигдор, самый старший и самый умный среди нас, сказал с усмешкой:
— Мачеха ему виновата. Всю злобу мира навешивают на мачех.
Ниже стоит точно такой же маленький домик, как напротив:  . Как домик Велвла-мясника. Здесь живет Азрилик-маляр. Азрилика-маляра часто видят слоняющимся по улице в кругло торчащих, цветасто-забрызганных штанах. На плече его висит стремянка. В обеих руках — ведра с кистями, с мастерками, с линейками, с торбочками краски, со скрученными трафаретами, да и вообще, чего там только нет. Таким видят Азрилика-маляра в «мертвый сезон» — в те месяцы, когда работы нет, когда он слоняется и ищет работу. В летнее время, перед праздниками, когда какая-никакая, а работа есть, его вовсе не видно. А если и увидят его иногда на улице, тогда лишь на нем пара чистых брюк, чистые ботинки. Но кое-где лоб и кое-где щеки по обеим сторонам носа слегка подкрашены.
. Как домик Велвла-мясника. Здесь живет Азрилик-маляр. Азрилика-маляра часто видят слоняющимся по улице в кругло торчащих, цветасто-забрызганных штанах. На плече его висит стремянка. В обеих руках — ведра с кистями, с мастерками, с линейками, с торбочками краски, со скрученными трафаретами, да и вообще, чего там только нет. Таким видят Азрилика-маляра в «мертвый сезон» — в те месяцы, когда работы нет, когда он слоняется и ищет работу. В летнее время, перед праздниками, когда какая-никакая, а работа есть, его вовсе не видно. А если и увидят его иногда на улице, тогда лишь на нем пара чистых брюк, чистые ботинки. Но кое-где лоб и кое-где щеки по обеим сторонам носа слегка подкрашены.
Азрилик-маляр не маленький и не молоденький. Как раз даже большой и как раз уже в годах. Если люди называют такого не Азриэль, а уменьшительно — Азрилик, то одно из двух: или люди души в нем не чают, или это тот еще Азрилик. Здесь как раз первое, не второе. И почему, собственно, такого Азрилика-маляра не любить? Никого он не трогает, претензий ни к кому не имеет. Уходит еще год и еще год, на голове прибавляется еще несколько белых нитей, на шее и на щеках еще пара складок, еще пара борозд — та же лесенка на плече, те же ведра в руках. С хозяевами не ссорится. Хозяйкам потакает сколько душе угодно. Хотите другой рисунок, этот вам не нравится? Нате вам другой рисунок! Потолок перебелить? Вот вам потолок уже перебеленный! Лишь бы только дни и ночи благополучно уходили, лишь бы только дни и ночи благополучно ушли…
Как вроде бы назло, рядом с крошечным домиком Азрилика-маляра расстилается и ввысь и вширь домина целиком из кирпича, со стеклянной верандой, выходящей на улицу, и с густым ветвистым орехом у веранды. Стекло веранды раздвигается, и Хананья Меерсон, хоть богач он уже и разорившийся, стоит в открытой раме с красиво расчесанной, седовато-рыжей квадратной бородой, с бархатной ермолочкой на макушке, и потирает ладони. Когда-то Хананья Меерсон торговал зерном, арендовал у бояр участки леса, имел долю в гертопской спиртокурне. А сейчас, говорят люди, не имеет он ничего. Совершенно ничего. Но те же самые люди говорят и обратное тоже: имели бы м ы то, что выбрасывают еще сейчас у Хананьи Меерсона, не надо нам было бы днем и ночью пахать носом землю, терпеть обиды и унижения, чтобы увидеть наконец живой грошик в руке, тоже учили бы детей за границей и тоже имели бы девчонку-бездельницу, что сходит целый день с ума от скуки.
Правда. Два сына Хананьи Меерсона, Яша Меерсон и Миша Меерсон, учатся оба на доктора в Праге; здесь, дома, их не видно; как эта учеба на доктора достается им в Праге, знают только они. Здесь знают, однако, что Яша и Миша служили оба у румын в армии не больше двух месяцев. Служили в кавалерии, с собственными лошадьми. Через два месяца оставили лошадей в полку, стали свободными птицами и сразу уехали в Прагу учиться на доктора. Знают, однако, еще, что было это несколько лет назад.
Сейчас у Хананьи Меерсона нет ничего. Совершенно ничего. Самой старшей его, Фейге Меерсон, давно бы уже пора замуж. Но так повернулось, что она сидит в девках уже несколько лет; после окончания сорокскои гимназии целый год ходила с приехавшим в Рашков хромым дантистом, а ничего из этого не вышло. Люди говорят, что ей уже и не хочется вовсе выходить замуж. Ей сильно скучно, Фейге Меерсон. Она уже было собиралась уехать в Прагу, к братьям, и это ей тоже расхотелось. Говорит она в нос, таким прелестным прононсиком, тоже от скуки — говорят люди.
В последние дни что-то творится в пяти комнатах Хананьи Меерсона. Из Бельц съехались сюда обе замужние дочери Хананьи. Отец еще, слава богу, жив, а в доме, у круглого стола, уже делят что-то, что-то уже переписывают, уже требуют у живого отца подпись. Ох, нехорошо быть богатеем — богатеем, который уже разорился.
Возле Хананьи Меерсона в домике с двумя дверьми прямо на улицу живет Зусие-резник.
Бывает резник, что режет в удовольствие, с розовыми довольными щечками, с круглым пузиком под резницким кафтаном. Бывает резник, что уговорил себя: ладно, курица ниспослана человеку. Чем каждый бы в отдельности калечил курицу или петуха топором, или тупым ножом, делаю я один свою работу острым ножиком, таким острым, что лезвие еле видно, и курица или петух его еле чувствуют, да еще спасаюсь от этого молитвой. Зусие-резник был такой резник, каким может быть только настоящий рашковец. Он вечно ходил опечаленный, вечно ощущал себя грешным-виноватым перед живыми созданиями божьими. Могу об заклад побиться, что ночами реденькая растрепанная седая борода его вертелась на подушке то в одну сторону, то в другую сторону, не имела покоя из-за живых созданий, что мучили его во сне аж до синего рассвета. Петух со шпорами, с красным гребнем на голове, как корона, с длинным золотым пером в распушенном хвосте. Квочка с опущенными крыльями прогуливается со своими маленькими желтенькими детишками.
Зусие-резник по натуре был добрый, в жизни мухи не обидел. Он вечно сам выискивал кого-нибудь, кому нужно сделать что-нибудь доброе. Далеко бегать искать ему, понятно, не приходилось. Но я думаю, что все добро, что он вечно делал людям, было каким-то искуплением, каким-то очищением в себе виновности и грешности, которые он вечно ощущал перед простой курицей, простой уткой, или иногда-иногда, к очень-очень редкому празднику в Рашкове — перед простым индюком.
Таким мог быть только истинный рашковец.
Про два добрых дела Зусие-резника знаю я сам. В деревне вдруг умер его дальний родственник, оставил полный дом детишек — девочек. Зусие-резник тут же, на следующий же день, уехал на подводе в деревню, привез сироток к себе, отдал им вторую половину своего дома, вырастил их, вывел в люди. Одна девочка из выросших потом сестер была Фейге Шпринц, чистая, беззаветная, неповторимая Фейге Шпринц, которую я описал в моем романе «Далее…».
В сороковом году, когда Рашков стал советским и отец с мамой и с сестричками моими вернулись из Бухареста домой, а домик наш в Рашкове был сдан, Зусие-резник забрал всех моих к себе, уступил им свою постель, делил с ними свои крохи, и мой отец, помню, рассказывал потом, что часто, сидя вместе с ними за столом, Зусие-резник снова и снова переспрашивал:
— Значит, все? Кончено? Мне уже хоть сейчас, на старости, не надо будет больше резать? А, реб Ицик? Вы же должны знать…
Песнь песней улочки — простая рашковская девушка по имени Двойра. Хоть и не было Двойры дома уже несколько лет, да и сейчас пробудет она на своей рашковской улочке не больше, чем пару дней, может, ради мамы — неделю. Нет, не простая рашковская девушка.
Двойрина мама, Меня-прачка, живет сразу за резником. В таком домике, что выглядит он как разрубленный пополам. Косой скат крыши только в одну сторону, прямо как полкрыши. Между крышей и потолком — открытый чердак, даже простыми досками не заколоченный. Наружные стены домика обмазаны одной лишь глиной; соломинки золотятся на глиняных стенах, поблескивают на солнце — ну просто обсыпан кусочками золота Мени-прачки дворец.
Меня-прачка — узкоплечая худая женщина, ходит стирать по чужим домам, круглый год у нее хмурое, горестное лицо, а сейчас, в эту неделю, она — самая счастливая и самая веселая в мире. Она не знает только, можно ли миру видеть такое ее веселье и счастье, что дочка вышла на свободу и сейчас дома, или, может, лучше, чтобы мир этого не видел.
Вся улочка, все местечко говорит о Двойре. Это ж надо же! Что может рашковская девочка! Ну ладно, сидеть годами в тюрьмах тоже что-то значит. Но сделать так, чтобы король, и все министры его, и все его полки солдат испугались такой рашковской Двойры и выпустили ее из тюрьмы, это ж надо же! «Голодала сорок четыре дня? Не может такого быть. Ай, бросьте. Сказки!» — «Не говорите глупости. Все газеты об этом писали. Вся заграница шумела об этом». — «Сорок четыре дня не брать в рот ни крошки хлеба и ни капли воды? И откуда вообще в простой рашковской девочке такая сила? Бросьте, насочиняли тут. Чтобы рашковец да не загнул!»
Ничего, разумеется, не насочиняли. Просто не укладывалось в покорной голове, чтобы из такого маленького, забитого Рашкова могло подняться величие. На самом-то деле все действительно было точно так, как говорили в местечке. В тот год в женской румынской тюрьме Двойра и еще двадцать таких же, как она, девушек объявили вместе с Хаей Лившиц голодовку, продолжали голодовку сорок четыре дня и в конце концов победили. Конечно, помогло то, что заграница подняла по этому поводу шум. А еще больше то, что во многих румынских городах голодовку поддержали на фабриках и заводах, да еще и забастовали в знак поддержки. И конечно, Хая Лившиц, руководившая голодовкой, пала жертвой. Якобы не пришла уже после голодовки в себя. Но остальных девушек из той женской тюрьмы пришлось освободить. Каждую в отдельности отправили с жандармами пешком, от города к городу, от деревни к деревне, каждую туда, откуда она родом. Так и Двойра пришла на неделю домой. Дать окровавленным и распухшим ногам своим отдохнуть немного у Мени-прачки в ее «дворце».
Кого в Рашкове имя Двойра и коробило понемножку, а у кого запела Двойра в сердце, как песнь песней.
Мы с Вигдором, Нислом и Нюкой довольно долго крутились перед вечером вокруг домика Мени-прачки, не могли собраться с духом, чтобы сразу подойти к двери, нажать щеколду и войти в дом. Но в конце концов мы все же вошли. Лишних стульев в доме не было. Мы уселись все вчетвером в ряд на длинной скамье. Сидели, молчали и смотрели на Двойру. Волосы Двойрины были распущены по плечам. Замученные ноги свои она парила в тазу. Особенно красивой Двойра не была — симпатичная местечковая девушка. Но мы смотрели на нее и видели, что она самая красивая на свете, красивее и обаятельнее и представить себе невозможно. Она не сказала нам, что не от солнца она загорела — дни и месяцы в тюрьмах на нарах, в карцерах, семь недель голода сделали ее черной. Она нам не сказала, что наша дружба ей лучше вина. Мы это сами хорошо знали и чувствовали. Все четверо тихо сидели мы на длинной скамье и без слов вымолчали нашу к ней любовь, не меньше и, кажется, не хуже, чем царь Соломон Суламифи.
Рашковские умники, с шуточкой, разумеется, рассказывали о разговоре между Меней и Двойрой:
— Скажи мне, дочка, ладно, столько дней голодать для меня не ново, голодать я, слава богу, тоже умею. Но тебя же столько били, мучили, столько лет ты сидела по тюрьмам, зачем тебе это надо, чего ты хочешь этим добиться?
Отвечает Двойра Мене с улыбкой:
— Я хочу, мама, чтобы все люди были сыты. Чтобы все люди были здоровы. Чтобы у всех людей было весело на душе. Чтобы все люди могли учиться, имели работу. Чтобы все люди были добрыми и честными. Чтобы все люди были умными. Чтобы все люди были красивыми…
Меня, вздыхая, перебивает Двойру:
— Ой, доченька, хочешь ты таки очень-очень хорошо. Но слишком многого ты хочешь…
Пусть рашковские умники умничают себе на здоровье, если имеют от этого удовольствие. Мы же делаем свое. Мы меняем название улочки. Спереди, на глиняной стене Мени-прачки с золотыми блестящими соломинками, прибиваем мы такую вот новенькую длинненькую жестянку: 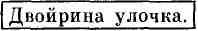
Возле Мениного домика уходит в сторону проулочек прямо к колодцу Шишмана. Шишман был караим, он уже выехал из Рашкова лет сто назад. Но колодец его, который он сам, говорят, выкопал, зовется еще и по сей день колодцем Шишмана. Два раза в день, рано утром и перед вечером, стоит у колодца народ с ведрами, с чайниками и кувшинами и вытягивает из колодца воду. Железная ручка в деревянном вороте над колодцем накручивает и раскручивает цепь с ведром на конце с ужасным визгом. На улочке, издалека, слышится этот визг: «У-у-у-а!.. У-а-у-а!..» Это такой визг, что нельзя его ни пером описать, ни кистью нарисовать — его надо слышать собственными ушами.
Потом, почти в конце улочки, внизу уже, возле аристократической синагоги, стоят еще два дома, один меньше, другой больше, опять с длинным крыльцом. В обоих домах живут опять двое портных. В меньшем доме — Зейдл Бодкес, тоже такой простой деревенский портной, как Додя Борух-Мордхэ. Но только без широких плечей Доди Борух-Мордхэ и без его громкого голоса. Наоборот: щуплый человечек с короткой седой бороденкой, с тихим и хриплым, еле слышным голосочком. Рассказать о Зейдле Бодкесе что-то кроме того, что мы уже рассказывали о Доде Борух-Мордхэ, кажется, нечего. Тоже вечно в работе, в запарке до поздней ночи, скрючен с иглой над очередной тряпкой на колене; те же тяжести и те же горести; и месяц за месяцем, и год за годом — то же самое смиренное «Быть бы живу!».
В доме побольше живет Ихил Фурман, или, как зовет его Рашков — Ихил Кире. Почему вдруг «кире», совершенно себе не представляю. Когда-то так, бывало, называли выходцев из Австрии. Но ни он и ни его предки никакого, кажется, отношения ни к Австрии и ни даже к Буковине не имели. Случается иногда, особенно в Рашкове, что к человеку приклеивают прозвище без объяснений. Возможно, потому, что этот портной, Ихил, был человек очень пунктуальный, очень педантичный, говорил спокойно, медленно, всегда ходил чисто одетым и всегда называл себя дамским портным. Возможно, выражение это — «дамский портной» — здесь, в Рашкове, отдавало комичным, чем-то немецким, попахивало «кире». Что может Рашков!
В доме у Ихила Фурмана произошло в те годы страшное несчастье. Весь Рашков заламывал руки, долгое время не мог прийти в себя. Мальчик Ихила, моего возраста, Элик Фурман, парнишка лет тринадцати, влез как-то летним днем на чердак и повесился. Никто не знал почему вдруг.
Я дружил с Эликом. Он приходил к нам домой, я приходил к ним домой. Один я кое-что знал. За несколько дней до этого Элик сказал мне: «Все равно. Так жить я не буду!» Но поди знай, что это не просто слова. Поди знай, что он возьмет и выкинет такую штуку.
Один я даже знал немножко — почему. Но это было такое почему, что я просто стеснялся об этом кому-нибудь рассказать, даже своему родному отцу. За несколько месяцев до этого Элик вдруг поймал где-то лошадь, вскочил на нее верхом; лошадь стала скакать, брыкаться, скинула с себя Элика через голову и подковой растоптала ему ниже живота нехорошее место. С Эликом тут же отправились в Сороки, порванное зашили, пару недель он пролежал в сорокской больнице, вернулся домой уже здоровым, но мы, мальчики, шушукались между собой, что Элик уже больше не мужчина и мужчиной никогда уже не будет. Он сам об этом, разумеется, не знал. Возможно, оно даже и не было так, как мы, мальчики, шушукались. Но однажды, когда Элик с кем-то подрался и расцарапал ему лицо, тот крикнул во весь голос: «Ты, кастрат! У тебя ж там ничего уже нет. Ты даже жениться не сможешь. А царапаешься, как кот!» Несколько дней Элик ходил хмурый и сказал мне потом те самые слова. Поди знай, что у тринадцатилетнего рашковского мальчика найдутся силы подняться из-за такого на чердак и наложить на себя руки. Что может рашковский мальчик!
У Элика Фурмана была тогда маленькая сестричка Басенька, девочка лет трех, с золотыми локонами, красивая, как ангелочек. В Кишиневе я часто встречаю ее сейчас. Это уже женщина около шестидесяти, а золотые поседевшие волосы ее все еще полны прелести. Она Элика и не помнит, наверно, толком. Я же — когда встречаю ее — сразу вижу его перед собой.
Бася Фурман окончила медучилище, все четыре года была на фронте, прошла войну от Рашкова до Берлина (ну-ка, еще раз, звучит, как хорошая песня: от Рашкова до Берлина!). С большой гордостью носит Бася на своем жакете с левой стороны три ряда колодок фронтовых орденов и медалей. Когда я встречаю ее, я тоже смотрю на эти три красочных ряда с гордостью: что может рашковская девочка!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Рашковской улочки больше нет. Рашковцы же еще есть. Везде. Лишь недавно отыскал я рашковца в Москве — то есть он меня отыскал.
Я получил от него длинное письмо, написанное бисерным почерком, как пишут письма рашковцы (не те рашковцы, что могут спросить: «На что это тебе?»).
Я и сам не знаю, почему мне хочется именно здесь привести несколько строк, выхваченных из этого очень человечного и очень теплого письма:
«…Я уже не юноша. Скоро, пятого апреля, стукнет мне семьдесят пять лет. Правда, я на два года моложе. Когда меня отдали в ученики к сапожнику, метрику мою пришлось переделать на чуточку постарше, такой большой я тогда был, такой богатырь. И институту здесь в Москве, где я работаю еще и сейчас профессором-консультантом, придется уже отметить мое семидесятипятилетие по той переделанной метрике — чуточку раньше».
«…Хотелось бы послать Вам что-нибудь из моих творческих трудов. У меня на сегодняшний день девять изданных книг — научные монографии, около ста пятидесяти авторских свидетельств на изобретения здесь, у нас, в Советском Союзе, и тридцать три патента за границей (есть даже несколько патентов с подписью королевы Елизаветы). Но я подумал, что все это я покажу Вам и расскажу Вам обо всем, когда мы с Вами встретимся лично. Я уверен, что Вы нередко бываете в Москве, и очень прошу Вас: позвоните, дайте знать, когда Вы приезжаете, и приезжайте, заходите ко мне».
«…Я чувствую себя перед Вами, перед бытописателем нашего когдатошнего маленького дома, Рашкова, большим должником. Я, кажется, впитал в себя вершины гор вокруг Рашкова и высокие скалы на рашковских горах точно так же, как Маяковский — возвышенные небеса своего Багдади…»
Давайте же назовем здесь полное имя, отчество и фамилию моего рашковского земляка: Давид Вениаминович Свечарник.
Если рашковцы хотят, я могу им дать его точный адрес в Москве.
Мой земляк — внук Мотеса Брохеса. Мотеса Брохеса я упоминал уже пару раз в моих «Рашковских историях».
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Сверху, как раз против улочки, поперек, стояло большое незаконченное строение из бело-серого котельца. Окна — заложены камнями, потолка и пола строение еще не имело. Внутри, в темноте, в дырах голой котельцовой кладки и в щелях стропил под жестяной кровлей обитали летучие мыши.
Почему это строение называли «банк», в Рашкове точно не знали. Возможно, кто-то и вправду начал строить здесь банк. Хотя больших дел, аж через банк, Рашков за всю свою историю не завел. Маленькой бессарабской ссудной кассы, где нуждающийся мог перехватить эту ссуду на долгое время под маленький процент, для Рашкова было препредостаточно.
Если в местечко наезжала иногда труппа, театр свой она устраивала в «банке». Отовсюду сносили стулья, из досок сколачивали кой-какую сцену, вместо декораций, — то ли это была обстановка в доме, то ли сад во дворе, или даже кладбище, в «Парне из ешибота», например — всегда были одни и те же одолженные коврики нескольких цветов. Публика на спектаклях не сидела, боже упаси, в темноте. На котельцовых стенах висело несколько керосиновых ламп, и каждая лампа светила своим обособленным светом. Над головами метались летучие мыши, они кружили, раскинув тонкие крылья, тонкие, как из одной только кожи. И при чистейшей слезе, которую публика пускала, и при заразительнейшем смехе, которым публика взрывалась, летучие мыши над головами тоненько попискивали.
В сороковом году «банк» ожил. Вставили окна и двери. Уложили пол и потолок. У стены столяры смастерили красивую обструганную сцену. В двух углах отгородили две обособленные комнатки, голые котельцовые стены — отштукатурили, побелили. Каждый вечер стали приходить сюда во всякого рода «кружки» парни и девушки. Рашковский «банк» стал называться «клубом», «домом культуры».
Я как раз был в Рашкове в тот именно летний день, когда в клубе собрались все рашковские родители. Представитель из районного отдела народного образования сообщал им со сцены, что в Рашкове открывается школа-десятилетка и кто хочет, может прямо сейчас записать своих детей. И я видел, как рашковские папы и мамы толкались вокруг стола — каждый хотел записать своего ребенка раньше другого.
Я потом снова был в Рашкове за неделю до войны. Директор школы, мой первый учитель, Пиня Резницкий, водил меня из класса в класс. Когда мы входили, младшие дети в младших классах, а старшие — в старших, как обычно, вставали. Резницкий знакомил их с «писателем, который и сам рашковец». Дети снова все сразу вскакивали, и глаза у них блестели.
На перемене я долго глядел на рашковских мальчиков и девочек, заполнивших весь школьный двор детским шумом, детским смехом, детской радостью. И у м е н я блестели глаза.
Ай, ай. Сердце разрывается, и ком становится в горле. Если бы не война! Если бы не фашистские изверги! Весь Рашков эвакуировался. Но три четверти рашковцев настигнуты были в пути, семьями погибали от рук убийц, каждая семья — своей особой дикой смертью. Где те мальчики и девочки, что так шумели, так смеялись, так радовались в ту неделю перед войной на рашковском школьном дворе?
И поэтому закончить свой рассказ я хочу пожеланием. То есть нет — проклятием: пусть эти два слова — «война» и «фашизм» — будут прокляты на веки веков!
Аминь.
Пер. Ю. Цаленко.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК