Беседа третья
Беседа третья
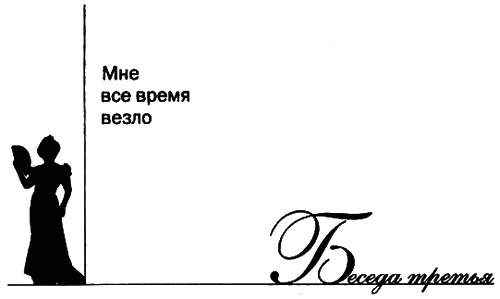
МНЕ ВСЕ ВРЕМЯ ВЕЗЛО
Сегодня утром вы занимались с Важей Чачавой. Логично начать разговор о том, что такое пианист, что делает певец сам, с чего он начинает с пианистом, что зависит от того, кто рядом, кто постоянно помогает и так далее.
 не действительно очень везло, потому что я постоянно была связана с большими музыкантами, с самого начала, как только началась моя жизнь. Сначала я училась у педагога Анны Тимофеевны Куликовой, а концертмейстеру нее была Выржиковская, потрясающая пианистка. Я еще училась в десятом классе, ходила в вечернюю музыкальную школу и занималась пением. И эта Марина Станиславовна Выржиковская как раз и учила меня музыке. Потому что она говорила, что не всё в нотах написано, многое надо расшифровать. Эти значки, конечно, записаны автором, но что за ними — надо к этому прийти самой и самой пересоздать свою музыку. Такую постановку вопроса впервые я узнала от нее. Потом я поступила в Консерваторию и попала к пианистке Мире Исаковне Рубинштейн. Очень пожилая женщина, совершенно изумительная пианистка. Она была воспитана в традиционной школе и очень внимательно следила, чтобы я никак не отходила от музыкального текста, а мне все время хотелось какой-то вольности. Я настаивала: «Вот, мне моя первая пианистка говорила, что можно отходить от текста, потому что не каждое лыко в строку пишется». Но Рубинштейн говорила, что все это глупости, что это не относится к музыке, что надо петь всё точно так, как написано. Такая постановка дела тоже дала мне очень большую школу. Я это и принимала — и не принимала: я понимала, что это необходимо, так же как необходимо сначала научиться читать, ведь только потом мы выбираем себе книжки для чтения. Есть книжки философские, есть книжки очень легкие, есть французская литература и так далее. Философские труды воспринимаем как они есть, а в романы что-то добавляем из своей фантазии. И потом я одновременно занималась с Елизаветой Митрофановной Костроминой — в оперном классе. И уж вот эта-то женщина меня все время отвлекала от музыки. Она мне все время говорила: «Лена! Ничего не написано в нотах! Ты всё должна создать сама! Ты должна все время думать о том, что ты можешь привнести в эту музыку своего, потому что, если все будут петь одно и то же, никому не интересно будет все это слушать. Все будет одинаково». И это давало мне свободу фантазий — и я ее обожала за это, потому что меня уже давно несло в какие-то заоблачные выси, за другие какие-то параллельные миры. Я ее обожала за то, что она мне давала свободу творчества. И вот эти женщины, которые со мной занимались, и определили мое отношение к нотному тексту: одна была педантка, а две другие совсем наоборот.
не действительно очень везло, потому что я постоянно была связана с большими музыкантами, с самого начала, как только началась моя жизнь. Сначала я училась у педагога Анны Тимофеевны Куликовой, а концертмейстеру нее была Выржиковская, потрясающая пианистка. Я еще училась в десятом классе, ходила в вечернюю музыкальную школу и занималась пением. И эта Марина Станиславовна Выржиковская как раз и учила меня музыке. Потому что она говорила, что не всё в нотах написано, многое надо расшифровать. Эти значки, конечно, записаны автором, но что за ними — надо к этому прийти самой и самой пересоздать свою музыку. Такую постановку вопроса впервые я узнала от нее. Потом я поступила в Консерваторию и попала к пианистке Мире Исаковне Рубинштейн. Очень пожилая женщина, совершенно изумительная пианистка. Она была воспитана в традиционной школе и очень внимательно следила, чтобы я никак не отходила от музыкального текста, а мне все время хотелось какой-то вольности. Я настаивала: «Вот, мне моя первая пианистка говорила, что можно отходить от текста, потому что не каждое лыко в строку пишется». Но Рубинштейн говорила, что все это глупости, что это не относится к музыке, что надо петь всё точно так, как написано. Такая постановка дела тоже дала мне очень большую школу. Я это и принимала — и не принимала: я понимала, что это необходимо, так же как необходимо сначала научиться читать, ведь только потом мы выбираем себе книжки для чтения. Есть книжки философские, есть книжки очень легкие, есть французская литература и так далее. Философские труды воспринимаем как они есть, а в романы что-то добавляем из своей фантазии. И потом я одновременно занималась с Елизаветой Митрофановной Костроминой — в оперном классе. И уж вот эта-то женщина меня все время отвлекала от музыки. Она мне все время говорила: «Лена! Ничего не написано в нотах! Ты всё должна создать сама! Ты должна все время думать о том, что ты можешь привнести в эту музыку своего, потому что, если все будут петь одно и то же, никому не интересно будет все это слушать. Все будет одинаково». И это давало мне свободу фантазий — и я ее обожала за это, потому что меня уже давно несло в какие-то заоблачные выси, за другие какие-то параллельные миры. Я ее обожала за то, что она мне давала свободу творчества. И вот эти женщины, которые со мной занимались, и определили мое отношение к нотному тексту: одна была педантка, а две другие совсем наоборот.
А когда вы начали заниматься с Шендеровичем?
 е помню, как это произошло, но вдруг из объятий моих консерваторских наставниц я сразу попала в объятья Шендеровича. Евгений Михайлович Шендерович, с которым я готовилась ко всем конкурсам. И это был человек совершенно фантастического дарования. Но он ужасно не любил репетировать. Он любил только музицировать на сцене. И вот здесь я упивалась импровизацией. Потому что он никогда ничего не требовал, он только хотел музыки, играть, играть, играть. И все, что он играл, было совсем не то, что мы репетировали. Ну и, конечно, я заразилась от него этой болезнью, и то же самое сейчас: когда мы занимаемся с Чачавой, он мне все время говорит: «Елена Васильевна, вы не думайте, что кому-то удастся аккомпанировать так, как я вам аккомпанирую!» — «Это почему?» — «Да потому что всё, что вы репетируете, одно, а на сцене поёте совсем другое. Я с вами уже ко всему готов». Быть свободной в музыке меня научил Шендерович: свободной в такте, свободной во фразе, свободной вдыхании. Так я все больше, больше, больше обретала понятий, что можно делать в музыке. Это все шло от моих пианистов. Потом, после Шендеровича, я попала в муштру Ерохина. Ерохин, конечно, сыграл решающую роль в моем становлении как музыканта, потому что он сам был потрясающий музыкант, потрясающий человек, потому что ему в жизни больше ничего не надо было, как сидеть за роялем, слушать музыку, делать музыку. У него даже не было консерваторского образования. Он заканчивал Консерваторию экстерном, в пожилом возрасте. Но это был музыкант с головы до ног. И он так знал музыку, так знал репертуар — феноменально! Он очень скромно жил, но какая у него была фонотека! Какие у него были ноты! И он меня заразил музыкой, собиранием нотного материала. Он всюду, куда приезжал на гастроли, где бы мы ни выступали, где бы он ни ездил с Зарой Долухановой или с Верой Давыдовой, он всюду ходил в библиотеки и всюду фотографировал ноты — то, чем я занимаюсь уже десять лет в Японии. Я перефотографировала все ноты, какие только можно. Там потрясающие библиотеки, где есть все, что есть в мире. Редко-редко случается: я что-то прошу, а у них нет. И еще Ерохин меня заразил собиранием дисков. И теперь у меня такая сумасшедшая задача: я скупаю эти диски, безумное количество музыки слушаю, часами, особенно в Японии, когда я прихожу домой и уже больше не могу говорить. Я слушаю в бессознательном состоянии, что дает мне колоссальную фантазию в мыслях. Потому что я уже ничего не соображаю, я только плыву по этой музыке, и где мне музыка помогает плыть, ту музыку я и хочу петь.
е помню, как это произошло, но вдруг из объятий моих консерваторских наставниц я сразу попала в объятья Шендеровича. Евгений Михайлович Шендерович, с которым я готовилась ко всем конкурсам. И это был человек совершенно фантастического дарования. Но он ужасно не любил репетировать. Он любил только музицировать на сцене. И вот здесь я упивалась импровизацией. Потому что он никогда ничего не требовал, он только хотел музыки, играть, играть, играть. И все, что он играл, было совсем не то, что мы репетировали. Ну и, конечно, я заразилась от него этой болезнью, и то же самое сейчас: когда мы занимаемся с Чачавой, он мне все время говорит: «Елена Васильевна, вы не думайте, что кому-то удастся аккомпанировать так, как я вам аккомпанирую!» — «Это почему?» — «Да потому что всё, что вы репетируете, одно, а на сцене поёте совсем другое. Я с вами уже ко всему готов». Быть свободной в музыке меня научил Шендерович: свободной в такте, свободной во фразе, свободной вдыхании. Так я все больше, больше, больше обретала понятий, что можно делать в музыке. Это все шло от моих пианистов. Потом, после Шендеровича, я попала в муштру Ерохина. Ерохин, конечно, сыграл решающую роль в моем становлении как музыканта, потому что он сам был потрясающий музыкант, потрясающий человек, потому что ему в жизни больше ничего не надо было, как сидеть за роялем, слушать музыку, делать музыку. У него даже не было консерваторского образования. Он заканчивал Консерваторию экстерном, в пожилом возрасте. Но это был музыкант с головы до ног. И он так знал музыку, так знал репертуар — феноменально! Он очень скромно жил, но какая у него была фонотека! Какие у него были ноты! И он меня заразил музыкой, собиранием нотного материала. Он всюду, куда приезжал на гастроли, где бы мы ни выступали, где бы он ни ездил с Зарой Долухановой или с Верой Давыдовой, он всюду ходил в библиотеки и всюду фотографировал ноты — то, чем я занимаюсь уже десять лет в Японии. Я перефотографировала все ноты, какие только можно. Там потрясающие библиотеки, где есть все, что есть в мире. Редко-редко случается: я что-то прошу, а у них нет. И еще Ерохин меня заразил собиранием дисков. И теперь у меня такая сумасшедшая задача: я скупаю эти диски, безумное количество музыки слушаю, часами, особенно в Японии, когда я прихожу домой и уже больше не могу говорить. Я слушаю в бессознательном состоянии, что дает мне колоссальную фантазию в мыслях. Потому что я уже ничего не соображаю, я только плыву по этой музыке, и где мне музыка помогает плыть, ту музыку я и хочу петь.
Значит, вы слушаете все-таки с прицелом на то, что хотели бы петь? Не просто слушаете музыку, а выбираете для себя?
 а, выбираю для себя то, что я когда-нибудь захочу спеть. Я выписываю все, чем я в этих дисках заслушалась, потом бегу в библиотеку, заказываю ноты. Когда я появляюсь в библиотеке в Токио, тамошние работники бледнеют. Я думаю, что они уже сейчас готовятся. Я уже скоро, в октябре, туда улетаю. И потом я часами стою на ксероксе, все нужное переснимаю. Сама, все сама делаю. Потом мне нужно выбрать свои тональности, для низкого голоса. Поэтому, когда я приезжаю из Японии, я уже знаю материал, потому что много слушала, у меня уже есть ноты. Потом я начинаю слушать записи с нотами. Я беру уроки у японской пианистки, я всегда с ней учу программы в Токио. И когда я приезжаю к Чачаве, я уже готова для того, чтобы начинать делать музыку. Вот такая история. С Чачавой я встретилась очень давно, и он тоже был страшный педант.
а, выбираю для себя то, что я когда-нибудь захочу спеть. Я выписываю все, чем я в этих дисках заслушалась, потом бегу в библиотеку, заказываю ноты. Когда я появляюсь в библиотеке в Токио, тамошние работники бледнеют. Я думаю, что они уже сейчас готовятся. Я уже скоро, в октябре, туда улетаю. И потом я часами стою на ксероксе, все нужное переснимаю. Сама, все сама делаю. Потом мне нужно выбрать свои тональности, для низкого голоса. Поэтому, когда я приезжаю из Японии, я уже знаю материал, потому что много слушала, у меня уже есть ноты. Потом я начинаю слушать записи с нотами. Я беру уроки у японской пианистки, я всегда с ней учу программы в Токио. И когда я приезжаю к Чачаве, я уже готова для того, чтобы начинать делать музыку. Вот такая история. С Чачавой я встретилась очень давно, и он тоже был страшный педант.
Вы его сами выбрали?
 а, мы поехали на конкурс Франсиско Виньяса. Я ехала с Сашенькой Ерохиным, а Важа Николаевич с Зурабом Соткилавой. И когда я услыхала, как он играет, я подумала: «Как бы я хотела с этим пианистом встретиться и работать!» Раньше были другие отношения между членами жюри и конкурсантами — совсем другие, — мы очень дружили, вместе ходили обедать, вечером музицировали. Однажды вечером нас пригласила к себе Кончита Бадиа, изумительная испанская певица. Она села за рояль, стала играть песни Гранадоса и петь. И вот по ее туманным глазам, по тому, как она ушла в ту жизнь, ведь Гранадос для нее писал много музыки, по истоме в ее глазах я поняла, что она была его возлюбленной. Я ее об этом спросила, а она сказала: «Только тихо, никому об этом не говори!» Но не ответила отрицательно. После этого вечера мы с ней очень подружились. Я много с ней занималась музыкой Гранадоса и потом получила золотую медаль Гранадоса за исполнение его музыки… На этом домашнем вечере, когда она пела, у нее дома были две ее дочери, пришло много музыкантов. Чачаву попросили сыграть. И он сыграл Листа. Как он играл! Когда мы вернулись в Москву, к тому времени Саша Ерохин почему-то стал невыездным. В общем, дело кончилось тем, что надо было искать пианиста. И я сказала: «Саша, в России все будем делать вместе, я буду выступать с тобой, а чтобы ездить, я попробую вызвать из Тбилиси Чачаву». Я просила госпожу Фурцеву о переводе Чачавы из Тбилиси в Москву два года! Потом, когда она меня встречала в коридорах, она мне вместо «Здрасьте» говорила: «Чачава!». Потом министром стал Демичев, с которым я подружилась, поскольку я преподавала его дочери, и он был интересный человек, очень-очень знающий и образованный. И потом еще он все чувствовал «кончиками пальцев». И тоже ему были открыты «каналы» другие. Он и сейчас много пишет книг на эту тему. Мы с ним увлекались разговорами о Блаватской и других теософах… И я долго обрабатывала и Тактакишвили, просила его отпустить Чачаву, говорила, что он будет «гордостью вашей нации, нужно, чтобы он ездил по всему свету, представлял грузинское искусство». В конце концов я его перетащила сюда, и мы стали работать.
а, мы поехали на конкурс Франсиско Виньяса. Я ехала с Сашенькой Ерохиным, а Важа Николаевич с Зурабом Соткилавой. И когда я услыхала, как он играет, я подумала: «Как бы я хотела с этим пианистом встретиться и работать!» Раньше были другие отношения между членами жюри и конкурсантами — совсем другие, — мы очень дружили, вместе ходили обедать, вечером музицировали. Однажды вечером нас пригласила к себе Кончита Бадиа, изумительная испанская певица. Она села за рояль, стала играть песни Гранадоса и петь. И вот по ее туманным глазам, по тому, как она ушла в ту жизнь, ведь Гранадос для нее писал много музыки, по истоме в ее глазах я поняла, что она была его возлюбленной. Я ее об этом спросила, а она сказала: «Только тихо, никому об этом не говори!» Но не ответила отрицательно. После этого вечера мы с ней очень подружились. Я много с ней занималась музыкой Гранадоса и потом получила золотую медаль Гранадоса за исполнение его музыки… На этом домашнем вечере, когда она пела, у нее дома были две ее дочери, пришло много музыкантов. Чачаву попросили сыграть. И он сыграл Листа. Как он играл! Когда мы вернулись в Москву, к тому времени Саша Ерохин почему-то стал невыездным. В общем, дело кончилось тем, что надо было искать пианиста. И я сказала: «Саша, в России все будем делать вместе, я буду выступать с тобой, а чтобы ездить, я попробую вызвать из Тбилиси Чачаву». Я просила госпожу Фурцеву о переводе Чачавы из Тбилиси в Москву два года! Потом, когда она меня встречала в коридорах, она мне вместо «Здрасьте» говорила: «Чачава!». Потом министром стал Демичев, с которым я подружилась, поскольку я преподавала его дочери, и он был интересный человек, очень-очень знающий и образованный. И потом еще он все чувствовал «кончиками пальцев». И тоже ему были открыты «каналы» другие. Он и сейчас много пишет книг на эту тему. Мы с ним увлекались разговорами о Блаватской и других теософах… И я долго обрабатывала и Тактакишвили, просила его отпустить Чачаву, говорила, что он будет «гордостью вашей нации, нужно, чтобы он ездил по всему свету, представлял грузинское искусство». В конце концов я его перетащила сюда, и мы стали работать.
А как же занятия с Ерохиным?
 а, это была большая неприятность, потому что я работала все время с Чачавой и разрываться было невозможно. Я ушла от Сашеньки Ерохина. Знаете, молодость — такая дурость, а потом, когда он умер, для меня это была страшная травма. У меня было такое страшное состояние, что я не могла ни есть, ни пить, ни спать. Память о нем меня все время преследовала. Он умер летом, в августе, когда никого в городе не было. Очень мало людей было на похоронах, меня не было в Москве.
а, это была большая неприятность, потому что я работала все время с Чачавой и разрываться было невозможно. Я ушла от Сашеньки Ерохина. Знаете, молодость — такая дурость, а потом, когда он умер, для меня это была страшная травма. У меня было такое страшное состояние, что я не могла ни есть, ни пить, ни спать. Память о нем меня все время преследовала. Он умер летом, в августе, когда никого в городе не было. Очень мало людей было на похоронах, меня не было в Москве.
Он был уже пожилой?
 а нет. У него случился инсульт. И меня все время преследовала мысль, что он умер от обиды. Я была в Вильнюсе на гастролях в это время, я совершенно изнемогала, потому что он меня с утра до ночи преследовал. И я пошла в церковь. Я с ним года два-три не общалась. Заказала отпевание. И на следующий день он меня отпустил. Я очень горько плакала, стояла в церкви, свечи зажигала, просила прощения, но, по-моему, он меня простил все-таки, понял, что это была молодость и глупость.
а нет. У него случился инсульт. И меня все время преследовала мысль, что он умер от обиды. Я была в Вильнюсе на гастролях в это время, я совершенно изнемогала, потому что он меня с утра до ночи преследовал. И я пошла в церковь. Я с ним года два-три не общалась. Заказала отпевание. И на следующий день он меня отпустил. Я очень горько плакала, стояла в церкви, свечи зажигала, просила прощения, но, по-моему, он меня простил все-таки, понял, что это была молодость и глупость.
А занятия с Чачавой, чем они вас обогатили?
 а, мы стали заниматься. А он, такой тихий и скромный, вдруг, когда мы занимались, превращался в вулкан! Он так кричал на меня, что я все пою приблизительно. «Как вам не стыдно? Вы такой музыкант, и вас слушает весь мир, а вы все приблизительно выучили!!!» И я сразу вспоминала мою Миру Исаковну.
а, мы стали заниматься. А он, такой тихий и скромный, вдруг, когда мы занимались, превращался в вулкан! Он так кричал на меня, что я все пою приблизительно. «Как вам не стыдно? Вы такой музыкант, и вас слушает весь мир, а вы все приблизительно выучили!!!» И я сразу вспоминала мою Миру Исаковну.
А Ерохин в этом смысле мыслил по-другому?
 рохин был очень мягкий, он меня учил работать. Когда я думала, что я уже ого-го, он мне давал произведение большей трудности, потом я это одолевала, мне казалось, что я уже выросла и стала значительной как музыкант, а потом он давал еще большей сложности произведение, и я опять понимала, что я ничего не могу. И я продвигалась по этим ступенькам разных уровней технической сложности.
рохин был очень мягкий, он меня учил работать. Когда я думала, что я уже ого-го, он мне давал произведение большей трудности, потом я это одолевала, мне казалось, что я уже выросла и стала значительной как музыкант, а потом он давал еще большей сложности произведение, и я опять понимала, что я ничего не могу. И я продвигалась по этим ступенькам разных уровней технической сложности.
А к абсолютной чистоте интонации он спокойно относился?
 н ничего не говорил, потому что я знала, что у меня есть такая проблема.
н ничего не говорил, потому что я знала, что у меня есть такая проблема.
Мне кажется, это во многом за счет очень богатого голоса.
 ет. Сначала я думала, что это потому, что я так открываю низ, а потом мне сложно перекрыть верхним резонатором, но это не так. У меня столько градаций в каждом звуке, что у меня иногда просто возникает необходимость, чтобы я была чуть-чуть не в тоне. Дело даже не в технике — это чисто эмоциональное состояние. Знаете, когда мы говорим с кем-то, и вдруг получается изнеможение такое, когда мы вроде и говорим, и тихо-тихо шепчем. И хотя я понимаю, отчего у меня это происходит, но я себя не оправдываю никак, все равно надо петь чисто, хотя эта «нечистота» происходит от моего внутреннего состояния. Или, например, когда мне нужно петь какое-то французское произведение, где мне просто хотелось сделать все до такой степени зыбко, что не могу я туда залезть с предельной чистотой, не хочу. Я понимаю, что это неправильно, и не подумайте, что это бред!
ет. Сначала я думала, что это потому, что я так открываю низ, а потом мне сложно перекрыть верхним резонатором, но это не так. У меня столько градаций в каждом звуке, что у меня иногда просто возникает необходимость, чтобы я была чуть-чуть не в тоне. Дело даже не в технике — это чисто эмоциональное состояние. Знаете, когда мы говорим с кем-то, и вдруг получается изнеможение такое, когда мы вроде и говорим, и тихо-тихо шепчем. И хотя я понимаю, отчего у меня это происходит, но я себя не оправдываю никак, все равно надо петь чисто, хотя эта «нечистота» происходит от моего внутреннего состояния. Или, например, когда мне нужно петь какое-то французское произведение, где мне просто хотелось сделать все до такой степени зыбко, что не могу я туда залезть с предельной чистотой, не хочу. Я понимаю, что это неправильно, и не подумайте, что это бред!
А что чувствуете, когда потом слушаете?
 не слушаю, но я все равно сама знаю, где что так или не так сделала. Я могу написать кондуит после каждого концерта про то, где я лишнее дыхание взяла, где я понизила, повысила, где я вступила не туда, какую ноту спела неправильно. Поэтому мне не надо читать критиков — у меня у самой абсолютный контроль, я все знаю. Это притом, что я абсолютно вольно плыву в музыкальном потоке.
не слушаю, но я все равно сама знаю, где что так или не так сделала. Я могу написать кондуит после каждого концерта про то, где я лишнее дыхание взяла, где я понизила, повысила, где я вступила не туда, какую ноту спела неправильно. Поэтому мне не надо читать критиков — у меня у самой абсолютный контроль, я все знаю. Это притом, что я абсолютно вольно плыву в музыкальном потоке.
Чему же в конечном счете учил вас Ерохин?
 рохин меня учил прежде всего преодолению трудностей, технических и эмоциональных. Он мне все время давал произведения, постепенно наращивая их по техническим, по эмоциональным параметрам. Поэтому я очень быстро карабкалась вверх. Он был как воспитатель, педагог. А с Чачавой пошел декаданс, поиски нужного состояния. Я надевала на себя какие-то особые перчатки, туники, чтобы помочь самой себе войти в нужное состояние. Он оказался очень чувственным человеком, это только кажется, что он такой сухой. Ну, в тихом омуте черти водятся! Бывали бурные взрывы, всплески эмоций, я с ним страшно ругалась, говорила, что он ничего не понимает. А он кричал: «Это вы не понимаете!» Мы страшно ругались, но безумно при этом любили друг друга и безумно друг другу доверяли. И шел отбор: эмоции выбрасывались, а зерно нашей ругани оставалось. И с Чачавой я уже никогда не хотела расстаться. Когда-то были моменты, когда мне хотелось встретиться с пианистами с какими-то, при которых я смогу быть вообще свободна. И когда Чачава стал выступать с другими певцами, я себе сказала, что, конечно, я теперь тоже вольна ему изменить. И я работала в Америке с Джоном Вустманом — выдающимся музыкантом. К тому же он такой симпатичный человечек, жизнерадостный, позитивный, в высшей степени американский. Есть запись нашего первого концерта в «Эвери Фишер Холл» — я тогда спела свою первую «Аиду» в «Метрополитен Опера», и Соломон Юрок решил срочно мне сделать концерт. Мне сшили новое платье у потрясающего Кутюрье грека Ставропулоса, у которого шили все знаменитости — и Рената Тебальди, и Ширли Верретт, купили туфли, потом невероятную, синего шелка, сумочку, потом меня водили к парикмахеру, который во время концерта сидел в гримерной и каждый волосок мне причесывал. И я себя чувствовала примадонной. И когда заиграл Вустман, мы полетели с ним «на крыльях вдохновения» куда-то в этот зал, в золотой «Эвери Фишер Холл». Я пела первый концерт после реставрации этого зала, этой душной золотой коробки. В игре Вустмана его страстный порыв был для меня безумно дорог. Потому что это был такой вдохновенный Рахманинов, весь как шквал, как Ниагарский водопад! Это был исторический концерт, было дикое слияние двух каких-то безумных существ, хотя и не обошлось без изъянов с обеих сторон.
рохин меня учил прежде всего преодолению трудностей, технических и эмоциональных. Он мне все время давал произведения, постепенно наращивая их по техническим, по эмоциональным параметрам. Поэтому я очень быстро карабкалась вверх. Он был как воспитатель, педагог. А с Чачавой пошел декаданс, поиски нужного состояния. Я надевала на себя какие-то особые перчатки, туники, чтобы помочь самой себе войти в нужное состояние. Он оказался очень чувственным человеком, это только кажется, что он такой сухой. Ну, в тихом омуте черти водятся! Бывали бурные взрывы, всплески эмоций, я с ним страшно ругалась, говорила, что он ничего не понимает. А он кричал: «Это вы не понимаете!» Мы страшно ругались, но безумно при этом любили друг друга и безумно друг другу доверяли. И шел отбор: эмоции выбрасывались, а зерно нашей ругани оставалось. И с Чачавой я уже никогда не хотела расстаться. Когда-то были моменты, когда мне хотелось встретиться с пианистами с какими-то, при которых я смогу быть вообще свободна. И когда Чачава стал выступать с другими певцами, я себе сказала, что, конечно, я теперь тоже вольна ему изменить. И я работала в Америке с Джоном Вустманом — выдающимся музыкантом. К тому же он такой симпатичный человечек, жизнерадостный, позитивный, в высшей степени американский. Есть запись нашего первого концерта в «Эвери Фишер Холл» — я тогда спела свою первую «Аиду» в «Метрополитен Опера», и Соломон Юрок решил срочно мне сделать концерт. Мне сшили новое платье у потрясающего Кутюрье грека Ставропулоса, у которого шили все знаменитости — и Рената Тебальди, и Ширли Верретт, купили туфли, потом невероятную, синего шелка, сумочку, потом меня водили к парикмахеру, который во время концерта сидел в гримерной и каждый волосок мне причесывал. И я себя чувствовала примадонной. И когда заиграл Вустман, мы полетели с ним «на крыльях вдохновения» куда-то в этот зал, в золотой «Эвери Фишер Холл». Я пела первый концерт после реставрации этого зала, этой душной золотой коробки. В игре Вустмана его страстный порыв был для меня безумно дорог. Потому что это был такой вдохновенный Рахманинов, весь как шквал, как Ниагарский водопад! Это был исторический концерт, было дикое слияние двух каких-то безумных существ, хотя и не обошлось без изъянов с обеих сторон.
Но вернемся к вашим занятиям и концертам с Чачавой…
 с Важей мы начали заниматься опять сначала. Сначала точность интонации, сначала надо четверть с точкой спеть, а потом восьмая, а потом шестнадцатая, а потом тридцать вторая, а потом еще что-то, мы занимались до седьмого пота. И он меня засушил полностью — и я его просто терпеть не могла за это! И потом, когда я приучила себя учить очень точно, тогда мы начали заниматься с Чачавой Музыкой. И вот здесь открылся талант Чачавы как музыканта. Я думаю, что, может быть, он даже этого и не знал раньше. Потому что мое и его начала вместе наслоились, сложились, одно, второе, получилось что-то такое третье, и произошло не сложение, а умножение друг на друга. А потом я стала ему изменять. Сначала я ему изменила с Вустманом в США, а сейчас у меня есть Ян Хорек в Японии, чех. Он уехал из Чехословакии очень давно, еще при советской власти, женился на японке — и там остался. Уже очень много времени там живет, прекрасно говорит по-японски, учит меня петь японские песни. И все концерты в Японии я пою с Яном Хораком.
с Важей мы начали заниматься опять сначала. Сначала точность интонации, сначала надо четверть с точкой спеть, а потом восьмая, а потом шестнадцатая, а потом тридцать вторая, а потом еще что-то, мы занимались до седьмого пота. И он меня засушил полностью — и я его просто терпеть не могла за это! И потом, когда я приучила себя учить очень точно, тогда мы начали заниматься с Чачавой Музыкой. И вот здесь открылся талант Чачавы как музыканта. Я думаю, что, может быть, он даже этого и не знал раньше. Потому что мое и его начала вместе наслоились, сложились, одно, второе, получилось что-то такое третье, и произошло не сложение, а умножение друг на друга. А потом я стала ему изменять. Сначала я ему изменила с Вустманом в США, а сейчас у меня есть Ян Хорек в Японии, чех. Он уехал из Чехословакии очень давно, еще при советской власти, женился на японке — и там остался. Уже очень много времени там живет, прекрасно говорит по-японски, учит меня петь японские песни. И все концерты в Японии я пою с Яном Хораком.
А с Хораком как вы работаете?
 н как сумасшедший любит репетировать. Я с ним так жутко устаю, что думаю: где же Чачава, с которым не надо репетировать, потому что за тридцать лет мы уже нарепетировались так, что нам уже ничего не надо! Я ему только говорю, что надо сделать здесь, что мне важно там. Мы вместе проходим только маленькими кусочками, самые сложные места для ансамбля или если мне надо что-то проверить. И тогда я не устаю перед концертами. А с Хораком по-другому, потому что я должна ему все подробно рассказать, он записывает, и на каждый концерт уходит по три-четыре репетиции. Он записывает все на магнитофон, потом говорит: «Мне вот в этом месте непонятно, мы с тобой вместе или нет». У Хорака есть одно свойство, которое мне очень нравится: Хорак говорит о том, что его партия фортепиано должна вплетаться в мой голос. И, когда я пою с Хораком, я чутко слушаю то, что он играет. А с Чачавой я сама по себе — он меня несет на волне. С Хораком я двигаюсь вместе. Потому что он мне говорит: «В этом месте посмотри, что происходит, а вот в этом месте посмотри это, здесь ты, а тут я». Вот это новое у нас, то, что я почувствовала. И теперь в Америке у меня есть пианистка Леночка Курдина. Она из Ленинграда, закончила Ленинградскую консерваторию, и уже двадцать пять лет как уехала в Америку, сейчас работает концертмейстером в «Метрополитен Опера». И вот мы с ней недавно пели концерты в Америке. Она тоже очень большой музыкант и тоже очень важную роль отводит роялю в концерте. И так, как Хорак, заставляет меня прослушивать те куски, где она играет, солирует, ведь мы с Чачулей на эту тему не разговариваем: он играет, и его несет. А Леночка мне четко говорит: «Вот ты эту нотку подожди, а это я сыграю не сразу». И она тоже разнимает всю фортепианную партию, говорит: «Я же тоже хочу внести свою лепту в твое пение, значит, я тоже должна сыграть свою партию, тоже должна выступить в этом концерте. Вот здесь мое соло, ты его послушай, не вступай». Это тоже новости были для меня, потому что мы с Важей даже не говорили на эту тему, были вещи, которые сами собой разумелись. Может быть, они мне это говорят, потому что у нас встречи такие спонтанные. Но все-таки меня это многому научило, теперь я часто слушаю Чачаву там, где я не слушала, а мне хочется иногда отвлечься, посмотреть, как он сыграет то или иное место. Когда я приехала после концертов с Курдиной из Америки, нам поначалу с Важей было трудно.
н как сумасшедший любит репетировать. Я с ним так жутко устаю, что думаю: где же Чачава, с которым не надо репетировать, потому что за тридцать лет мы уже нарепетировались так, что нам уже ничего не надо! Я ему только говорю, что надо сделать здесь, что мне важно там. Мы вместе проходим только маленькими кусочками, самые сложные места для ансамбля или если мне надо что-то проверить. И тогда я не устаю перед концертами. А с Хораком по-другому, потому что я должна ему все подробно рассказать, он записывает, и на каждый концерт уходит по три-четыре репетиции. Он записывает все на магнитофон, потом говорит: «Мне вот в этом месте непонятно, мы с тобой вместе или нет». У Хорака есть одно свойство, которое мне очень нравится: Хорак говорит о том, что его партия фортепиано должна вплетаться в мой голос. И, когда я пою с Хораком, я чутко слушаю то, что он играет. А с Чачавой я сама по себе — он меня несет на волне. С Хораком я двигаюсь вместе. Потому что он мне говорит: «В этом месте посмотри, что происходит, а вот в этом месте посмотри это, здесь ты, а тут я». Вот это новое у нас, то, что я почувствовала. И теперь в Америке у меня есть пианистка Леночка Курдина. Она из Ленинграда, закончила Ленинградскую консерваторию, и уже двадцать пять лет как уехала в Америку, сейчас работает концертмейстером в «Метрополитен Опера». И вот мы с ней недавно пели концерты в Америке. Она тоже очень большой музыкант и тоже очень важную роль отводит роялю в концерте. И так, как Хорак, заставляет меня прослушивать те куски, где она играет, солирует, ведь мы с Чачулей на эту тему не разговариваем: он играет, и его несет. А Леночка мне четко говорит: «Вот ты эту нотку подожди, а это я сыграю не сразу». И она тоже разнимает всю фортепианную партию, говорит: «Я же тоже хочу внести свою лепту в твое пение, значит, я тоже должна сыграть свою партию, тоже должна выступить в этом концерте. Вот здесь мое соло, ты его послушай, не вступай». Это тоже новости были для меня, потому что мы с Важей даже не говорили на эту тему, были вещи, которые сами собой разумелись. Может быть, они мне это говорят, потому что у нас встречи такие спонтанные. Но все-таки меня это многому научило, теперь я часто слушаю Чачаву там, где я не слушала, а мне хочется иногда отвлечься, посмотреть, как он сыграет то или иное место. Когда я приехала после концертов с Курдиной из Америки, нам поначалу с Важей было трудно.
Но потом вы заново обрели друг друга? Ведь на концерте французской музыки чувствовалось ваше небывалое единение.
 ачава — уникальный аккомпаниатор, на концертах я его не замечаю, его нет, и вместе с тем он несет меня на руках, притом туда, куда я захочу в данную секунду. Он фантастически чувствует сиюминутность, способен на самую неожиданную импровизацию. Он везде со мной, он — это я, моя тень и моя душа, моя плоть и мой дух. Это я говорю только лишь о его интуиции и даре быть вместе во всём. А сколько он знает о музыке и музыкантах, о театре и людях театра! Как знает он историю Грузии и ее культуру! Он превосходно ориентируется в литературе, читал невероятно много, великолепно знает живопись, большой знаток поэзии. И как профессионал выше всяких похвал — преподает в Консерватории, написал дивные пособия для пианистов.
ачава — уникальный аккомпаниатор, на концертах я его не замечаю, его нет, и вместе с тем он несет меня на руках, притом туда, куда я захочу в данную секунду. Он фантастически чувствует сиюминутность, способен на самую неожиданную импровизацию. Он везде со мной, он — это я, моя тень и моя душа, моя плоть и мой дух. Это я говорю только лишь о его интуиции и даре быть вместе во всём. А сколько он знает о музыке и музыкантах, о театре и людях театра! Как знает он историю Грузии и ее культуру! Он превосходно ориентируется в литературе, читал невероятно много, великолепно знает живопись, большой знаток поэзии. И как профессионал выше всяких похвал — преподает в Консерватории, написал дивные пособия для пианистов.
А кого еще из ваших партнеров-пианистов вы бы хотели вспомнить?
 ва из последних концертов — в Токио и в Мадриде — я спела с дивным пианистом Алексеем Наседкиным — я наконец-то это получила. Я попросила его аккомпанировать мне, после того как услышала, как он играет Дебюсси, и поняла, что для французской музыки это будет потрясающий партнер. И он очень хорошо играл. И я пела на pianississimo, было абсолютное доверие. У нас была только одна репетиция концерта целиком, а перед вторым концертом я брала только самые сложные кусочки из концерта, ансамбли с ним. И поэтому был очень импровизационный концерт, но ему ни о чем не надо было напоминать, он не играл, а музицировал. Это было то, что я хотела для французской музыки.
ва из последних концертов — в Токио и в Мадриде — я спела с дивным пианистом Алексеем Наседкиным — я наконец-то это получила. Я попросила его аккомпанировать мне, после того как услышала, как он играет Дебюсси, и поняла, что для французской музыки это будет потрясающий партнер. И он очень хорошо играл. И я пела на pianississimo, было абсолютное доверие. У нас была только одна репетиция концерта целиком, а перед вторым концертом я брала только самые сложные кусочки из концерта, ансамбли с ним. И поэтому был очень импровизационный концерт, но ему ни о чем не надо было напоминать, он не играл, а музицировал. Это было то, что я хотела для французской музыки.
С одной стороны — пианист в концерте, а с другой стороны, пианист-концертмейстер. Раньше учили больше не по записям, а непосредственно с пианистом. В процессе выучивания партии что такое пианист? Он может повлиять на восприятие?
 ет. Я никого никогда не слушала. И даже Ерохину, который меня всегда воспитывал, я страшно сопротивлялась. Мне все говорили: «Вот, Образцова открывает грудь, нижние ноты „вываленные“, это безобразие, она расшатает голос, и все закончится быстро!» А теперь все подражают. Я никогда не пела грудные ноты без верхнего резонатора! Никогда! Единственно, что меня однажды подкорректировал Гяуров. Когда я приехала в «Ла Скала» с Эболи, он мне сказал: «Если ты откроешь чистую грудь, то тебя сразу же освищут!» И я сначала очень боялась грудные ноты брать, а потом все-таки покрывала все это верхним резонатором, перекрывала грудные ноты — и получилось вот это красивое органное звучание. И я ему очень благодарна, потому что до Гяурова я позволяла себе открывать грудь, но открывала как краску. Ну, как можно петь цыганские романсы или русские старинные романсы без грудного резонатора? Потому что старинный русский романс всегда с легкой цыганщиной. Он все-таки вырос на этой среде.
ет. Я никого никогда не слушала. И даже Ерохину, который меня всегда воспитывал, я страшно сопротивлялась. Мне все говорили: «Вот, Образцова открывает грудь, нижние ноты „вываленные“, это безобразие, она расшатает голос, и все закончится быстро!» А теперь все подражают. Я никогда не пела грудные ноты без верхнего резонатора! Никогда! Единственно, что меня однажды подкорректировал Гяуров. Когда я приехала в «Ла Скала» с Эболи, он мне сказал: «Если ты откроешь чистую грудь, то тебя сразу же освищут!» И я сначала очень боялась грудные ноты брать, а потом все-таки покрывала все это верхним резонатором, перекрывала грудные ноты — и получилось вот это красивое органное звучание. И я ему очень благодарна, потому что до Гяурова я позволяла себе открывать грудь, но открывала как краску. Ну, как можно петь цыганские романсы или русские старинные романсы без грудного резонатора? Потому что старинный русский романс всегда с легкой цыганщиной. Он все-таки вырос на этой среде.
Но меня всегда у вас в старинных русских романсах потрясало то, что вы эту краску вносили, но она была так обыграна с точки зрения высокого аристократического вкуса, что вы ее никогда впрямую не даете. Она всегда как бы в кавычках, вроде цитатная.
 никому не разрешала влиять на себя, на мою трактовку, никого не впускала в мое «я», в мое ощущение музыки, даже когда я очень ругалась со всеми. Например, я пела Рахманинова «Отрывок из Мюссе». И вот там я делаю очень большие паузы, которые совсем не писал Рахманинов. Но я не могу отказаться от того, как я это ощущаю. Все равно там пауза. Я всегда говорю Чачаве: «Если бы был жив Рахманинов, он бы написал так, как я его прошу».
никому не разрешала влиять на себя, на мою трактовку, никого не впускала в мое «я», в мое ощущение музыки, даже когда я очень ругалась со всеми. Например, я пела Рахманинова «Отрывок из Мюссе». И вот там я делаю очень большие паузы, которые совсем не писал Рахманинов. Но я не могу отказаться от того, как я это ощущаю. Все равно там пауза. Я всегда говорю Чачаве: «Если бы был жив Рахманинов, он бы написал так, как я его прошу».
Это такой немножко шаляпинский подход. Потому что Шаляпин иногда позволял себе вольности и Рахманинову говорил: «Я спою так, как я чувствую, а не так, как ты написал».
 а, так же, как я делала со Свиридовым в свое время. Свиридов же переписал для меня всю «Отчалившую Русь». От начала до конца всю переписал. Сначала он страшно сопротивлялся и не хотел переписывать. «Я слышу тенора!» — «Да какой тенор тебе споет те тонкие вещи, которые я тебе спою?»
а, так же, как я делала со Свиридовым в свое время. Свиридов же переписал для меня всю «Отчалившую Русь». От начала до конца всю переписал. Сначала он страшно сопротивлялся и не хотел переписывать. «Я слышу тенора!» — «Да какой тенор тебе споет те тонкие вещи, которые я тебе спою?»
Вы часто вступали в спор со Свиридовым?
 омню, я спела свиридовскую «Русскую песню». И спела ее в народной манере. Он кричал: «Я этого не писал!» А я отвечала: «Ты сам не знаешь, что ты писал! Давай я тебе еще спою, а ты внимательно послушай». Он слушал — и со всем соглашался. Он на все соглашался, когда я его убеждала. А вот был один романс у Свиридова «Пели две подруги, пели две Маруси…». Я эту песню ненавидела, потому что я никак не могла уловить интонацию, чего он хочет. «Нет, не так!» — И опять заново. «Нет, не так!» Ну, часами он меня терзал с этой песней. Ну, часами! Я сказала: «Я не могу петь, я ненавижу эту песню, не буду ее петь никогда в жизни, эту твою „Марусю“!» И самое смешное, мы вышли в Петербурге на концерт, начали петь, и я опять спела так, как ему не нравилось, он остановился, выдержал паузу, и мы продолжили, при этом сердце мое упало. Я до сих пор не знаю, чего он хотел.
омню, я спела свиридовскую «Русскую песню». И спела ее в народной манере. Он кричал: «Я этого не писал!» А я отвечала: «Ты сам не знаешь, что ты писал! Давай я тебе еще спою, а ты внимательно послушай». Он слушал — и со всем соглашался. Он на все соглашался, когда я его убеждала. А вот был один романс у Свиридова «Пели две подруги, пели две Маруси…». Я эту песню ненавидела, потому что я никак не могла уловить интонацию, чего он хочет. «Нет, не так!» — И опять заново. «Нет, не так!» Ну, часами он меня терзал с этой песней. Ну, часами! Я сказала: «Я не могу петь, я ненавижу эту песню, не буду ее петь никогда в жизни, эту твою „Марусю“!» И самое смешное, мы вышли в Петербурге на концерт, начали петь, и я опять спела так, как ему не нравилось, он остановился, выдержал паузу, и мы продолжили, при этом сердце мое упало. Я до сих пор не знаю, чего он хотел.
Что дало вам исполнение музыки Свиридова как интерпретатору?
 а это нельзя ответить одним словом. Потому что петь Свиридова в народной манере нельзя. Как классический русский романс тоже нельзя. Родился новый исполнительский язык. И Свиридов мне все время говорил, объяснял, советовал, когда мы с ним работали. Я любила с ним работать, потому что Свиридов был потрясающий пианист, у него звучал рояль как орган, как громадный оркестр, я не знаю, что он делал с роялем, но у него инструмент звучал как ни у кого никогда. Когда мы приходили к нему с Важей заниматься, готовили его музыку, Свиридов вымучивал и Чачаву тоже до потери сознания. И я всегда слышала эту разницу, когда я пела со Свиридовым и когда я пела с Важей. Он играл очень хорошо, но все равно это был не Свиридов, отсутствовали какие-то вещи, которые были присущи только Георгию Васильевичу. И он, конечно, был очень большой человек.
а это нельзя ответить одним словом. Потому что петь Свиридова в народной манере нельзя. Как классический русский романс тоже нельзя. Родился новый исполнительский язык. И Свиридов мне все время говорил, объяснял, советовал, когда мы с ним работали. Я любила с ним работать, потому что Свиридов был потрясающий пианист, у него звучал рояль как орган, как громадный оркестр, я не знаю, что он делал с роялем, но у него инструмент звучал как ни у кого никогда. Когда мы приходили к нему с Важей заниматься, готовили его музыку, Свиридов вымучивал и Чачаву тоже до потери сознания. И я всегда слышала эту разницу, когда я пела со Свиридовым и когда я пела с Важей. Он играл очень хорошо, но все равно это был не Свиридов, отсутствовали какие-то вещи, которые были присущи только Георгию Васильевичу. И он, конечно, был очень большой человек.
А вы говорили со Свиридовым на общие темы?
 а, много. Он очень любил Россию, очень хорошо ее знал, он музыку очень хорошо знал, и литературу, и философию, потрясающе знал поэзию, историю России, болел душою за будущее России, всё знал наперед.
а, много. Он очень любил Россию, очень хорошо ее знал, он музыку очень хорошо знал, и литературу, и философию, потрясающе знал поэзию, историю России, болел душою за будущее России, всё знал наперед.
В «Отчалившей Руси» у вас, конечно, найден очень интересный синтез многих исполнительских направлений, и там возникает такая длящаяся истерика, страшная, как будто это шестой акт «Хованщины», когда в костер идут уже с факелами. Прямо страшно становилось.
 я ждала этого момента. Я же тогда была мощная женщина, но мне не хватало вот этой силищи, которой мне еще хотелось бы добавить туда, в бурлящий котел музыки. И в этом отношении Свиридов был сильнее меня, он был мужчина, более мощный, чем я, даже по духу. И меня не хватало для него. Я думала, кто же может быть сильнее, чем я, в этой стихии? А он был сильнее меня. Всегда был сильнее. Я всегда ему подчинялась, потому что он меня накрывал своей мощью. Знаете, о чем я говорю?
я ждала этого момента. Я же тогда была мощная женщина, но мне не хватало вот этой силищи, которой мне еще хотелось бы добавить туда, в бурлящий котел музыки. И в этом отношении Свиридов был сильнее меня, он был мужчина, более мощный, чем я, даже по духу. И меня не хватало для него. Я думала, кто же может быть сильнее, чем я, в этой стихии? А он был сильнее меня. Всегда был сильнее. Я всегда ему подчинялась, потому что он меня накрывал своей мощью. Знаете, о чем я говорю?
Да, абсолютно понимаю.
 о, что никто никогда не мог со мной сделать: ни оркестры, ни дирижеры.
о, что никто никогда не мог со мной сделать: ни оркестры, ни дирижеры.
Дирижеры тоже не могли? А Караян в «Трубадуре»?
 араян совсем другой. Караян колдун был. Он своей скрюченной рукой что-то делал, а я через эту руку входила в искореженную жизнь Азучены. Колдун. С ним возникала какая-то мистерия. Он так обволакивал этой музыкой, как будто тянул в омут, в который хотелось войти и там утонуть.
араян совсем другой. Караян колдун был. Он своей скрюченной рукой что-то делал, а я через эту руку входила в искореженную жизнь Азучены. Колдун. С ним возникала какая-то мистерия. Он так обволакивал этой музыкой, как будто тянул в омут, в который хотелось войти и там утонуть.
Елена Васильевна, я задам вам почти интимный вопрос. Вы говорите, вы в свою музыку никогда никого не пускали. Были исключения?
 думаю, союзы творятся на небесах. И творческие тоже. С Аббадо у меня было такое же слияние, духовное, можно сказать, небесное. Очень сильное. Я на Аббадо могла даже не смотреть, а я его ощущала. И он мог на меня не смотреть.
думаю, союзы творятся на небесах. И творческие тоже. С Аббадо у меня было такое же слияние, духовное, можно сказать, небесное. Очень сильное. Я на Аббадо могла даже не смотреть, а я его ощущала. И он мог на меня не смотреть.
Что же особенного было в Аббадо?
 Аббадо была осененность. Я говорила, что он «распят на музыке». И я была такая же распятая. Есть дирижеры, на которых я должна смотреть, чтобы в каких-то сложных местах быть вместе. А с Аббадо я могла петь спиной к залу, я могла уйти — и я всегда была с ним вместе. У нас был единый темпоритм. Всё было так одинаково настроено на музыку, что мне не надо ничего ни объяснять, ни рассказывать. Вот как мы с вами разговариваем, мне ничего не надо объяснять, потому что мы настроены одинаково, потому что вы чувствуете то же, что чувствую я. Многие люди в нашем разговоре половину не поймут. Так вот и с Караяном у меня случилось. Я безумно страдала всю мою жизнь, потому что, когда мы встретились с Караяном, спели «Трубадур», он мне предложил пять опер записать на диски. Но наши чиновники всё испортили! Я заболела после своего триумфального семьдесят шестого года, после того как спела все мыслимые премьеры во всех больших театрах мира, пережила потрясающий успех, спела, наконец, с Караяном, встретилась с немыслимым количеством самых великих дирижеров. У меня был кризис, настоящий нервный срыв, я все время плакала и плакала, попала в больницу. А мне нужно было ехать петь «Трубадур» на Зальцбургский фестиваль с Караяном. Так вот, наши трудящиеся, которые работали в Госконцерте, не потрудились дать телеграмму, что я заболела. Для Караяна это было за гранью понимания. И он сказал, что никогда больше с советскими певцами дел иметь не будет. И вот весь список из пяти названий пошел прахом. А в них входила даже «Тоска»! Я говорила Караяну: «Мне не спеть Тоску!» — «Нет, мы кусочками запишем, но я хочу, чтобы ты спела „Тоску“!» Странно, но я много раз в жизни возвращалась к «Тоске», потому что и Дзеффирелли тоже хотел снять фильм «Тоска» со мной, но ему денег не дали на съемки. Из-за Тоски Караян рассердился на меня — ну, никак мне эту «Тоску» было не спеть. И вот сейчас я поеду в Японию, буду петь выход Тоски, дуэт «Mario, Mario!», первое действие, хоть это спою, потому что я выучила это, когда пела «Игрока» в «Метрополитен Опера». Прежде чем выходить на «Игрока», я всегда пропевала эту сцену. И все ждали и говорили: «Вот, Образцова распевается на „Тоске“!» Это просто мне очень помогало, потому что тесситура «Игрока» очень высокая, а я приходила после «Тоски» — и мне казалось, что уже все нормально.
Аббадо была осененность. Я говорила, что он «распят на музыке». И я была такая же распятая. Есть дирижеры, на которых я должна смотреть, чтобы в каких-то сложных местах быть вместе. А с Аббадо я могла петь спиной к залу, я могла уйти — и я всегда была с ним вместе. У нас был единый темпоритм. Всё было так одинаково настроено на музыку, что мне не надо ничего ни объяснять, ни рассказывать. Вот как мы с вами разговариваем, мне ничего не надо объяснять, потому что мы настроены одинаково, потому что вы чувствуете то же, что чувствую я. Многие люди в нашем разговоре половину не поймут. Так вот и с Караяном у меня случилось. Я безумно страдала всю мою жизнь, потому что, когда мы встретились с Караяном, спели «Трубадур», он мне предложил пять опер записать на диски. Но наши чиновники всё испортили! Я заболела после своего триумфального семьдесят шестого года, после того как спела все мыслимые премьеры во всех больших театрах мира, пережила потрясающий успех, спела, наконец, с Караяном, встретилась с немыслимым количеством самых великих дирижеров. У меня был кризис, настоящий нервный срыв, я все время плакала и плакала, попала в больницу. А мне нужно было ехать петь «Трубадур» на Зальцбургский фестиваль с Караяном. Так вот, наши трудящиеся, которые работали в Госконцерте, не потрудились дать телеграмму, что я заболела. Для Караяна это было за гранью понимания. И он сказал, что никогда больше с советскими певцами дел иметь не будет. И вот весь список из пяти названий пошел прахом. А в них входила даже «Тоска»! Я говорила Караяну: «Мне не спеть Тоску!» — «Нет, мы кусочками запишем, но я хочу, чтобы ты спела „Тоску“!» Странно, но я много раз в жизни возвращалась к «Тоске», потому что и Дзеффирелли тоже хотел снять фильм «Тоска» со мной, но ему денег не дали на съемки. Из-за Тоски Караян рассердился на меня — ну, никак мне эту «Тоску» было не спеть. И вот сейчас я поеду в Японию, буду петь выход Тоски, дуэт «Mario, Mario!», первое действие, хоть это спою, потому что я выучила это, когда пела «Игрока» в «Метрополитен Опера». Прежде чем выходить на «Игрока», я всегда пропевала эту сцену. И все ждали и говорили: «Вот, Образцова распевается на „Тоске“!» Это просто мне очень помогало, потому что тесситура «Игрока» очень высокая, а я приходила после «Тоски» — и мне казалось, что уже все нормально.
Но вы с Караяном потом еще встречались?
 а. Не будь той ужасной истории, я с Караяном очень много бы сделала! Да, все-таки жизнь меня еще раз свела с Караяном, когда через много-много лет он сменил гнев на милость. Он ставил в Зальцбурге «Дон Карлоса». А я в это время писала Далилу в Париже с Доминго и Баренбоймом. Мы писали пять дней с утра до ночи. И у меня было два дня запасных, если, прослушав, найдут какие-то шероховатости. Оставили два дня на «дописки». Я пришла домой, измученная совершенно. Раздается телефонный звонок. Какой-то мужчина говорит со мной по-французски: «Я хочу, чтобы ты приехала ко мне на „Дон Карлоса“». Я, даже не спросив, кто говорит, отвечаю, что я не могу приехать. «Я пять дней пишу Далилу, еще два дня на дописки, а где это?» — «В Зальцбурге». — «А кто со мной говорит?» — «Кто-кто, Караян!» Я чуть не упала с кровати, хорошо, что я лежала! Я была потрясена, что он сам взял трубку. Я ему говорю, что не могу поехать, потому что у меня нет визы, билета, мне нужно разрешение из России, чтобы поехать. Он сказал, что опять все с начала начинается: «Или ты приезжаешь, или я больше тебя не знаю!» Я сказала: «Я приеду!» И он мне прислал свой самолет, в котором я впервые в жизни увидела журнал «Playboy», была потрясена, как такой человек, как Караян, может читать «Playboy». А там все было завалено этими «Плейбоями». Мы же ничего подобного тогда в Советском Союзе не видели!
а. Не будь той ужасной истории, я с Караяном очень много бы сделала! Да, все-таки жизнь меня еще раз свела с Караяном, когда через много-много лет он сменил гнев на милость. Он ставил в Зальцбурге «Дон Карлоса». А я в это время писала Далилу в Париже с Доминго и Баренбоймом. Мы писали пять дней с утра до ночи. И у меня было два дня запасных, если, прослушав, найдут какие-то шероховатости. Оставили два дня на «дописки». Я пришла домой, измученная совершенно. Раздается телефонный звонок. Какой-то мужчина говорит со мной по-французски: «Я хочу, чтобы ты приехала ко мне на „Дон Карлоса“». Я, даже не спросив, кто говорит, отвечаю, что я не могу приехать. «Я пять дней пишу Далилу, еще два дня на дописки, а где это?» — «В Зальцбурге». — «А кто со мной говорит?» — «Кто-кто, Караян!» Я чуть не упала с кровати, хорошо, что я лежала! Я была потрясена, что он сам взял трубку. Я ему говорю, что не могу поехать, потому что у меня нет визы, билета, мне нужно разрешение из России, чтобы поехать. Он сказал, что опять все с начала начинается: «Или ты приезжаешь, или я больше тебя не знаю!» Я сказала: «Я приеду!» И он мне прислал свой самолет, в котором я впервые в жизни увидела журнал «Playboy», была потрясена, как такой человек, как Караян, может читать «Playboy». А там все было завалено этими «Плейбоями». Мы же ничего подобного тогда в Советском Союзе не видели!
Долетели благополучно?
 полне. Приземлились в Зальцбурге. Это было очень смешно, я помню, подхожу к театру, и вдруг меня кто-то по башке клавиром ударил. Поворачиваюсь — думаю, что это вообще за фамильярность такая, — а это Караян. Он говорит: «Дура, дура! Столько лет пропало!» Потом уже я ему рассказала, из-за чего не приехала тогда, кто был виноват в недоразумении. Он страшно сожалел, что так нескладно вышло. Потому что, конечно, у нас было нечто общее, и оно нас соединяло.
полне. Приземлились в Зальцбурге. Это было очень смешно, я помню, подхожу к театру, и вдруг меня кто-то по башке клавиром ударил. Поворачиваюсь — думаю, что это вообще за фамильярность такая, — а это Караян. Он говорит: «Дура, дура! Столько лет пропало!» Потом уже я ему рассказала, из-за чего не приехала тогда, кто был виноват в недоразумении. Он страшно сожалел, что так нескладно вышло. Потому что, конечно, у нас было нечто общее, и оно нас соединяло.
Он красивых женщин любил.
 у, может быть, еще и не без этого. Потому что, я помню, после записи «Трубадура» он меня приглашал к себе в отель, готовил мне салатики, дарил мне громадные полутораметровые розы. А потом мы гастролировали с Большим театром в Японии, и я пела «Пиковую даму». Он уже был в коляске. Пришел на спектакль, сказал, что хочет слушать Образцову. За мной послали за кулисы, сказали, что меня пришел слушать Караян. Я помню, как он целовался со мной, сидя в коляске, прикрытый пледом… Он уже дирижировал только сидя, только ручками, пальчиками. Делал какие-то пассы, но оркестр его понимал, знал все его жесты.
у, может быть, еще и не без этого. Потому что, я помню, после записи «Трубадура» он меня приглашал к себе в отель, готовил мне салатики, дарил мне громадные полутораметровые розы. А потом мы гастролировали с Большим театром в Японии, и я пела «Пиковую даму». Он уже был в коляске. Пришел на спектакль, сказал, что хочет слушать Образцову. За мной послали за кулисы, сказали, что меня пришел слушать Караян. Я помню, как он целовался со мной, сидя в коляске, прикрытый пледом… Он уже дирижировал только сидя, только ручками, пальчиками. Делал какие-то пассы, но оркестр его понимал, знал все его жесты.
Но в Зальцбурге вы еще пели сольный концерт с Чачавой. Это в каком году было? Когда Образцова не могла попасть в колготки!
 то верно, я не могла надеть чулки. И, главное, это надо же было придумать, чтобы на Зальцбургский фестиваль повезти «Любовь и жизнь женщины» Шумана. Но зато ко мне пришла потрясенная Элизабет Шварцкопф и сказала: «Они не знают, что ты спела! Они не понимают, что ты сделала! Они же никогда не слышали этой музыки!» И я помню, я ее посадила за кулисами и сказала: «А теперь я спою для вас!» И спела песенку из оперетты Целлера «Мартин рудокоп» — а Шварцкопф в свое время записала ее на пластинку. И это ей тоже очень понравилось. Она всегда проявляла расположение, когда мы с ней встречались. И всегда я хотела к ней приехать позаниматься. Но опоздала…
то верно, я не могла надеть чулки. И, главное, это надо же было придумать, чтобы на Зальцбургский фестиваль повезти «Любовь и жизнь женщины» Шумана. Но зато ко мне пришла потрясенная Элизабет Шварцкопф и сказала: «Они не знают, что ты спела! Они не понимают, что ты сделала! Они же никогда не слышали этой музыки!» И я помню, я ее посадила за кулисами и сказала: «А теперь я спою для вас!» И спела песенку из оперетты Целлера «Мартин рудокоп» — а Шварцкопф в свое время записала ее на пластинку. И это ей тоже очень понравилось. Она всегда проявляла расположение, когда мы с ней встречались. И всегда я хотела к ней приехать позаниматься. Но опоздала…
А вы слышали концерты Шварцкопф живьем?
 то было в «Пикколо Скала». Элизабет Шварцкопф выходит со своей дивной улыбкой, сияющая, а под платьем — нога в гипсе. Еле доковыляла до рояля, а лицо лучезарное! Пела дивно, уносила меня вдаль, в мечты и счастье. И вдруг — Рахманинов «К детям» — на чистейшем русском языке! Никогда не забуду, что со мной творилось! Она пела, а я зарыдала. Не заплакала, а зарыдала. Какая щемящая, пронизывающая душу боль охватила мое сердце! Я подумала: я, русская, любящая Рахманинова до боли, до страсти, как я могла пройти мимо, не заметить этого шедевра в музыке!
то было в «Пикколо Скала». Элизабет Шварцкопф выходит со своей дивной улыбкой, сияющая, а под платьем — нога в гипсе. Еле доковыляла до рояля, а лицо лучезарное! Пела дивно, уносила меня вдаль, в мечты и счастье. И вдруг — Рахманинов «К детям» — на чистейшем русском языке! Никогда не забуду, что со мной творилось! Она пела, а я зарыдала. Не заплакала, а зарыдала. Какая щемящая, пронизывающая душу боль охватила мое сердце! Я подумала: я, русская, любящая Рахманинова до боли, до страсти, как я могла пройти мимо, не заметить этого шедевра в музыке!
Вы виделись с ней после концерта?
 ы сидели вместе в ресторане после концерта, и она спросила меня: «Отчего ты так плакала?» Я ответила ей: «От счастья, от любви, от боли. И еще оттого, что я, русская, к своему стыду не разглядела этого шедевра!» Мы обнимались, целовались, смотрели друг на друга любящими глазами. После этого я еще больше полюбила Шварцкопф!
ы сидели вместе в ресторане после концерта, и она спросила меня: «Отчего ты так плакала?» Я ответила ей: «От счастья, от любви, от боли. И еще оттого, что я, русская, к своему стыду не разглядела этого шедевра!» Мы обнимались, целовались, смотрели друг на друга любящими глазами. После этого я еще больше полюбила Шварцкопф!
Хотя ведь она певица другого типа, совсем противоположного.
 о в ней столько женственности, столько нежности!
о в ней столько женственности, столько нежности!
Но ведь ее главные достоинства — не голос как таковой. Они в чем-то похожи с Ниной Львовной Дорлиак.
 ожалуй. Я очень много слушала записи Шварцкопф, особенно когда готовила концерт с Альгисом, когда готовила оперетту. Шварцкопф являла чудо вкуса. Слышалось, что она всю жизнь творила в ансамбле с очень большими музыкантами.
ожалуй. Я очень много слушала записи Шварцкопф, особенно когда готовила концерт с Альгисом, когда готовила оперетту. Шварцкопф являла чудо вкуса. Слышалось, что она всю жизнь творила в ансамбле с очень большими музыкантами.
У вас возникали дружеские отношения с партнерами? Я позволю себе вспомнить слова немецкого певца Бернда Вайкля: «Да, да, Образцова гениальная. Но у нее характер, может быть, чуть-чуть мужской, с ней мужчине трудновато».
 еня всегда мужчины боялись, это правда. Но, слава Богу, находились и смелые (улыбается).
еня всегда мужчины боялись, это правда. Но, слава Богу, находились и смелые (улыбается).
Но музыка оставалась отдельно?
 ет, когда совпадали моменты влюбленности и моменты, когда я целиком и полностью включалась в роль, то для меня и музыка, и любовь были одно. И это неописуемое счастье, могу вам сказать. Это просто уводит в другие миры.
ет, когда совпадали моменты влюбленности и моменты, когда я целиком и полностью включалась в роль, то для меня и музыка, и любовь были одно. И это неописуемое счастье, могу вам сказать. Это просто уводит в другие миры.
Но перейдем непосредственно от партнерства музыкального, от пианистов, от дирижеров, к партнерству по жизни. Началась личная жизнь Образцовой. Дочь, муж, второй муж. Что это для вас значило как для художника?
 не очень трудно на этот вопрос ответить. Особенно что касается моего первого замужества. Я очень любила своего мужа, потому что это был мой первый мужчина. Семья. Я даже не думала, что рождение дочери может помешать карьере, потому что я только-только встала на ноги. Я работала в Большом театре первый сезон. Я любила, эта любовь владела мной, этот ребенок был желанный, я знала, что это такое счастье, такая радость, я даже не думала о том, как разделить любовь и музыку. Я даже и не думала, буду я это делить на какие-то клочья или нет. Это была единая волна, в моей жизни было запрограммировано так, что я хотела иметь дочь, хотела иметь ребенка, и я родила. А потом началась страшная мука, потому что я должна была ездить по всему свету и работать, мне некогда было заниматься ребенком. А я не должна была бросать ее. Я, должно быть, была очень плохая мама, потому что я ее всегда бросала на своего мужа. И муж тоже стал заниматься моими делами, я, наверное, помешала ему в его физике, потому что он был выдающихся способностей физик, математик. Я скорее не помешала, но отвлекала его от профессиональной деятельности. И у меня были дикие страдания, потому что я не могла быть с ними, потому что я все время улетала, уезжала, уходила. Когда я была дома, я тоже все время занималась музыкой, музыкой. Музыка поглощала все. И музыка увела меня от первого мужа. Я очень его уважала, хоть любовь была и меньше, чем вначале, но он был мне другом, он был моим помощником, он был человеком, достойным всяческого уважения. Но потом появился Альгис, а повенчала нас оперетта. Я спела очень много концертов с Альгисом, я пела и Вагнера, и Малера, и арии из опер мы пели, потом мы стали делать «Сельскую честь». Это был для меня трудный орешек — очень высокая тесситура и дикие страсти! И все-таки я к Альгису спокойной оставалась. Он был другом нашей семьи, улыбчивый, веселый, счастливый, радостный. Очень легкий был человек, мне казалось. Он очень хотел сделать со мной оперетту, и я очень хотела. Он мне привез какие-то ноты, и я уехала за границу на гастроли. Приезжаю, он звонит и говорит: «Я сегодня приду, мы должны репетировать! Когда мы будем репетировать?» Я спрашиваю: «А что репетировать?» — «Ну, оперетту. Ты готова? У нас через три дня концерт!» — «Альгис, что ты?!! Я же ездила на гастроли!» Мне даже и в голову не приходило, что он уже назначил концерт. Этот концерт я никогда не забуду. И Альгис пришел — и здесь дрогнуло в первый раз мое сердце. Потому что он был как маленькое обиженное дитя. «Как? Ты не учила? Ты не знаешь?» В глазах и в голосе жила такая боль, как будто бы обидели ребенка, маленького, которого нельзя обижать. И три дня, три ночи я учила. Вышла на сцену, конечно, половину не знала, половина — improvisation[8], но я помню, что зал в Консерватории стоял, ревел, кричали, орали. Что я там пела, никто не знает. Но здесь я почувствовала, что что-то случилось.
не очень трудно на этот вопрос ответить. Особенно что касается моего первого замужества. Я очень любила своего мужа, потому что это был мой первый мужчина. Семья. Я даже не думала, что рождение дочери может помешать карьере, потому что я только-только встала на ноги. Я работала в Большом театре первый сезон. Я любила, эта любовь владела мной, этот ребенок был желанный, я знала, что это такое счастье, такая радость, я даже не думала о том, как разделить любовь и музыку. Я даже и не думала, буду я это делить на какие-то клочья или нет. Это была единая волна, в моей жизни было запрограммировано так, что я хотела иметь дочь, хотела иметь ребенка, и я родила. А потом началась страшная мука, потому что я должна была ездить по всему свету и работать, мне некогда было заниматься ребенком. А я не должна была бросать ее. Я, должно быть, была очень плохая мама, потому что я ее всегда бросала на своего мужа. И муж тоже стал заниматься моими делами, я, наверное, помешала ему в его физике, потому что он был выдающихся способностей физик, математик. Я скорее не помешала, но отвлекала его от профессиональной деятельности. И у меня были дикие страдания, потому что я не могла быть с ними, потому что я все время улетала, уезжала, уходила. Когда я была дома, я тоже все время занималась музыкой, музыкой. Музыка поглощала все. И музыка увела меня от первого мужа. Я очень его уважала, хоть любовь была и меньше, чем вначале, но он был мне другом, он был моим помощником, он был человеком, достойным всяческого уважения. Но потом появился Альгис, а повенчала нас оперетта. Я спела очень много концертов с Альгисом, я пела и Вагнера, и Малера, и арии из опер мы пели, потом мы стали делать «Сельскую честь». Это был для меня трудный орешек — очень высокая тесситура и дикие страсти! И все-таки я к Альгису спокойной оставалась. Он был другом нашей семьи, улыбчивый, веселый, счастливый, радостный. Очень легкий был человек, мне казалось. Он очень хотел сделать со мной оперетту, и я очень хотела. Он мне привез какие-то ноты, и я уехала за границу на гастроли. Приезжаю, он звонит и говорит: «Я сегодня приду, мы должны репетировать! Когда мы будем репетировать?» Я спрашиваю: «А что репетировать?» — «Ну, оперетту. Ты готова? У нас через три дня концерт!» — «Альгис, что ты?!! Я же ездила на гастроли!» Мне даже и в голову не приходило, что он уже назначил концерт. Этот концерт я никогда не забуду. И Альгис пришел — и здесь дрогнуло в первый раз мое сердце. Потому что он был как маленькое обиженное дитя. «Как? Ты не учила? Ты не знаешь?» В глазах и в голосе жила такая боль, как будто бы обидели ребенка, маленького, которого нельзя обижать. И три дня, три ночи я учила. Вышла на сцену, конечно, половину не знала, половина — improvisation[8], но я помню, что зал в Консерватории стоял, ревел, кричали, орали. Что я там пела, никто не знает. Но здесь я почувствовала, что что-то случилось.
Что же, личная и творческая жизнь отдельно?
 огу сказать про нас с Альгисом: случалось, когда мы исполняли такие вещи, как, например, цикл Вагнера на слова Матильды Везендонк, что музыка рождалась на одном дыхании, мы существовали вдвоем, мы дышали вместе, я не ощущала никакой границы между нами. А вот, предположим, Малер был совсем в разных плоскостях, потому что Альгис Малера не любил, а я Малера обожаю. И я чувствую эту ужасную боль Малера, которая пронизывает меня, чувствую его страшную тоску. Когда я пою Малера, мне больно всегда, мне хочется плакать. Какую бы вещь Малера я ни пела, я чувствую эту дикую боль, раздирающую изнутри. Альгис этого не ощущал.
огу сказать про нас с Альгисом: случалось, когда мы исполняли такие вещи, как, например, цикл Вагнера на слова Матильды Везендонк, что музыка рождалась на одном дыхании, мы существовали вдвоем, мы дышали вместе, я не ощущала никакой границы между нами. А вот, предположим, Малер был совсем в разных плоскостях, потому что Альгис Малера не любил, а я Малера обожаю. И я чувствую эту ужасную боль Малера, которая пронизывает меня, чувствую его страшную тоску. Когда я пою Малера, мне больно всегда, мне хочется плакать. Какую бы вещь Малера я ни пела, я чувствую эту дикую боль, раздирающую изнутри. Альгис этого не ощущал.
А как вы взаимодействовали в «Вертере»?
 «Вертере» мы с ним тоже были вместе, потому что Альгис, несмотря на всю кажущуюся суровость своего характера, был очень лиричный человек. Он был Вертер, и он был Есенин. Он, например, каждое утро начинал с молитвы за Чайковского, Чайковского иначе, как Петр Ильич, у нас дома не звали. Альгис молился за Россию, он ведь поменял гражданство, даже перешел в другую веру, ходил в церковь, был очень набожным человеком, потрясающе знал литературу, знал историю всей царской семьи. Когда мы шли по Петербургу, в котором я родилась, он ходил и говорил: «Вот на этом балконе очень часто бывал князь такой-то, а вот в этой комнате происходили такие-то события». Я очень любила Альгиса за то, что он очень много знал. Ведь он десять лет прожил один в совершенной изоляции, он хотел быть монахом, хотел уйти в монастырь. А какой-то умный литовский монах в монастыре ему сказал, что не мы выбираем монастырь, а монастырь выбирает нас, и что ему надлежит остаться в миру… Альгис десять лет прожил совсем один и никого не допускал в свой дом, у него накопилась громадная библиотека. Он покупал прекрасные старинные книги, я очень люблю сейчас их читать, потому что они с его пометками. Альгис был высокообразованным человеком, его образование поражало. Но разговорить его было очень трудно. Альгис был необычайно скрытный. И в музыке своей тоже проявлял свою скрытность. Может быть, в «Жизели» как-то он открывался душой, «Жизель» — это одна из самых любимых его музык. А мужественность и мужская цельность проявлялись в «Спартаке», конечно. Я очень любила поздние вечера, когда он приходил домой после театра, садился тихо рядом, застывал — и мне было так приятно! Нам не надо было говорить.
«Вертере» мы с ним тоже были вместе, потому что Альгис, несмотря на всю кажущуюся суровость своего характера, был очень лиричный человек. Он был Вертер, и он был Есенин. Он, например, каждое утро начинал с молитвы за Чайковского, Чайковского иначе, как Петр Ильич, у нас дома не звали. Альгис молился за Россию, он ведь поменял гражданство, даже перешел в другую веру, ходил в церковь, был очень набожным человеком, потрясающе знал литературу, знал историю всей царской семьи. Когда мы шли по Петербургу, в котором я родилась, он ходил и говорил: «Вот на этом балконе очень часто бывал князь такой-то, а вот в этой комнате происходили такие-то события». Я очень любила Альгиса за то, что он очень много знал. Ведь он десять лет прожил один в совершенной изоляции, он хотел быть монахом, хотел уйти в монастырь. А какой-то умный литовский монах в монастыре ему сказал, что не мы выбираем монастырь, а монастырь выбирает нас, и что ему надлежит остаться в миру… Альгис десять лет прожил совсем один и никого не допускал в свой дом, у него накопилась громадная библиотека. Он покупал прекрасные старинные книги, я очень люблю сейчас их читать, потому что они с его пометками. Альгис был высокообразованным человеком, его образование поражало. Но разговорить его было очень трудно. Альгис был необычайно скрытный. И в музыке своей тоже проявлял свою скрытность. Может быть, в «Жизели» как-то он открывался душой, «Жизель» — это одна из самых любимых его музык. А мужественность и мужская цельность проявлялись в «Спартаке», конечно. Я очень любила поздние вечера, когда он приходил домой после театра, садился тихо рядом, застывал — и мне было так приятно! Нам не надо было говорить.
Елена Васильевна, а как складываются ваши взаимоотношения с дочерью?
 дочкой с самого начала у нас все складывалось очень непросто. Я безумно ее любила, и когда приезжала, мне хотелось быть как можно больше с нею, а у Славы вылезала какая-то ревность или даже жестокость по отношению ко мне. Он говорил, что завтра надо в школу — и надо идти спать. И мы не успевали с Ленкой даже разобрать чемоданы, достать подарки. И он все время как-то ее уводил от меня. Я это подспудно чувствовала, страшно переживала, по ночам плакала. Он ее держал в очень большой строгости, воспитывал жестко. Но я всегда думала, что мне нельзя Ленку перетаскивать на свою сторону, потому что папа будет плохой, а мама будет хорошая. Это нечестно по отношению к папе, который ею занимался, ее воспитывал. Я это все понимала. А по ночам очень много плакала, переживала страшно. Сначала я как-то пыталась сопротивляться, разговаривала с ним, говорила об этом, потом вообще перестала бороться. И Ленка стала папина дочка, конечно.
дочкой с самого начала у нас все складывалось очень непросто. Я безумно ее любила, и когда приезжала, мне хотелось быть как можно больше с нею, а у Славы вылезала какая-то ревность или даже жестокость по отношению ко мне. Он говорил, что завтра надо в школу — и надо идти спать. И мы не успевали с Ленкой даже разобрать чемоданы, достать подарки. И он все время как-то ее уводил от меня. Я это подспудно чувствовала, страшно переживала, по ночам плакала. Он ее держал в очень большой строгости, воспитывал жестко. Но я всегда думала, что мне нельзя Ленку перетаскивать на свою сторону, потому что папа будет плохой, а мама будет хорошая. Это нечестно по отношению к папе, который ею занимался, ее воспитывал. Я это все понимала. А по ночам очень много плакала, переживала страшно. Сначала я как-то пыталась сопротивляться, разговаривала с ним, говорила об этом, потом вообще перестала бороться. И Ленка стала папина дочка, конечно.
Но потом человек вырастает.
 потом случилась трагедия моей любви к Альгису, и я должна была уйти из семьи. Один из самых трудных моментов в моей жизни, потому что Лена ушла вместе со Славой. И прошло два, наверное, года или три, когда она вообще не хотела со мной разговаривать, чувствовала себя страшно обиженной, а я затаилась.
потом случилась трагедия моей любви к Альгису, и я должна была уйти из семьи. Один из самых трудных моментов в моей жизни, потому что Лена ушла вместе со Славой. И прошло два, наверное, года или три, когда она вообще не хотела со мной разговаривать, чувствовала себя страшно обиженной, а я затаилась.
Но потом был перелом?
 же после того, как я к ней снова пришла, напряжение не уходило, отношения еще долго сохраняли натянутость, но нас уже тянуло — ее к матери, меня к дочери.
же после того, как я к ней снова пришла, напряжение не уходило, отношения еще долго сохраняли натянутость, но нас уже тянуло — ее к матери, меня к дочери.
А у вас есть сейчас настоящие интимные отношения?
 а, сейчас мы очень дружим с Ленкой. Мы редко с ней встречаемся, но когда встречаемся, это какое-то безумное счастье. Мы все время смеемся, мы все время острим, все время рассказываем анекдоты, у нас воцаряется какое-то пиршество радости. Какое-то сумасшествие. И она часто приезжает ко мне за границу, и я к ней езжу в Испанию, она приезжает сюда в Россию. Лена живет в Барселоне. И когда нас счастье несет на своих волнах, тогда я понимаю всей душой, что у меня есть дочь. Тем более, что сейчас у нас еще необычайно нежная любовь с внуком, я обожаю совершенно своего Сашку, Сашке четырнадцать лет. Он, кажется, обойден любовью, потому что Лена его воспитывает так, как ее воспитывал отец, очень жестко. Хотя она мне говорила: «Я своего ребенка никогда не стану воспитывать так». А сейчас она повторяет ошибку своего папы. Я понимаю, что Лена боится за сына, хочет его воспитать настоящим человеком, хорошим, добрым, поэтому и перегибает палку. Но я всегда знаю: каждому своё, это ее дитя, и мать знает, что надо воспитывать по собственному разумению.
а, сейчас мы очень дружим с Ленкой. Мы редко с ней встречаемся, но когда встречаемся, это какое-то безумное счастье. Мы все время смеемся, мы все время острим, все время рассказываем анекдоты, у нас воцаряется какое-то пиршество радости. Какое-то сумасшествие. И она часто приезжает ко мне за границу, и я к ней езжу в Испанию, она приезжает сюда в Россию. Лена живет в Барселоне. И когда нас счастье несет на своих волнах, тогда я понимаю всей душой, что у меня есть дочь. Тем более, что сейчас у нас еще необычайно нежная любовь с внуком, я обожаю совершенно своего Сашку, Сашке четырнадцать лет. Он, кажется, обойден любовью, потому что Лена его воспитывает так, как ее воспитывал отец, очень жестко. Хотя она мне говорила: «Я своего ребенка никогда не стану воспитывать так». А сейчас она повторяет ошибку своего папы. Я понимаю, что Лена боится за сына, хочет его воспитать настоящим человеком, хорошим, добрым, поэтому и перегибает палку. Но я всегда знаю: каждому своё, это ее дитя, и мать знает, что надо воспитывать по собственному разумению.
Саша в Барселоне живет?
 а, в Барселоне. Лена, я думаю, и живет там из-за него, чтобы дать ему образование, чтобы он выучил язык. Он знает испанский, каталонский, английский, сейчас начинает учить французский. И по-итальянски говорит замечательно. Саша в последнее время совсем другой стал, очень раскрепостился. У него нехватка любви, ему любви не хватает, как я понимаю, как Лене в свое время. И поэтому, когда он начинает целовать мне руки, я уже совсем схожу с ума. И он доверяет мне какие-то интимные вещи свои, я его всегда подзуживала: «Как романы? Есть ли у тебя романы?» И вот в какой-то момент он мне сказал: «На эту тему я разговаривать не буду!» И я его обожаю за это. Я его спросила, кем он хочет быть. Он ответил: «Я хочу быть ветеринаром!» Потому что Лена собирает всех кошек по всей округе, бедных, несчастных, у них пять кошек и собака, они часто ходят в ветеринарную клинику, которая рядом с их домом. Он сказал: «Я обязательно буду лечить зверушек, которые мне нравятся».
а, в Барселоне. Лена, я думаю, и живет там из-за него, чтобы дать ему образование, чтобы он выучил язык. Он знает испанский, каталонский, английский, сейчас начинает учить французский. И по-итальянски говорит замечательно. Саша в последнее время совсем другой стал, очень раскрепостился. У него нехватка любви, ему любви не хватает, как я понимаю, как Лене в свое время. И поэтому, когда он начинает целовать мне руки, я уже совсем схожу с ума. И он доверяет мне какие-то интимные вещи свои, я его всегда подзуживала: «Как романы? Есть ли у тебя романы?» И вот в какой-то момент он мне сказал: «На эту тему я разговаривать не буду!» И я его обожаю за это. Я его спросила, кем он хочет быть. Он ответил: «Я хочу быть ветеринаром!» Потому что Лена собирает всех кошек по всей округе, бедных, несчастных, у них пять кошек и собака, они часто ходят в ветеринарную клинику, которая рядом с их домом. Он сказал: «Я обязательно буду лечить зверушек, которые мне нравятся».
В четырнадцать лет это серьезный выбор, это уже не семь лет, когда такие фразы произносятся спонтанно.
 у, посмотрим. В этом возрасте пока еще все открыто. А Лену я очень люблю еще и за сердобольность. Всех этих кошек она подобрала на улице, и когда она носила их в больницу, ей предлагали каждый раз усыпить животное, но она боролась за их жизнь, лечила их, мыла, стригла, делала уколы, и сама набиралась от них болячек. Но всех выходила! Все теперь жирные, чистые, счастливые, здоровые, любят ее беззаветно. Столько живых душ спасла! Умница! Восхищаюсь ее стойкостью и добрым сердцем.
у, посмотрим. В этом возрасте пока еще все открыто. А Лену я очень люблю еще и за сердобольность. Всех этих кошек она подобрала на улице, и когда она носила их в больницу, ей предлагали каждый раз усыпить животное, но она боролась за их жизнь, лечила их, мыла, стригла, делала уколы, и сама набиралась от них болячек. Но всех выходила! Все теперь жирные, чистые, счастливые, здоровые, любят ее беззаветно. Столько живых душ спасла! Умница! Восхищаюсь ее стойкостью и добрым сердцем.

АРТИСТИЗМ
Артист — понятие вполне определенное. «Ну, артистка!», — бросают иногда насмешливо в быту, и все мы знаем, что это значит: у отмеченной этим замечанием персоны особый шик, особый стиль, особая манера «подать себя». И еще невписанность в повседневный образ мышления, в трезвые нормы. Важа Чачава говорит про ансамбль исполнителей, среди которых нет настоящих артистов: «Это всё случайные люди». Потому что искусство действительно требует на свой алтарь полной самоотдачи, одержимости, бешеной страсти творчества, которой обладают только истинные артисты. Вот только непонятно, артистизм — врожденное свойство или приобретается с опытом?
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Беседа третья. О войне
Беседа третья. О войне А. К.: Помню появление в правительстве Георгия Хижи. Лидера питерской директуры. Я всегда говорил, что кадры — это конек Чубайса.Е. Г.: Да, это была его креатура. Это был как раз тот случай, когда он «угадал».А. К.: А что Хижа там натворил, в Осетии, когда
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ (МАРТ 1927 ГОДА)
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ (МАРТ 1927 ГОДА) Мать Анны приехала на несколько часов из Уппсалы, чтобы повидать дочь. Она сняла комнату в пансионате «Нюландер», на углу улиц Брахегатан и Хюмлегордсгатан.Анна с Хенриком, которому дали отпуск на полгода ( по причине «переутомления и нервной
Беседа 1
Беседа 1 Как надо исповедоваться? Ответ на это самый прямой, самый решительный: исповедуйся, словно это твой предсмертный час; исповедуйся, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступишь в вечность и станешь
Беседа 2
Беседа 2 Я говорил вам, что каждая исповедь должна быть такой, как будто это — последняя исповедь в нашей жизни, и что этой исповедью должен быть подведён последний итог, потому что всякая встреча с Господом, с живым нашим Богом — предварение последнего, окончательного,
Беседа 3
Беседа 3 Последний суд над нашей совестью принадлежит не нам, не людям, а Богу. Его слово и Его суд нам ясны в Евангелии, только редко умеем мы к нему вдумчиво и просто относиться. Если мы вчитываемся в страницы Евангелий с простотой сердца, не стараясь извлечь из них больше,
Беседа
Беседа Испытывать тревогу за Джона я начала не раньше Рождества, когда сама уже немного поуспокоилась со своей болезнью. Он сильный человек, но нельзя же держать все в себе. А он практически никогда даже не заикался о своих переживаниях.Я слышала, как он говорил:— Я даже
БЕСЕДА
БЕСЕДА Сидим на краешке земли И понемногу рассуждаем, А волны катятся вдали, Плывут куда-то корабли, А мы сидим и рассуждаем. Вы мне стремитесь доказать, Что все мои переживанья Не стоят даже одного Яйца невыеденного, но Напрасны Ваши все старанья. Вы мне твердите в сотый
«Беседа»
«Беседа» На политическом горизонте сгущались зловещие тучи. В столицу доходили тревожные вести о завоевательных замыслах Наполеона, готовившегося напасть на Россию. Его союз с Пруссией и Австрией, захват герцогства Ольденбургского, наследницей которого являлась
БЕСЕДА
БЕСЕДА Хотя в отношении внутренних репрессий в Советском Союзе при Хрущеве произошло определенное потепление, что было благоприятным изменением сравнительно с невероятно жестоким режимом Сталина, Хрущев по-прежнему воспринимался как неотесанный грубиян, снявший
Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич Беседа третья: 1965–1971. Сахалин, Курилы, Камчатка
Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич Беседа третья: 1965–1971. Сахалин, Курилы, Камчатка Как жаль, что вы не видели океана, этой дымно сгустившейся, но прозрачной мглы, медленно выкатывающейся из тумана на базальтовые углы… Ген. Прашкевич. Семь поклонов в сторону Тихого
Беседа третья
Беседа третья Алла Гербер:— А какое первое впечатление было от встречи с Глебом?Инна Чурикова:— Геннадий Александрович Беглов, второй режиссер Глеба, принес мне сценарий. «Святая душа» он тогда назывался. Спрашиваю: «Молодой хоть режиссер?» Говорит: «Молодой, молодой».