ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ»
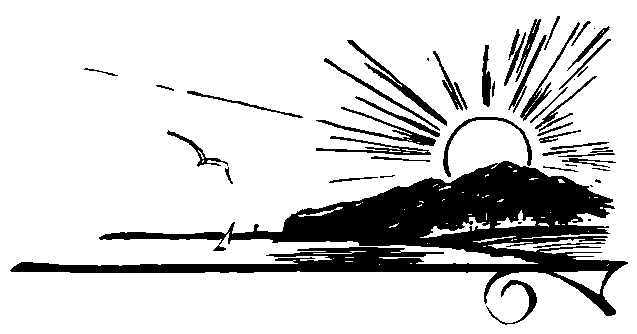
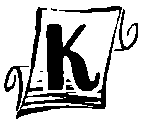 остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.
остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.
— Навряд ли выживет.
Костюшко, однако, выжил. Первые два дня он находился в обморочном состоянии, бредил, порывался вставать, говорил, что в Сехновицах ждут его жена и дети, а к утру третьего дня он осмысленными глазами поглядел вокруг и, встретившись взглядом с Немцевичем, встревоженно спросил:
— Где мы?
— Тадеуш, — обрадованно ответил Немцевич, — все хорошо, все хорошо.
— Где мы? — повторил Костюшко более настойчиво.
По тону, по огоньку в глазах понял Немцевич, что лукавить с Костюшкой нельзя.
— Тадеуш, мы в плену.
— Только мы с тобой? — быстро, не переводя дыхания, спросил Костюшко.
— Нет, Тадеуш, не только мы с тобой.
Весь этот день Костюшко лежал с закрытыми глазами, но Немцевич видел, что он не спит. Дважды заходил генерал Ферзен: постоит у кровати, покачает головой и уходит.
Под вечер Костюшко спросил:
— Много пленных?
— Больше десяти тысяч.
— Есть у нас деньги?
— Из Варшавы прислали четыре тысячи дукатов.
После длительного молчания Костюшко сказал:
— Передай деньги пленным.
— Сколько?
— Все! Все!
— Тадеуш, нам предстоит дальняя дорога.
— А им?
— Мы еще потребуем денег из Варшавы.
— Хорошо. Передай им пока две тысячи… Урсын, а Понинский тоже в плену?
— Нет, Тадеуш, он ушел до конца боя.
Их разговор прервал остановившийся на пороге русский офицер.
— Собирайтесь, господа, выступаем.
Костюшко не знал русского языка.
— Что он говорит?
— Уезжаем отсюда, — пояснил Немцевич.
— Урсын, ступай к генералу Ферзену, пусть повременит с отъездом. Скажи ему, что польское правительство обменяет нас на русских пленных.
Офицер, видимо, понял смысл предложения Костюшки.
— Не утруждайтесь, господа, генерал Ферзен уже отбыл.
Явился хирург с санитарами, Костюшко одели и на носилках вынесли во двор. Там уже ждала их повозка.
— А Немцевич? Немцевич? — взволновался Костюшко.
Из дома выбежал Фишер, без шинели, без, шапки. Он кинулся к Костюшке, обнял его, смеялся и плакал.
— Живы! Живы!
— Фишерек… Фишерек… И ты со мной.
— До згона![43]
Подошел русский офицер.
— Зачем вы, господа, прощаетесь, — сказал он укоризненно, — все едем в одну сторону.
Хирург, огромный и грузный, сначала проверил, достаточно ли сена под раненой ногой Костюшки, потом взобрался на повозку, накрыл раненого попоной и, устроившись спиной к кучеру, сказал казачьему уряднику, прискакавшему с десятком бородатых конников:
— С богом!
Выехали со двора. Был тихий вечер. Деревья простирали к небу голые ветви. Соломенные крыши крестьянских халуп были подернуты инеем. В сторону Мацеёвичей тянули вороньи стаи.
Но Костюшко всего этого не видел: он был в обмороке.
Вслед за Костюшкой выехала со двора крестьянская телега: в ней разместились Княжевич, Сераковский, Копец, Немцевич, Фишер и русский офицер.
Первый снег. Русский офицер добыл розвальни и усадил в них, кроме Костюшки с хирургом, Немцевича и Фишера.
Рана на голове затягивалась, Костюшко уже так часто не впадал в обморок, но все же чувствовал себя очень слабым. Всю дорогу он дремал.
В таком безучастном состоянии он проехал Чернигов, Могилев, Витебск, Великие Луки, Псков, Гатчину, и только 29 ноября, когда сани въехали в широкие и приземистые ворота Петропавловской крепости, Костюшко впервые за всю дорогу обратился к сопровождающему офицеру по-русски:
— Почему?
Офицера смутил этот вопрос: он также не понимал, почему генерала, взятого в плен на поле боя, везут в Петропавловскую крепость, — ведь в ней содержат только русских подданных, нарушивших законы Российской империи.
— Пути господа неисповедимы, — ответил он дипломатично.
Костюшко ответа не понял.
Костюшке показалось, что его опустили в глубокий колодец, куда ни шумы жизни, ни солнечный луч не долетают. Больная нога приковала его к койке, он лежал на спине и дни, недели видел один только потолок, мглисто-серый, который лишь к закату чуточку теплел.
Первые дни вел Костюшко внутренний спор со своим прошлым. Бесстрастно, как историк, изучал он важнейшие этапы восстания и каждый этап рассматривал с двух точек: как это событие протекало в действительности и как бы оно протекало, если б он, Костюшко, проводил в жизнь те радикальные реформы, которые сам считал нужным проводить.
Гуго Коллонтай был основательнее, чем он, подготовлен к политической деятельности, но роль Робеспьера или Марата, роли, которые Коллонтай ему навязывал, Костюшко играть не мог по своим душевным качествам.
И на кого из своих генералов мог он опираться? Почти все они были лично заинтересованы в поражении восстания, ибо победа народа лишила бы их шляхетских привилегий.
Захотят ли потомки считаться с тем, что исторические события имеют свою внутреннюю логику и что эти события в силу своей внутренней логики развиваются независимо от доброй или злой воли отдельной личности?
Костюшко был изъят из жизни, он не знал, что происходит за стенами мертвого каземата. Но ведь жизнь все же не остановилась: в Польше остался народ, осталась армия, а жестокость, с какой победители расправляются с ним, с побежденным военачальником, говорила о том, что Польша борется, что враг мстит ему, Костюшке, за какие-то свои неудачи.
Вскоре к нравственным мукам присоединились и физические. Генерал-прокурор Самойлов стал являться ежедневно, и его вопросы обижали, утомляли, изматывали. Сначала был Самойлов вежлив, предупредителен; на изысканном французском языке выражал он свое сочувствие побежденному врагу. Однако постепенно грубел его французский язык, голос делался резче, и вместо обращения «генерал» появились «главный польский бунтовщик» и «начальник бунтовщиков» — эпитеты, звучащие, как удары бича. Самойлов требовал, чтобы Костюшко «называл имена сочувствующих восстанию, требовал летопись переговоров с французскими политическими деятелями и подробной характеристики этих деятелей. А Костюшко имен не называл, характеристик не давал: он говорил о естественном праве любого народа на независимое существование, о естественном праве любого человека на свободную жизнь.
— Начальнику бунтовщиков хочется продлить свое приятное пребывание в этих уютных апартаментах.
— Такова, видно, воля божья.
— Бог не сочувствует бунтовщикам! Какую сумму внесла княгиня Чарторийская в фонд восстания?
— Не очень большую, и то не в фонд восстания, а в виде подарка лично мне.
— Какую сумму?
— Я уже сказал, не очень большую. Она подарила мне трость с золотым набалдашником.
— А госпожа Дембинская? А госпожа Коссаковская? Они также дарили вам трости?
— Увы, граф, эти дамы ограничились только цветами.
— Странно. Главный бунтовщик состояния не имел, богатые поляки жертвовали одни лишь трости да цветы, так откуда повстанцы черпали средства? Французская революция, значит, вас щедро субсидировала.
— Нет, граф, не Французская революция, а польский народ. Он воевал, он и средства давал.
— Неправда!
— Правда. И мы видели эту правду в жизни многих свободных народов, которые после длительной борьбы, после тяжелых страданий живут сегодня спокойно и счастливо, наслаждаясь плодами своего мужества.
— Опять бредни! — возмутился Самойлов. — Как может государыня проявить свое милосердие к человеку, который сам в петлю лезет!
— Вы, граф, не печальтесь за меня. Моя судьба уже давно решена. Она была решена еще до злосчастного десятого октября.
— Не понимаю.
— И не поймете, граф. Я тоже не понимаю. Бывает с человеком — он хочет сказать одно, а говорит другое. В человеке таятся какие-то силы, над которыми он не властен. А теперь, граф, прошу освободить меня от дальнейшей беседы: голова кружится.
Царица Екатерина, читая протоколы допроса, возмущалась стойкостью и умилялась наивностью «главного бунтовщика», — она прозвала его sot dans toute la valeur du terme[44].
Прошел декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ежедневные допросы ввергли Костюшко в уныние, и уныние перешло в отчаяние. Наблюдавший за ним коллежский советник Макаров докладывал генерал-прокурору Самойлову, что заключенный находится «в превеликой задумчивости» и «в грусти», что он «беспрерывно плачет», что арестант «чрезвычайно похудел и переменился», «весьма нездоров от головной боли» и «есть опасение в рассуждение его жизни».
Лейб-медик Роджерс, посетивший Костюшко, донес Екатерине: «Он столько выстрадал телом и душой, что организм его совсем подорван и вся нервная система безвозвратно расшатана. Все это предсказывает очень тяжелую будущность… Боюсь, что у него останется навсегда полная душевная прострация».
Екатерина к тому времени уже переменила мнение о «начальнике польских бунтовщиков»: из показаний Игнатия Потоцкого, Вавжицкого, Килинского, Капостаса и других она убедилась, что Костюшко est doux comme un agneau[45].
В мае 1796 года Костюшко перевели в Штейгельманов дом, а оттуда в Мраморный дворец.
Окна — без решеток, кругом — красивые вещи, заботливая услуга, но все это не радовало, а угнетало больного Костюшко: он продолжал смотреть на мир глазами человека, погруженного в глубокий колодец.
В осенний пасмурный день Костюшко проснулся от резкого стука за стеной. Он вызвал звонком лакея:
— Кто стучит?
— Идет уборка, — ответил лакей.
— Почему так рано?
— Не могу знать. Убирают не наши люди.
После обеда, когда Костюшко, лежа на диване,
трудился над карандашным рисунком Краковской рыночной площади, опять послышался шум и топот многих ног.
Распахнулась дверь. Быстрые шаги. В комнату вошел невысокий ростом военный, большеголовый, курносый, одетый в какой-то странный мундир. За ним — генералы, сановники.
— Vous ?tes libre![46] — сказал военный скороговоркой, остановившись с сомкнутыми ногами перед Костюшкой.
Костюшко хотел приподняться, но не смог: закружилась голова.
— Je voulais moi-m?me vous apporter sette bonne nouvelle[47].
Костюшко понял, что перед ним Павел, новый царь. Он заплакал и, давясь слезами, сказал:
— Сир, я болен, раздавлен. Я думаю о судьбе моей несчастной ойчизны.
— И о своем здоровье надо думать. Я твой друг, генерал. Какие у тебя желания?
— Польские пленные, сир, мои товарищи, солдаты и офицеры. Освободите их, ваше величество.
— Будут свободны. Верь моему слову.
Император ушел так же внезапно, как и появился. За ним последовала свита.
Костюшко попросил раскрыть окна. В комнату ворвался свежий, влажный ветер. Костюшко дышал глубоко, полной грудью, наслаждаясь свободой, запаха которой давно не ощущал. В темень его жизни ворвался яркий луч, и этот луч волновал, ослеплял.
Костюшко плакал, но не от счастья, а от отчаяния. Кончился кошмар, «начинается новая жизнь, а у него нет сил для этой новой жизни… И какова она, эта новая жизнь? Что сохранилось в Польше от старого и какие формы примет новое?
Продолжая оставаться в Мраморном дворце, Костюшко все же чувствовал себя свободным. Его часто навещал коллежский советник Макаров, ставший сразу сенатором и начальником Тайной экспедиции. Он рассказывал дворцовые новости, а сегодня передал Костюшке письмо от Игнатия Потоцкого. И его, Потоцкого, посетил новый царь, он сказал Потоцкому:
«Вы свободны, но обещайте мне оставаться спокойным. Я всегда был против раздела Польши, признавая его делом настолько же несправедливым, как и неполитическим. Но теперь это совершившийся факт. Для восстановления Польши необходимо содействие и согласие со стороны трех держав на возвращение отобранных частей, но представляется ли вероятным, чтобы Австрия и в особенности король прусский отдали свои доли? Не могу же я один отдать принадлежавшую мне часть и ослабить себя в то самое время, когда они усилились… Разве я один могу объявить им войну, чтобы их к тому принудить? Империя моя крайне нуждается в мире!»
В совете «оставаться спокойным» не было ничего унизительного ни для Потоцкого, ни для Костюшки, ни для чести любого патриота: ведь польскому народу волей-неволей придется «оставаться спокойным», пока не созреют силы и условия для нового восстания. Сейчас надо спасать то, что великодушие нового царя может спасти, — 12 тысяч пленных.
Но тут вмешались польские предатели. Любой подлец стремится оподлить как можно больше людей, а сановные подлецы, для которых подлость является государственным принципом, умеют придавать своим подлым деяниям видимость благородства. Император Павел хотел освободить пленных поляков без всяких оговорок, движимый лишь желанием исправить «политическую и человеческую» ошибку своей матери. Двойственность — в хорошем или дурном — была чужда характеру Павла. Но поляки Ильинский и Вьельгорский, делающие карьеру при русском дворе, желая услужить и выслужиться перед всесильным Самойловым, убеждали Костюшко, что освобождение 12 тысяч пленных зависит от согласия Костюшки принести царю верноподданническую присягу.
Костюшко не знал, что уже в прошлом году был произведен третий раздел Польши, что Россия, Австрия и Пруссия уже поделили между собой последние польские земли, что Польша как самостоятельное государство перестало существовать. Костюшко не знал, что по трактату третьего раздела полякам предоставлен свободный выбор подданства, так что нужды в «верноподданной присяге» не было.
Костюшко мучился: как это он, вождь восстания, откажется от Польши, от своего прошлого, от всего того, чем жил? Но, думал он, имеет ли он моральное право жертвовать благополучием и жизнью 12 тысяч поляков только для того, чтобы сохранить свою честь незапятнанной? Свою личную честь! Не перетянет ли на весах истории реальная ценность 12 тысяч человеческих жизней само понятие «честь»?
Костюшко вспомнил: а ведь и от верноподданнической присяги можно освободиться, когда эта присяга становится обременительной для чести! Именно так он, Костюшко, поступил, когда честь не позволила ему служить своему королю.
И Костюшко, не зная подлой игры вокруг его имени, согласился принести верноподданную присягу, и эту присягу принял от него тарговичанин Вьельгорский.
Одну лишь утеху обрел Костюшко в эти горестные дни: Немцевич опять с ним! Он явился рано утром: объятия, слезы. Они смотрели друг другу в лицо, искали знакомые черты, знакомые приметы — тщетно: оба они не были похожи на тех, которые расстались всего два года тому назад в кордегардии Петропавловской крепости.
Когда немного успокоились, Немцевич рассказал:
— Слово «Польша» исчезло с географических карт. Польский народ, народ, который в тяжелых боях с сильными соседями построил свое государство почти девять веков тому назад, лишился этой государственности только потому, что поляки больше интересовались местными, областными делами, чем общегосударственными…
Сердце Костюшки так изболелось, что для нового горя там просто уже места не было. Кроме того, Костюшко и до сообщения Немцевича догадывался, что Польша удушена: генерал-прокурор Самойлов был приторно любезен и изъяснялся на слишком изысканном французском языке.
— Где Гуго Коллонтай?
— В австрийской тюрьме.
Костюшко уронил голову на грудь.
— Поеду в Новый Свет, в чужую ойчизну, которая меня примет. Там буду я просить бога, дабы он даровал Польше твердых и добрых правителей, дабы он даровал независимость нашему народу и чтобы народ наш стал просвещенным и свободным. И ты, Урсын, поедешь со мной. Ты у меня один остался, и ты меня не оставишь.
Ильинский и Вьельгорский были щедро награждены Самойловым, а присяга горько отразилась на душевном состоянии Костюшки, она угнетала его чистую, благородную душу.
С императором Павлом Костюшко прощался сдержанно, с внутренним возмущением, полагая, что его личная свобода и свобода 12 тысяч пленных куплены слишком дорогой ценой. Костюшко и не подозревал, что в его злоключениях меньше всего виноват Павел, который приветил его в дни горя и по-царски одарил на прощание: соболью шубу, карету с лошадьми, походную кухню, столовое белье и тысячу крестьянских душ. Правда, душ Костюшко не принял, вместо душ ему выдали 12 тысяч рублей. Дешевые были крестьянские души в России!
19 декабря 1796 года Костюшко выехал из Петербурга вместе с Немцевичем. Перед выездом Костюшко написал сестре:
«Позволь мне, моя сестра, обнять тебя, возможно, в последний раз… Хотел бы, чтобы ты знала мою волю, что отдаю тебе имение Сехновицы, а ты имеешь право отписать его одному из твоих сыновей или всем, однако под условием: чтобы хозяева во всей деревне с каждого дома не работали больше двух дней на панщине, а женщины вовсе не работали. В иной стране, где государство обеспечило бы мою волю, я бы вовсе освободил бы их от крепостной зависимости, но в Польше надо делать только то, что действительно облегчает немного судьбу людей, и на до всегда помнить, что все мы по природе равны, что только богатство и образование вносят какую-то разницу, что мы обязаны заботиться о бедных и просвещать темных…»
Путь в Америку лежал через Финляндию, Швецию, Англию, и всюду, где появлялся Костюшко, его встречали как борца за независимость своего народа. В его лице финны, шведы и англичане отдавали дань уважения покоренной, но непреклонной доблести.
Это всеобщее сочувствие трогало и поддерживало Костюшко. Скромный и застенчивый, он уклонялся от парадных приемов, но охотно появлялся в своей черной головной повязке среди простого люда в Або, в Стокгольме, в Бристоле и Лондоне.
12 августа 1797 года Костюшко и Немцевич прибыли в Филадельфию. Город, в который двадцать один год тому назад Костюшко приехал скромным капитаном, встретил его сегодня пушечным салютом, почетным караулом и ликующим «ура!» многотысячной толпы. Вашингтон прислал письмо:
«…Никто не питает большего почтения и большего уважения к Вашей особе, чем я, и никто искренней, чем я, не желал, чтобы трудная борьба за свободу Вашей отчизны закончилась бы успехом…»
Костюшко вернулся в свое прошлое: он опять почувствовал себя капитаном, готовым вступить в армию «бунтовщиков». Но вскоре убедился Костюшко, что Америка уже не та, какой он ее знал. Почти все, с кем он боролся в прошлом за свободу, сдали в ломбард благородные идеалы своей юности. Революционные лозунги заменены пошлым призывом: «Делай доллары!» Негры, которые кровью добывали свободу и независимость, остались рабами даже в имениях Вашингтона. Орден Цинцинатов превратился в собрание консервативных аристократов.
С одним только Томасом Джефферсоном Костюшко чувствовал себя в Америке времен гражданской войны. Джефферсон, который когда-то писал генералу Гэтсу: «Костюшко — это наичистейший сын свободы, какого я когда-либо видел, и то той свободы, которая включает всех, не только горсточку избранных или богатых», — этот Джефферсон дружески, любовно указывал Костюшке на его ошибки и вдохновлял к дальнейшей борьбе.
А в Польше уже завязывались первые бои. Реакционный публицист Козьмян писал: «С известной точки зрения нам живется лучше, чем во время Речи Посполитой; мы в значительной мере сохранили то, что дала нам родина. Теперь нам не приходится бояться уманьской резни; хотя Польши нет, мы живем в Польше». Но Козьмян лгал: Польша была, и были в ней силы, готовые в бой за освобождение, были силы в самой Польше и за ее пределами. В Польше развернули подпольную работу бывшие члены Четырехлетнего сейма, за пределами Польши — многочисленные эмигранты. Центром эмиграции стал Париж.
В марте 1798 года Костюшко получил письмо из Парижа от бывших участников восстания. Они организовали «Польскую депутацию», ее цель — освобождение Родины. Но в депутации, писали авторы письма, возникли раздоры между умеренными и радикалами — повторение борьбы в Лейпцигском эмигрантском центре. Уладить эти раздоры, по мнению авторов письма, мог только Костюшко, человек его славы, человек его опыта, его политического такта.
Эмигранты еще писали, что центр тяжести европейской политики переместился во Францию, что на историческую арену выступил генерал Наполеон Бонапарт и что с его победоносным именем эмиграция увязывает надежды на освобождение.
Получил Костюшко письмо и от генерала Яна Генриха Домбровского. Не щадя розовой краски, Домбровский описывал энтузиазм, охвативший поляков при известии о том, что Наполеон Бонапарт разрешил организовать польские легионы.
Мог ли Костюшко остаться в стороне от этого святого дела? Мог ли он отсиживаться в торгашеской Америке, когда его соратники идут в бой за свободу и независимость родины? Но… присяга, то проклятие, которое камнем лежит на сердце! Как быть? Ведь он обязался стать верноподданным русского царя!
«Поступлю так, как поступил когда-то со своим королем, — решил Костюшко. — Верну царю и подарки и присягу».
Деньги у Костюшки появились: американский конгресс выплатил ему 12 тысяч долларов и передал ему в собственность 500 акров пахотной земли в штате Огайо. Эту землю он поручил Томасу Джефферсону продать и вырученные деньги употребить на выкуп негритянских детей и на их обучение ремеслу, дабы они стали «защитниками своей свободы и своей родины».
Костюшко помолодел, даже нога перестала беспокоить. В кармане паспорт на имя Томаса Канберга. Костюшко уже видит себя в кругу друзей, соратников, он уже видит себя в лесу под Краковом, в том лесу, откуда он начал поход за освобождение отчизны.
Но вот беда: Немцевич сам ехать не желает и его отговаривает! Неужели Урсын не понимает, что наступили исторические сроки? А возможно, понимает, но не хочет уехать из Америки? Приворожили его лукавые глазки Жермены Кейн!
Костюшко уехал без Немцевича и уже 14 июля был в Париже.
В первую очередь надо сбросить камень с сердца, очиститься от проклятой присяги. Через графа Разумовского, русского посла в Вене, Костюшко передал на имя царя Павла 12 тысяч рублей при письме:
«Париж, 4 августа 1798 г.
Ваше Величество. Пользуюсь первыми минутами свободы, которую я вкушаю под охраной законов величайшей и великодушнейшей нации в мире, чтобы возвратить Вам подарок, который мнимая доброта Ваша и вероломное поведение Ваших министров заставили меня принять. Будьте уверены, Ваше Величество, что я согласился на это единственно из глубокой привязанности к моим соотечественникам, к товарищам моим по несчастью и в надежде, что мне удастся, быть может, еще послужить моей родине. Да, с удовольствием говорю и повторяю Вам, государь, мне показалось, что Вы были тронуты моим отчаянным положением, но министры Ваши и их прислужники поступили со мной совершенно противно Вашему желанию; поэтому если бы они посмели приписать лично моей воле тот поступок, который они вынудили меня сделать, то я обнаружу перед Вами и перед всеми людьми, дорожащими честью, их насилье, жестокость и коварство…»
Заносчивый тон письма и жесткие слова были отнюдь не в характере Костюшки. Возможно, его рукой водил гнев, рожденный присягой, возможно, прав польский историк Скалковский: он предполагает, что дерзкий тон был внушен Костюшке членом Директории Ляревельер-Лепо, ибо форма письма «соответствовала принципам революции, стремившейся унизить тиранов, но противоречила элементарным расчетам политических вероятностей».
Сразу сказался необузданный, деспотический характер Павла I. Он, по чьему слову фельдъегерская тройка увозит в Сибирь министров, по чьему слову маршируют в Сибирь целые роты солдат за недостаточно ярко начищенные пуговицы, должен выслушивать упреки от какого-то Костюшки!
Павел «с неудовольствием» отослал Разумовскому письмо Костюшки и деньги: «Каким вы хотите способом возвратите ему письмо, дав знать, что я от изменников ничего не принимаю».
Но это показалось Павлу недостаточным: поймать злодея, уничтожить! В рескрипте на имя графа Разумовского он пишет: «На случай, если известный Костюшко пойман будет на границах австрийской монархии или там, где войска союзника нашего императора римского будут оставаться, мы поручаем вам требовать у австрийского министерства, чтобы он выдан был для препровождения в границы наши, как нарушитель присяги, учиненной им на верное нам подданство».
Полицейские меры были приняты и в России. Российский посланник в Берлине, граф Н. П. Панин, послал рижскому военному губернатору Бенкендорфу «довольно похожий на Костюшко эстамп, по которому скорее можно узнать его, если он появится». С этого эстампа были сняты сотни копий.
Поскакали курьеры, посылались отношения, объявления, циркуляры генерал-прокурора Лопухина, лифляндского губернатора Рихтера, начальника литовской инспекции Ласси, управляющего литовской губернией Репнина, воейного губернатора Каменец-Подольска графа Гудовича. В этих отношениях, объявлениях, циркулярах предписывалось «ловить Костюшко», когда он появится в пределах России, и представлять жителям «в омерзительном и гнусном виде клятвопреступный поступок их бывшего вождя».
Началась охота. Усердные чиновники, прельщенные Репниным «особым воздаянием», поймали несколько десятков «Костюшек», которые даже под кнутом не признавали себя Костюшками, а один из двойников, изловленный в местечке Борунах Ошмянского уезда, оказался так похожим на «оригинал», что его, мужичка, прямо с базара под усиленным конвоем препроводили в Петербург и водворили в Петропавловскую крепость — в ту же камеру, где сидел Тадеуш Костюшко.
К Костюшке явился гонец от генерала Домбровского, командующего польскими легионами, — к тому времени уже было их два, 7 тысяч сабель, и формировался третий. От своего имени и от имени эмигрантов Домбровский просил Костюшко принять командование над польскими вооруженными силами.
Предложение Домбровского взволновало, но не обрадовало Костюшко — он не забыл не только того, что пережил, но и того, что передумал в затхлой камере Петропавловской крепости. 7 тысяч сабель! С этой горстью можно начать, но ведь эти 7 тысяч солдат подчинены чужой, французской воле, и где гарантия, что кровь этих солдат будет пролита за Польшу? И сила ли в одних солдатах? Польше нужны союзники — союзники, которые могли бы противостоять мощным соседям. А этим союзником должна стать Франция. Перед ним, перед Тадеушем Костюшкой, стоит более сложная задача: привлечь Францию к польскому делу. В сегодняшней Франции первое лицо — Наполеон Бонапарт, и для того, чтобы достойно трактовать с Наполеоном, надо говорить с ним как представитель польского народа, а не как подчиненный ему командующий польскими легионами.
Костюшко отказался от высокой чести. Домбровскому он написал:
«Ты, генерал, объедини свои усилия с усилиями своих коллег, чтобы согласие, единение и истинные республиканские принципы царили в легионах…»
И потребовал приведения легионеров к присяге «в ненависти королям и аристократии, верности принципам Французской революции и вечным принципам свободы и равенства».
В нем проснулся молодой Костюшко — тот, который мечтал о коринфянине Тимолеоне, но этот «помолодевший» Костюшко обладал горьким опытом восстания 94-го года. Домбровский и его легионеры верили, что, сражаясь под французским знаменем, они сражаются за свою родину, за ее свободу. Из далекой Франции, из далекой Италии они перекликались со своими сородичами в Польше: они их ободряли, внушали им надежду на скорое освобождение, и песня легионеров, в которой, словно клятва, звучали слова:
Еще Польша не погибла.
Пока мы живы, —
стала впоследствии национальным гимном.
А Костюшко сомневался в искренности тех, что управляли тогдашней Францией, он сомневался в том, что польская кровь прольется за польскую свободу. Доверие польской эмиграции, доверие польского народа побуждали Костюшко с особенной осторожностью относиться к туманным обещаниям Франции, и он, Костюшко, упорно искал пути, по которому польские легионы могли бы проникнуть в Польшу и там, на родине, воевать под собственным, национальным знаменем.
Об этом он вел переговоры с французским правительством.
Шло время. Костюшко видел, как Наполеон шагает через горы трупов. Костюшко понял, что для Наполеона лозунги Французской революции только ступеньки к королевскому трону. Костюшке, поборнику «республиканских принципов и добродетелей», стал неприятен, враждебен человек, который пользуется властью, врученной ему народом, для осуществления своих честолюбивых замыслов.
И политическое чутье не обмануло Костюшко. Хотя консул Наполеон пел дифирамбы генералу Домбровскому и писал ему:
«Скажите своим доблестным соратникам, что они всегда у меня на уме, что я рассчитываю на них, ценю их самопожертвование на пользу защищаемого нами дела и всегда буду их другом и товарищем…»
Но когда это было ему выгодно, он подписал в 1801 году Люневильский мир , вынесший смертный приговор польским легионам. Легионы были переформированы: два из них Наполеон передал итальянцам, а личный состав третьего, Дунайского, Наполеон включил во французскую армию. Польские легионы перестали существовать.
Хотя консул Наполеон сам искал связи с Костюшкой, однако увиливал от конкретных переговоров, не желая брать на себя никаких обязательств по отношению к Польше.
Эти неудачи сломили Костюшко, он сразу почувствовал себя немощным стариком: возобновились головные боли, изнуряла бессонница, на свежем воздухе не хватало воздуха для легких. Он переехал в Бервиль, близ Фонтенбло, в усадьбу своего друга, швейцарца Цельтнера, — он ушел в добровольное изгнание, не чувствуя себя в силах поспевать за скачками истории. Ни победа Наполеона при Иене, ни занятие им Берлина, ни движение французов к Висле, ни настойчивые просьбы эмигрантов не смогли вывести Костюшко из его пасмурного состояния. Его обижали, его возмущали высокомерные высказывания Наполеона: в прокламации к полякам (1806 г.) было сказано, что Наполеон хочет убедиться, «заслуживают ли поляки быть независимым народом».
Костюшко ушел в тень, но, устранившись от активного участия в жизни, он продолжал работать над общественными проблемами. Слабый, немощный, он допоздна сидел за письменным столом: писал статьи, письма. Князю Адаму Чарторийскому он доказывал необходимость улучшения положения крестьян и уничтожения панщизны, «так милой помещику и так ненавистной хлопу».
В большой статье он предостерегал, как бы у поляков вследствие потери государственности не выработалась «раболепная душа», как бы не появилось поколение «всезнаек», которое, «разжигая страсти, само ничего не творит». В этой статье Костюшко убеждал, что свобода — «сладчайшее добро, которым человек может насладиться на земле», что «свободу надо ставить превыше всего — ей надо служить грудью и помыслами».
В другой статье он писал:
«И из малого может родиться великое. Ведь всего трое крестьян — Вальтер Фюрст, Вернер Штауфехер и Арнольд из Мельхтале — основали в XIV веке «Союз освобождения», который в конечном счете привел к освобождению Швейцарии от австрийского ига. Напомню вам еще, что американские революционеры не имели за собой и четвертой части населения, а их идеи, их чистые помыслы, великие слова «свобода и равенство» увлекли за собой весь народ.
Только народ решает судьбу своей родины. Армия французов, когда она стала действительно народной армией, оказавшись без офицеров, ибо все они почти эмигрировали, вот эта народная армия, окрыленная величием лозунгов революции, не только выгнала неприятеля из своей страны, но сама пошла в соседние страны, чтобы согнать тиранов с их тронов.
Человеческая мысль восприимчива к правде, человеческое сердце чует обаяние справедливости, а когда подъем унесет и душу, тогда перед человеческим напором ничего не устоит. Америка в начале революции насчитывала меньше двух миллионов жителей, без запасов, без уменья воевать, и она победила англичан мужеством, упорством, верой в справедливость. Энергия, любовь к свободе, народный подъем — все победит».
За пять лет, которые Костюшко провел в добровольном изгнании, изменилось многое во Франции. Наполеон стал императором. Его гению уже тесно стало в границах Центральной Европы. Он собирается в Московию, а путь в Московию лежит через Польшу, где можно набрать много солдат, где на полях зреет крутая рожь, где на лугах косят фураж для лошадей.
Тут опять Наполеон вспомнил о Костюшке, о человеке, чье славное имя, подобно волшебному ключу, раскроет дверцу к сердцу поляков.
В 1806 году явился в Бервиль наполеоновский министр Фуше. Он был крайне почтителен и крайне откровенен: он изложил план будущего похода в Россию и в лестных для польского уха выражениях сообщил, что император рассчитывает на помощь храбрых поляков, а что касается лично Костюшки, то великий император желал бы его видеть в походе рядом с собой, конечно, в ранге соответственно его высокому значению.
Костюшко нахмурился: лесть, высказанная в галантных выражениях, его покоробила, но он мгновенно подобрался и деловито спросил:
— А что император намеревается сделать для Польши?
Голос Фуше дрогнул:
— Генерал, ваш вопрос меня удивляет. Разрешите напомнить вам, что малейшее желание моего повелителя равносильно приказу даже для монархов. Его императорское величество может приказать вам сопровождать его всюду, куда ему будет угодно, он может всячески, как найдет нужным, использовать ваши услуги, а в сопротивлении желаниям моего великого повелителя я не предвижу ничего хорошего ни для вас, ни для ваших земляков.
— Ваше превосходительство, — спокойно ответил, вставая, Костюшко, — прошу заверить его величество, что прекрасно понимаю свое положение. Я живу в стране его императорского величества, и его императорское величество может распоряжаться мною как ему угодно, может даже волочить меня с собой на аркане. Но сомневаюсь, чтоб мой народ в этом случае оказывал ему какие-либо услуги. И еще передайте его величеству, что Костюшке лично для себя ничего не нужно: будет счастлива отчизна, будет счастлив и он; нет — то ему и жизнь не нужна.
— Хорошо, генерал, предположим, что я вас понял. Какие условия вы выдвигаете?
— Только такие, которые согласны с духом Французской революции: возрождение Польши, форма правления конституционная, передача крестьянам земли в собственность…
Наполеон не отозвался на предложение Костюшки: он нашел более сговорчивых польских деятелей, которые без ультиматумов отдали ему и свою землю и свой народ. А Костюшко, общепризнанный вождь поляков, копался в это время в садике или работал за токарным станком в Бервиле.
Поход в Россию оказался для Наполеона роковым: в 1814 году он лишился трона. Победители торжественно вступили в Париж.
Костюшко преобразился. Он скинул с плеч груз шестидесяти восьми лет, вытравил из сердца горечь пережитого и всю свою славу, весь свой опыт опять поставил на службу родине.
Он написал письмо Александру I, «самому популярному политическому деятелю», могущественному монарху, от которого больше чем от кого-либо другого зависела будущая судьба Польши.
«Бервиль, близ Фонтенбло, 9 апреля 1814 г.
Государь! Я осмеливаюсь обратиться из моего скромного убежища с просьбой к великому монарху, великому полководцу и в особенности к защитнику всего человечества — качество, единственное в своем роде, ибо мне известно все величие его души. Да, государь, мне хорошо знакома Ваша доброта, Ваша щедрость и великодушие. Я прошу у Вас трех милостей: даровать полякам всеобщую амнистию, без всяких ограничений, так, чтобы крестьяне, рассеянные за границей, считались свободными, если они возвратятся к своим очагам. Вторую: чтобы Ваше Величество провозгласило себя королем польским со свободной конституцией, подходящей к английской конституции; учредило бы в Польше народную школу для крестьян, где воспитанники содержались бы за счет правительства, и уничтожило бы по прошествии десяти лет крепостное право с наделом крестьян землею. Если мои просьбы будут уважены, то, несмотря на свою болезнь, я отправлюсь лично с тем, чтобы повергнуться к стопам Вашего Величества, поблагодарить Вас и чтобы первому воздать Вам должный почет, как моему монарху. Если бы мои ничтожные способности могли еще принести малейшую пользу, то я немедля отправился бы отсюда с тем, чтобы присоединиться к моим соотечественникам и с честью и преданностью служить моей родине и моему монарху.
Третья просьба моя, государь, хотя имеет вполне частный характер, но тем не менее весьма живо интересует меня: вот уже 14 лет, как я живу в почтенном доме г. Цельтнера, родом швейцарца, бывшего некогда швейцарским послом во Франции. Я многим обязан ему, но мы оба бедны, а он обременен многочисленной семьей, поэтому я убедительно прошу дать ему приличное место при новом французском правительстве или в Польше; он человек образованный, и я ручаюсь за его неподкупную честность.
С глубочайшим уважением имею честь быть Вашего Величества покорнейший слуга.
Костюшко».
Неужели такое раболепное письмо написал тог самый человек, который еще так недавно в послании к генералу Домбровскому настаивал на включении в легионерскую присягу пункта о ненависти королям?
Если эти два документа действительно написал Костюшко, то когда он слукавил?
Костюшко не лукавил: и в одном и в другом документе был он предельно искренен. Он проник в честолюбивые замыслы Наполеона и не доверял ему, а для того, чтобы обезопасить Польшу от будущего наполеоновского ставленника, обезопасить Польшу от нового Понятовского, Костюшко настаивал на внесении в легионерскую присягу пункта о ненависти королям. Когда же появилась реальная надежда на возрождение Польши и эта надежда была связана с личностью Александра I, он, больной, пришел в такое умиление, что готов был поступиться не только своей гордостью, но и жизнью, лишь бы жила Польша.
Надежда Костюшки на русского царя была основана на бесспорных фактах. Александр I выступал по польскому вопросу в очень благожелательном тоне, он амнистировал офицеров и солдат, сражавшихся против России, он разрешил вернуться на родину польским войскам из Франции — эти жесты и высказывания давали Костюшке (да и не только ему!) повод думать, что русский царь решил восстановить польское государство.
Костюшко тогда еще не знал, что лицемер Александр преследует эгоистические цели, что его заигрывания с поляками рассчитаны на то, чтобы заручиться их расположением, дабы упрочить свои позиции на предстоящем Венском конгрессе.
Костюшко не ограничился письмом. Он поехал в Париж, был принят Александром I, который закрепил свой разговор с ним в следующем послании:
«Париж, 3 мая 1814 г.
С особым удовольствием, генерал, отвечаю на Ваше письмо. Самые сокровенные желания мои исполнились, и с помощью Всевышнего я надеюсь осуществить возрождение храброй и почтенной нации, к которой Вы принадлежите.
Я дал в этом торжественную клятву, и благосостояние польского народа всегда было предметом моих забот. Одни лишь политические обстоятельства послужили преградою к осуществлению моих намерений. Ныне препятствия эти уже не существуют, они устранены страшною, но в то же время и славною двухлетнею войною. Пройдет еще несколько времени, и при мудром управлении поляки будут снова иметь отечество и имя, и мне будет отрадно доказать им, что человек, которого они считают своим врагом, забыв прошедшее, осуществит все их желания.
Как отрадно было бы мне, генерал, иметь Вас помощником при этих благотворных трудах. Ваше имя, Ваш характер, Ваши способности будут мне лучшею поддержкою. Примите, генерал, уверение в совершенном моем уважении.
Александр».
Этой перепиской не закончилась политическая деятельность Костюшки. Осенью 1814 года в Вене собрался конгресс. В то время, когда императоры и короли обменивались орденами и мундирами, дипломаты перекраивали карты Европы. Польский вопрос был самым острым: Александр I хотел создать, конечно под своей властью, единое польское конституционное государство; Австрия и Пруссия настаивали на окончательном разделе Польши.
Английский делегат Кестльри упорно возражал против конституционного устройства польских земель, он заявил, что это «искра, от которой может заняться горючий материал, накопленный в Европе распространением либеральных лозунгов».
Наполеон бежал с острова Эльбы.
Работы конгресса были прерваны и вновь возобновились только 3 мая 1815 года.
Россия, Австрия, Пруссия быстро договорились: Польша, как единое целое, перестала существовать.
Александр I собрал воедино отошедшие к России польские земли и образовал из них Царство Польское.
Царство Польское! Ведь не об этом говорил Костюшко с императором Александром!
Костюшко поехал в Вену, там не было Александра: «кочующий деспот» носился из города в город. Костюшко отправился в Браунау. 27 мая 1815 года состоялась встреча; она продолжалась 15 минут. С чарующей улыбкой перезрелой кокетки объяснил Александр «милому генералу», что он в отчаянии, что Пруссия и Австрия воспротивились его желанию создать единую Польшу.
Костюшко не удовлетворили доводы Александра I: он мечтал о воскрешении всей Польши, а не о «клочке, громко названном Царством Польским».
Кому верить? Чем жить? «Как отрадно было бы мне, генерал иметь Вас помощником… Ваше имя, Ваш характер, Ваши способности…» «Что он предлагает мне? Участвовать в триумфальном шествии победителя? Освятить своим именем позор неволи?»
Для Тадеуша Костюшки замкнулся круг, нет уж сил для борьбы, но придут другие Костюшки, и они сделают то, что он сделать не сумел: поляки не потерпят аркана на своей шее.
Костюшко отказался стать «помощником» Александра I: «своим именем, своим характером, своими способностями» он мог служить только польской Польше, а не русскому Царству Польскому.
Костюшко переехал в швейцарский городок Золотурн. В скромном домике с крохотным садиком перед окнами он коротал старческие дни в обществе своего друга Цельтнера или в игре с детьми, которые привязались к «доброму дедушке».
Навещали Костюшко бывшие соратники — они приезжали за советом или за словом утешения.
Жители Золотурна при встрече со старцем в поношенном черном сюртуке, с львиной белой гривой и мохнатыми бровями снимали шляпы: «Дай вам боже долгой жизни».
В ясные дни Костюшко ездил верхом в горы. Со снежных вершин стекали звонкие ручьи, и эти ручьи казались Костюшке олицетворением вечной жизни — она таится даже в тысячелетних ледниках.
Часто поднимался Костюшко на какую-нибудь вершину и часами смотрел на снежные пики Бернского Оберланда: там за ними Краков, площадь перед Марьяцким костелом, а еще дальше поле, усеянное трупами, дальше — сумрачный каземат Петропавловской крепости…
— Боже, неужели все это было?
В осенние и зимние дни, когда с гор дул свежий ветер, можно было видеть Костюшко в квартале бедноты. Шел медленно, припечатывая левой ногой, он разносил в эти дни дружеское слово, а после его ухода хозяева находили на подоконнике или в цветочном горшочке зеленую десятифранковую ассигнацию.
Много часов проводил Костюшко за письменным столом: он писал письма — изливал свою тоску по родине, по польским людям.
«Прошу тебя, — писал он своему другу Сераковскому, — сообщать мне частые сведения о себе и о том, что происходит на свете, а особенно о нашей дорогой родине; не бывает ночи, чтобы она не пришла мне на память…»
Или:
«Я хотел бы незримо прилететь к вам на воздушном шаре и расцеловать каждого из вас в отдельности».
А вспоминая прошлое, оправдывался:
«Я от души желал служить отечеству, но не сумел этого сделать, и очень скорблю об этом».
2 апреля 1817 года Костюшко раньше обычного подсел к письменному столу. В последние годы он много думал о прошлом, но не о событиях, которые, словно волны в разбушевавшемся море, нагоняли одно другое, а об идеях, что влияли на эти события. Он по-новому пересмотрел свое поведение и пришел к выводу, что психологический барьер, преграждавший ему путь к заветной цели, вовсе не был так непреодолим, как ему в свое время казалось. Он ведь был убежден, что крепостничество находится в противоречии с законами природы, но вместо того, чтобы согласиться с Коллонтаем, который, в сущности, исходил из этого же убеждения, он, Костюшко, пытался примирить непримиримое. Костюшко, понял, что в дни социальных потрясений нельзя говорить шепотом, нужно в полный голос говорить «да» или «нет». И это «да» в полный голос решил Костюшко сказать сегодня. Он записал:
«Завещание. Глубоко сознавая, что крепостничество находится в противоречии с законами природы и благополучием народов, сим свидетельствую, что уничтожаю его совсем и на вечные времена в моем имении Сехновицы, расположенном в Брестско-Литовском воеводстве, как от имени своего, так и будущих владельцев. Признаю, таким образом, всех жителей деревни, принадлежащей к имению, свободными гражданами и неограниченными хозяевами угодьев. Освобождаю их от всех без исключения поборов, панщизны и личных повинностей, которыми они были до сего дня обязаны владельцу имения. Призываю их лишь к тому, чтобы для пользы собственной и Края старались открывать школы и распространять просвещение…»
На первый взгляд кажется странным: как мог Костюшко завещать кому-то ценность, которая ему не принадлежит? Ведь, уезжая из Петербурга, он передал имение Сехновицы в полную собственность сестре с правом «отказать его одному из сыновей или всем». Без уничтожения этой дарственной записи «Завещание» не имело юридической силы. И Костюшко не мог этого не знать!
Так зачем он написал свое «Завещание»? Для кого оно было предназначено?
Для потомков! И в первую очередь для того будущего «Костюшки», которого польский народ поставит во главе нового восстания. Этому будущему вождю Тадеуш Костюшко хотел сказать, что новый «Поланецкий универсал» должен быть вдохновлен идеей, заложенной в основу «Завещания», и что только такой универсал принесет победу восставшему народу.
Утро первого октября тысяча восемьсот семнадцатого года было теплое, снег на горах искрился, но Костюшко до срока вернулся домой с прогулки. Цельтнер, встретивший его в садике, забеспокоился:
— Почему так рано?
— Знобит. Посижу у камина.
В камине ярко горел огонь, а Костюшко, сидя в кресле у самого пламени, никак не мог согреться. Рядом, на скамеечке, устроилась Эмилия, дочурка Цельтнеров. Высоким звонким голосом рассказывала она о проделках кота Шпигеля, но Костюшке казалось, что девочка говорит шепотом.
— Громче, дитя. Я не слышу.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
«Пусть руку! Пусть ногу!..»
«Пусть руку! Пусть ногу!..» Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки, сложенные треугольниками, от мамы из Ленинабада и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта №…» и штампом «Просмотрено военной цензурой» они нас достигали. Потом случился
«Пусть руку! Пусть ногу!..»
«Пусть руку! Пусть ногу!..» Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки, сложенные треугольниками, от мамы из Ленинабада и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта №…» и штампом «Просмотрено военной цензурой» они нас достигали. Потом случился
ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ
ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ Как Муся зналась мной с первых лет вблизи меня, так Лера, старшая, зналась где-то вдали. Она появлялась и исчезала, и память первых детских лет моих о ней – туманна. Но среди фотографий я время от
Миф № 126. Сталин то ли убил, то ли довел до самоубийства свою жену Надежду Аллилуеву, то ли просто причастен к этой трагедии.
Миф № 126. Сталин то ли убил, то ли довел до самоубийства свою жену Надежду Аллилуеву, то ли просто причастен к этой трагедии. Мифология на эту тему стала складываться практически сразу после того, как стало известно о том, что в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года, то есть сразу после
11 «Пусть живые существа неисчислимы, я клянусь спасать их»[167]
11 «Пусть живые существа неисчислимы, я клянусь спасать их»[167] В декабре 63-го мне исполнилось восемь лет. Зимние дни рождения в Нью-Гемпшире — это не Бог весть что. 11 мая, в день рождения Виолы, мы устраивали пикник и играли в поле. В декабре те дети, чьи родители имели
Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ
Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ Первого февраля 1932 года во Всероссийском союзе советских писателей состоялся творческий вечер Андрея Платонова. Это мероприятие трудно назвать творческим в привычном для нас понимании — скорее то был «разбор полетов» или, как
Глава 25 «ЭТИ СУХАРИ ЖИВЫЕ!»
Глава 25 «ЭТИ СУХАРИ ЖИВЫЕ!» В связи с очень небольшим количеством имеющейся на борту еды и малой, из-за изрядно уменьшившихся запасов топлива, скоростью лодки нужно было чем-то занять команду. Прекрасным средством оказались регулярные физические упражнения на верхней
«…Никогда не теряйте надежду в нашу победу и никогда не теряйте надежду, что я к вам возвращусь»[1]
«…Никогда не теряйте надежду в нашу победу и никогда не теряйте надежду, что я к вам возвращусь»[1] 22 июня 1941 года в четыре часа утра Олекса проснулся внезапно, словно от того, что кто-то резко и грубо царапнул сердце чем-то острым. Над Москвой уже занялся ранний рассвет, в
Глава VI Разум и живые существа. Биология, психология, теория познания
Глава VI Разум и живые существа. Биология, психология, теория познания Небольшой одиннадцатый фрагмент книги Анаксагора состоит из одной фразы: «Во всем заключается часть всего, кроме Разума, но существуют и [такие вещи], в которых заключается и Разум».Симпликий,
Глава 18 Живые и мертвые
Глава 18 Живые и мертвые «С Вашею обычною ласкою...» — замечает Иванов в письме, только что приведенном, говоря о «ласке» как о чем-то давно всем и хорошо знакомом. На рубеже веков мы застаем Александра Петровича... в ореоле славы — проще всего было бы сказать, но это было
2. КОГДА ТЕРЯЮТ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ («Известия», 3 июля 1983)
2. КОГДА ТЕРЯЮТ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ («Известия», 3 июля 1983) Открыв номер американского журнала «Форин афферс» и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова,[129] мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам
«Я не потеряю надежду!»
«Я не потеряю надежду!» Едва вернувшись в свою камеру, Достоевский сел писать письмо Михаилу. Душа была полна всем пережитым в это утро. «22 декабря 1849 г. Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к 4-х летним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые.
О Штатах Глава VIII, в которой звонок из Америки вселяет надежду в нашу героиню, она торжествует, а потом начинает злиться
О Штатах Глава VIII, в которой звонок из Америки вселяет надежду в нашу героиню, она торжествует, а потом начинает злиться Как ни тяжело мне было, но я с головой окунулась в работу. Тристан вернулся в интернат, и я собралась в Нью-Йорк впервые после той судьбоносной поездки
Глава двадцатая НЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ ЖИВЫЕ
Глава двадцатая НЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ ЖИВЫЕ Их была целая свора: мансфельдский граф и добрый десяток дворян, которые вроде Апеля фон Эбелебена хотели выместить на Мюнцере свою ярость за сожженные замки и поместья. Эрнст обещал князьям во что бы то ни стало добиться