ГЛАВА ШЕСТАЯ СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР
ГЛАВА ШЕСТАЯ
СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР
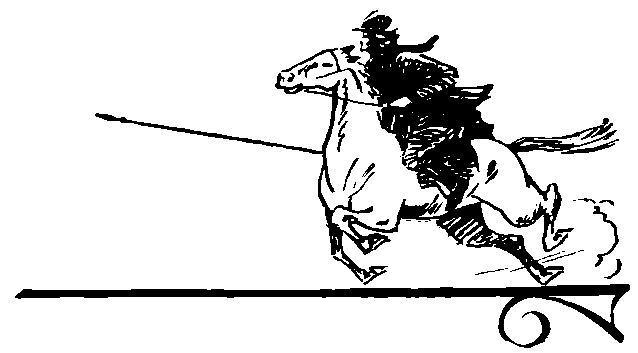
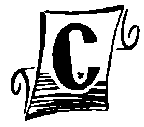 амые активные деятели освободительного движения эмигрировали в Лейпциг, они там организовали эмигрантский центр. В этом центре существовали те же разногласия, что и среди патриотов в Польше: руководитель левого крыла Гуго Коллонтай приветствовал успехи Французской революции и призывал поляков учиться на ее примере; руководитель правого крыла Игнатий Потоцкий пугал своих соратников ужасами Французской революции, но он же предложил связать действия эмиграции с внешней политикой революционной Франции.
амые активные деятели освободительного движения эмигрировали в Лейпциг, они там организовали эмигрантский центр. В этом центре существовали те же разногласия, что и среди патриотов в Польше: руководитель левого крыла Гуго Коллонтай приветствовал успехи Французской революции и призывал поляков учиться на ее примере; руководитель правого крыла Игнатий Потоцкий пугал своих соратников ужасами Французской революции, но он же предложил связать действия эмиграции с внешней политикой революционной Франции.
Повод для такого предложения дал Потоцкому француз Парандьер, его давнишний знакомый по Варшаве. Парандьер в то время жил в Лейпциге. По дороге в Париж остановился в Лейпциге французский посол Декорш, высланный королем Понятовским из Варшавы по требованию русского и прусского правительств.
Парандьер сначала от своего имени, потом с согласия Коллонтая и Потоцкого уговаривал Декорша признать эмигрантский центр «полномочным представителем Речи Посполитой». Декорш снесся со своим правительством и добился назначения Парандьера политическим агентом Франции при эмигрантском центре.
Кого послать в Париж для непосредственных переговоров?
Тут всплыло имя Тадеуша Костюшки.
Народ в Польше был подавлен. Мелкая шляхта, которая в силу традиции тянулась к магнатам, была возмущена жадностью тарговичан: они захватывали силой или приговорами услужливых судей — имение за имением. Мещане и ремесленники, которым «Конституция 3 мая» впервые даровала гражданские права, чувствовали себя осиротелыми после отъезда Гуго Коллонтая. И крестьянам палка тарговичан показалась слишком тяжелой. «Конституция 3 мая» не дала крестьянам свободы, но по крайней мере сулила надежду на свободу. Тарговичане же, придя к власти, лишили их и того крохотного просвета в тучах, что раскрылся перед ними: опять кнут, опять панское своеволие.
И неудивительно, что в сердца многих и многих закрадывалось сомнение: а не мы ли сами виноваты в своих бедах? Ведь войско Юзефа Понятовского хотело преградить путь тарговичанам. А что мы сделали для этого войска?
Мелкие удачи Юзефа Понятовского вырастали в крупные победы, и эти победы льстили народному сознанию, будоражили народную совесть.
Постепенно, по мере того как народ узнавал подробности трехмесячной кампании, всплывало имя генерала Тадеуша Костюшки. Ведь с этим именем были связаны победы под Зеленцами и под Дубенкой.
Незначительные бои перерастали в крупные сражения, и имя победителя в этих сражениях стало символом народной славы.
Костюшко также эмигрировал. Счеты с Краем покончены — под польским солнцем для него не оказалось места. Надо проситься к чужому очагу, надо греться под чужим солнцем. Опять одинокая, улиточная жизнь. На этот раз, правда, его ждет обеспеченный покой. Французская Законодательная ассамблея даровала ему почетное звание французского гражданина…
Какая издевка судьбы! Поляк Костюшко удостоился французского гражданства за участие в американской революции, а поляк Костюшко лишился польского гражданства за желание участвовать в польской революции!
«Но разве все, что случалось со мной, — думал Костюшко, — не издевка судьбы? Я мечтал стать солдатом — меня толкали на путь художника; я мечтал об общественной деятельности — был вынужден прозябать в Сехновицах; Людвика, которая действительно меня любила, вышла замуж за хлыща Любомирского; Теклюня, которая так тяжело (трехмесячная горячка) пережила вынужденный разрыв со мной, вышла замуж за капитана Княжевича, за посла моей любви. А разве мой высокий орден и высокое звание генерал-лейтенанта не напоминают цветы, возложенные на гроб? Ведь я получил эти высокие награды лишь тогда, когда они потеряли всяческий смысл, когда они стали только декорацией для семейного портрета».
Костюшко и не догадывался, что его имя приобрело всепольское звучание, что оно стало символом польского сопротивления, лозунгом, зовущим в бой за освобождение родины. И поэтому он растерялся, когда княгиня Мария Вюртембергская, дочь князя Чарторийского, устроила в Сеняве, в австрийской части Польши, праздник в честь приезда героя. Пели песни, сложенные в честь героя, его короновали венком из листьев исторического дуба, посаженного королем Яном Собесским, дамы приседали перед ним «в большом реверансе», точно перед королем, а мужчины, звеня саблями, выкликали в радостном возбуждении:
— Костюшко с нами!
Пребывание Костюшки в Австрии вылилось в грандиозную патриотическую демонстрацию, неожиданную не только для самого Костюшки, но и для властей: австрийский генерал Вюрмсер предложил Костюшке покинуть Австрию «в двадцать четыре часа».
К рождеству приехал Костюшко в Лейпциг.
Можно ли найти более подходящего человека для дипломатической миссии? Национальный герой, славный генерал американской революционной армии и почетный гражданин Франции!
Эмигранты устроили торжественный прием. Бывшие депутаты сейма: Забелло, Веселовский и Волицкий — произнесли панегирики, — они сравнивали Тадеуша Костюшко почти со всеми героями античной Греции. Гуго Коллонтай поведал гостям, что Тадеуш Костюшко еще в молодости мечтал о роли Тимолеона и что счастливая судьба именно сейчас предоставляет ему возможность стать польским Тимолеоном. Игнатий Потоцкий от имени эмиграции преподнес Тадеушу Костюшке адрес: «Тебе одному отечество еще доверяет».
После торжественной части Гуго Коллонтай взял под одну руку Костюшко, под другую Игнатия Потоцкого и удалился с ними в небольшую комнату. На столе стоял подсвечник с тремя рожками, в них горели толстые желтые свечи.
Они уселись у камина. Три разных человека. Гуго Коллонтай — с топорным лицом, в скромной черной сутане, даже без обычного воротника с белой оторочкой. Он сидел спокойно, уверенно, как человек, вернувшийся к себе домой после удачно законченных дел. Тадеуш Костюшко — в коричневом сюртуке, собранном в талии, и в высоких сапогах — так одевались шляхтичи для верховой езды. Он сидел вполоборота к камину, словно грел раненую руку, и грустно, задумчиво смотрел в огонь. Игнатий Потоцкий— в парике, в атласе, в кружевах.
— Во Франции создалась благоприятная для нас обстановка, — сказал Коллонтай сразу, точно продолжал прерванный разговор. — После победы над пруссаками под Вальми и после триумфального марша генерала Дюмурье наступила тревожная пауза. К австро-прусской интервенции присоединились Англия, Испания и Голландия. Военное кольцо вокруг Франции уплотняется. Франции нужны союзники. Кто они, эти возможные союзники? Венгры и чехи — против Австрии, турки — против России, и мы, поляки, — против Пруссии. Французское правительство, видимо, из этих соображений и признало наш центр полномочным представителем Речи Посполитой. Это большая дипломатическая победа. Но этого мало: мы должны заключить союз с Францией, дабы использовать ее мощь для нашего национального дела. И вот прошу вас, генерал, поехать в Париж и договориться с министром иностранных дел Лебреном об этом союзе.
Тадеуша Костюшко природа наделила счастливой особенностью: он никогда не действовал сгоряча — все его поступки были заранее обдуманы, взвешены. Романтик в мышлении, он был реалистом в действиях.
Предложение Коллонтая пришлось ему по душе, и ему казалось, что революционная Франция, скорее чем какое-либо другое государство в Европе, протянет руку помощи несчастной Польше. Но Костюшко опасался, как бы надежда на чужую помощь не снизила усилий самих поляков.
— Обывателе[37], — сказал он. — Народ, желающий отстоять свою независимость, должен в первую очередь верить в свои силы. Если у него нет этой веры, если для своего освобождения не надеется на собственные усилия, а уповает на чужую помощь, можно смело предсказать, что не дождется ни счастья, ни славы. Можете ли вы вспомнить, чтобы какой-либо край дошел до высокой славы с чужой помощью?
Ничего оригинального, самобытного Гуго Коллонтай в словах Костюшки не усмотрел, но одно то, что боевой генерал мыслит как общественный деятель,
убедило Коллонтая в том, что Костюшко именно тот человек, который в эту трудную минуту нужен польскому народу.
— Гражданин генерал, — обратился Потоцкий к Костюшке, — о каких, собственно, усилиях вы говорите?
— О военных! — жестко ответил Костюшко.
Потоцкий прижался к спинке кресла и стал оглядывать потолок.
Коллонтай положил руку на колено Костюшки.
— Генерал, вы озадачили меня. Если я вас правильно понял, вы говорите о восстании.
— Именно!
— Это мечта, — вздохнув, сказал Коллонтай. — Дорогой мой Костюшко, восстание требует длительной подготовки, и дипломатической, и военной, и финансовой. Сегодня говорить о восстании рано. Опыт прошлогодней войны показал, что народ еще не подготовлен к восстанию.
— Но так дальше продолжаться не может! — резко произнес Костюшко. — Шляхта оттолкнула народ от управления, она держала и держит народ в темноте, палкой и словом убеждает шляхта народ, что он быдло. А если мы хлопу скажем, что он не быдло, а человек, полноправный гражданин в своем отечестве, то он валом повалит под наши знамена. Обывателе! Швейцарцы и голландцы, живя между скал и в болотах, в десять крат количеством меньше своих могущественных врагов, сумели в боях отстоять свою независимость. Мы же, шестнадцатимиллионный народ, с огромным природным богатством, неужели мы сами осудили себя на позорное рабство? Свобода — это сладчайшее добро, которым человек на земле может пользоваться, но эту свободу можем добыть лишь в бою!
Сколько раз вспоминал Коллонтай эти слова Костюшки! Они были произнесены со взволнованной искренностью, и Коллонтай понял, что Костюшко высказал свои заветные мысли, что эти мысли не родились у него в торжественной обстановке парадной встречи, — эти мысли давние, выстраданные, и он, видимо, готов ценой жизни добиваться их осуществления.
— Ты знаешь, генерал, что за эти же идеи боролись сотни патриотов, и тогда, когда нам казалось, что уже осуществляются наши цели, появились подлые тарговичане. Они вырвали победу из наших рук и отбросили Польшу лет на двадцать назад. Надо дать замкнуться кругу событий. Тарговичане изобличат себя в глазах народа, и тогда, дорогой генерал, сама жизнь поставит вопрос о восстании. Сейчас перед нами более скромная дипломатическая задача: заключить союз с Францией.
Тут поднялся Игнатий Потоцкий. Он приблизил лицо к лицу Костюшки и, глядя ему в глаза, сказал:
— И заключить этот союз сможет только такой человек, как вы, славный генерал и почетный гражданин Франции.
Костюшко поехал в Париж через Голландию. Там он встретился с Дюмурье, популярнейшим в то время революционным генералом, одержавшим блестящую победу над австрийцами. Он рассказал Дюмурье, с какой миссией направляется во Францию.
Опять Париж. Прежде чем отправиться к министру Лебрену, Костюшко несколько дней ходил по городу. Облик улиц изменился — кварталы потеряли свой замкнутый характер. В аристократических предместьях — толпы рабочих, студентов, солдат; в рабочих кварталах — люди в шелковых плащах, с золотыми пряжками на туфлях. Всюду сборища, ораторы. Впечатление — никто не работает. Все к чему-то готовятся, убеждают в чем-то друг друга. Перед ратушей вечный митинг, и тут же, за спиной толпы, старик офицер обучает новобранцев.
17 января Костюшко отправился к министру. Его принял молодой человек с высоким лбом, горящими глазами и тонкими губами; парик заканчивается двумя кокетливыми валиками; белый пышный бант поверх широких отворотов черного кафтана. Это и был министр иностранных дел Лебрен. Он усадил Костюшко на маленький диван с хрупкими ножками.
— Я вас ждал, генерал. У нас общие враги…
— И общие интересы, — подхватил Костюшко.
— Верно, генерал, и общие интересы. Но мое правительство интересуется, как далеко простирается влияние эмигрантского центра? Имеется ли у вас реальная сила в Польше? И сумеете ли вы в короткий срок направить эту силу против Пруссии?
— С вашей помощью — да.
— О какой помощи вы говорите?
— Начнем с денег. Двенадцать миллионов ливров. — Костюшко протянул министру пакет. — Тут мы подробно изложили условия займа. Гражданин министр, королевская Франция, оказывая помощь американским бунтовщикам, как их тогда называли у вас, руководствовалась исключительно желанием ослабить Англию; революционная же Франция, предоставляя нам заем, будет способствовать перенесению идей Французской революции на деспотический Восток. В своем меморандуме мы излагаем программу будущего польского правительства: упразднение королевской власти, ликвидация влияния высшего духовенства, право всех без различия происхождения и религии владеть земельной собственностью, полное уничтожение крепостного права, свобода и равноправие для всех граждан. Если это не копия ваших далеко идущих общественных преобразований, то согласитесь, мой министр, что и этой нашей программы вполне достаточно, чтобы вызвать народные волнения у наших соседей. В первую очередь это затруднит Пруссии и России отправку экспедиционных корпусов во Францию. Мы пока не говорим о восстании, но…
Костюшке показалось, что министр его не слушает, что он думает о чем-то постороннем: часто поглядывал на дверь, нервно перебирал пальцами или оттягивал галстук, будто ворот рубахи вдруг стал тесен.
Костюшко поднялся.
— Убедили вас мои доводы?
— Мой генерал, меня и убеждать не надо. В пользу союза с вами я приведу еще больше доводов. Но решать будет правительство.
В последних словах Костюшке послышалась не то горечь, не то упрек, не то безнадежность.
— Когда могу ждать ответа?
— Завтра… Завтра… — быстро ответил министр.
Но ни завтра, ни послезавтра Лебрен ответа не дал. Он говорил о своих симпатиях к полякам, о необходимости предоставить им заем, говорил даже о том, что дома у него неблагополучно: заболел ребенок, жена в отчаянии…
На улицах Парижа было неспокойно. Война требовала больших средств, материалов. Пришлось перестроить промышленность. Свертывались или закрывались мирные отрасли производства. Появились миллионы безработных. Ораторы в кафе и на площадях требовали обуздания спекулянтов, таксации цен. В Конвенте шла острая, насмерть борьба между монтаньярами и жирондистами. Жирондистские, то есть правительственные, газеты писали в барабанном тоне об успехах Дюмурье, а в кафе и клубах говорили, что этот авантюрист ведет подозрительные переговоры с австрийцами.
21 января Костюшко отправился к министру Лебрену: за окончательным ответом. Он вышел из дому рано, около восьми часов, а народу на улицах уже много. Все возбуждены, спешат куда-то. На улице Сент-Оноре людской поток сделался гуще, и Костюшко, словно несомый толпой, оказался на площади перед эшафотом.
К эшафоту подъехала повозка, окруженная верховыми. С повозки сошел грузный человек.
Костюшко прорвался вперед. Неужели король? Да, король!
С большим усилием, словно на перебитых ногах, сошел король с повозки; позади него — священник. Они поднялись на эшафот.
Костюшко отвернулся. Он услышал стук упавшего ножа гильотины, крик народа: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!»
Костюшко повернулся лишь на одно мгновение: на вытянутой руке держит палач отрубленную голову; глаза раскрыты, двумя струйками течет кровь…
В этот день Костюшко не пошел к министру: он выбрался из толпы, заперся у себя в комнате и просидел взаперти до следующего дня.
В эти тягостные часы раздумья Костюшко убедил себя, что лозунг «Аристократов на фонарь!» — лозунг, который он лишь инстинктивно считал вредным, на самом деле чреват для Польши огромными бедствиями. У Польши должен быть иной путь — без «фонарей».
Переговоры продолжались: Лебрен заверял Костюшко, что «при первой возможности Франция поможет Польше».
А в феврале осложнилось положение: Лебрен сложил голову на эшафоте, а генерал Дюмурье, этот карьерист и изменник, выдал Австрии секрет, доверенный ему Костюшко. Началась дипломатическая война. Костюшко вынужден был скрыться. Хотел поехать в Англию, но Коллонтай вызвал его обратно в Лейпциг.
17 июня 1793 года собрался в Гродне сейм. На повестке один вопрос — утверждение договора второго раздела. Уже прочитан договор, уже председатель сказал свое слово, он уже два раза спросил: «Как, панове делегаты, утверждаете договор?», а делегаты сидели молча, с поникшими головами, словно прятали лица от щедрых лучей летнего солнца.
Случилось непонятное: никто из делегатов не хотел высказываться. Председатель недоумевал: ведь большинство делегатов обещали представителю Екатерины графу Сиверсу (конечно, за дукаты!) сказать безоговорочно: «Утверждаю!» А сейчас молчат: и те, что деньги взяли, и те, что не приняли взятку.
Граф Сиверс нервничает: он сидит за спиной председателя и бьет себя по колену большим засургученным пакетом. Председатель знает, что в этом пакете рапорт Сиверса Екатерине об утверждении договора; председатель знает, что за дверью дежурит русский офицер, — он подхватит засургученный пакет, в несколько прыжков одолеет лестницу и прыгнет в стоявшую у ворот курьерскую тройку… А делегаты молчат. Возникла ли перед их глазами карта Речи Посполитой? К России отойдет часть Белоруссии и часть Украины — земли, населенные православным людом; к Пруссии — исконные польские области: Гданьск, Торунь, часть Куявии и часть Мазовии… И это их ужаснуло… Или поняли, что, кроме земель, Польша окончательно потеряла и свою политическую независимость? Сказали бы об этом! Уж делегат Михаил Залесский нашелся бы, что ответить. Но они молчат — угрожающе молчат, хотя ни один из них не набрался храбрости крикнуть: «Не позвалям!» Может, русские и пруссаки мало дукатов роздали? Или вдруг вспомнили слова из универсала Пирамовича и Коллонтая, принятого в мае прошлого года на сессии сейма: «Войско, которое является с целью изменения вашего режима, несет вам не свободу, а рабство».
Граф Сиверс решился, он шепнул председателю:
— Скажите, что молчание — знак согласия.
И, раскрыв дверь щелочкой, Сиверс протянул пакет дежурившему в коридоре офицеру.
Однако в Польше осталось достаточно патриотов, чтобы не дать заглохнуть национально-освободительной идее. Росло недовольство среди мещан. Из практики Французской революции они усвоили тот очевидный факт, что третье сословие призвано играть решающую роль в деле освобождения своей родины от феодальных порядков. Среди варшавских мещан с успехом вели пропаганду бывшие сотрудники Гуго Коллонтая: Юзеф Мейер, Ельский и Конопка. Среди цеховиков-ремесленников — Сераковский, сапожник Ян Килинский и мясник Марьянский.
Возникли также кружки среди офицеров, им угрожало увольнение из армии: по постановлению Гродненского сейма польская армия должна быть низведена до 15 тысяч.
Генерал Игнатий Дзялынский числился у тарговичан благонадежным — его назначили на высокий пост заместителя командующего варшавским гарнизоном. Молодежь его любила, старики уважали, и даже мерзавцы типа Сосновского верили, что он неподкупный, что его нельзя соблазнить дукатами. Дзялынский не примыкал ни к одной из политических группировок. Это был патриот, остро переживающий подневольное положение своей родины. И генерал Дзялынский решил действовать. Он знал, что в подполье работают революционные кружки мещан, офицеров и ремесленников.
В майский день генерал пригласил к себе Павликовского. Сам открыл ему дверь и увел в кабинет. Там уже сидели Ян Чиж и Эльаш Алое. После безобидной беседы за первой трубкой Дзялынский закрыл дверь на ключ и сразу перешел на деловой тон:
— На помощь извне, видимо, рассчитывать не приходится. Прибывший из Лейпцига адвокат Брасс сказал мне, что эмигрантский центр не занимается вопросом восстания, этот центр считает восстание делом далекого будущего. А петля на нашей шее затягивается. Панове из Саксонии этого не видят. Мещане и ремесленники что-то делают. А ведь единственная реальная сила — это армия. Но если мы будем медлить, то лишимся этой силы. Уже разработаны планы редукции[38]. — Он поднял руку. — Присягнем друг другу и примемся за дело! — Он говорил спокойно, четко выговаривая слова, и эта его убежденность произвела впечатление.
Пожали друг другу руки, присягнули, разработали план действий. Дзялынский обеспечит своевременное выступление варшавских полков, Чиж направится в провинциальные гарнизоны — там ждут только сигнала, а Павликовский и Алое будут держать связь с эмигрантским центром.
Дзялынский связался с бургомистром Капостасом, тот стоял во главе подпольной организации мещан. В нее входили: Закржевский, Брасс, Выбицкий, Кохановский. Эта организация была уже связана с ремесленниками, в которой верховодили Мейер, Конопка и сапожник Ян Килинский.
На совместном совещании была разработана политическая программа: основа — «Конституция 3 мая».
Павликовский и Алое поехали за границу. Они доложили эмигрантскому центру о целях и задачах новой организации.
Коллонтай, шагая из угла в угол, говорил размеренным тоном профессора, читающего лекцию студентам:
— «Конституция 3 мая» была великим актом для своего времени, для того времени, когда мы впервые осмелились вырваться из вековой анархии. В «Конституции третьего мая» еще проявляется дух правящей шляхты, ее привилегии, в особенности ее первенство в частной и общественной жизни…
— За одну шляхту я биться не буду! — сказал Костюшко возмущенно.
— Генерал, я еще не закончил. Мы, политики, должны трезво смотреть на вещи. Нельзя начать движения с радикальных лозунгов, и нельзя по двум причинам. Первая — радикальные лозунги оттолкнут от движения даже патриотически настроенную часть шляхты. Вторая — с разворотом событий народное движение само революционизируется. Наша задача— следить за настроением масс. Вот наша тактика. Мы должны предоставить последнее слово народу. А народ, войдя в будущий сейм, сам выберет путь к счастью.
На Литве, в Вильнюсе, действовал инженер-полковник Якуб Ясинский, бывший воспитанник Рыцарской школы, один из учеников Костюшки. Кадет стал за эти годы ярым якобинцем, сторонником радикальных методов борьбы и самым революционным поэтом эпохи польского Просвещения. Стихи Якуба Ясинского, его сатиры и комические поэмы расходились в сотнях списков, разнося по Польше вольнодумные идеи.
Якуб Ясинский организовал в Вильнюсе крепкий и хорошо законспирированный кружок из офицеров.
Независимо от военного кружка возникли кружки прогрессивной части шляхты и интеллигенции: Кароля Прозора, Солтана, Бржостовского, Богуша.
Для связи с Литвой варшавский кружок Дзялынского выделил Ельского.
Включилось в борьбу и крестьянство. Еще до то-го, как родилась идея всенародного восстания, крестьяне выступили в Паланге, на Брацлавщине, в районе Пинска.
В душный сентябрьский вечер 1793 года шло совещание эмигрантского центра. Окна в комнате зашторены. На длинном столе в высоких канделябрах горели свечи. Присутствующие внимательно слушали Гуго Коллонтая.
— Посланцы из варшавского подполья привели убедительные доводы. Русский посланник Игельстром хозяйничает в Варшаве не менее нагло, чем его предшественник Штакельберг. Все свободы уничтожены. Армия сокращается. Мещан, крестьян, военных — всех охватила ненависть к оккупантам и тарговичанам. Но разве этого достаточно для того, чтобы завтра-послезавтра начать восстание? Ненависть — грозное оружие, но это оружие не стреляет. Военные рвутся в бой — верю, мещан вы увлечете за собой — также верю, — а чем вы привлечете на свою сторону хлопов? А без вовлечения в борьбу крестьянства нельзя и мечтать о победе. Крестьяне требуют отмены панщизны, требуют воли. Пойдете на это?
Десятки раз обсуждали эмигранты тезис об отмене панщизны, но не решались ни принять его, ни отвергнуть. Все понимали, что принятие тезиса привлечет к восстанию сотни тысяч обездоленных крестьян, но именно этих крестьян эмигранты боялись: по опыту Французской революции они знали, что народ, почувствовав свою силу, не останавливается на полпути.
Каждому из членов эмигрантского центра было что терять. По правую руку Коллонтая сидел Игнатий Потоцкий, короткий, так называемый домашний парик обрамлял прекрасно вылепленное лицо со спокойными приветливыми глазами, округлый подбородок прятался в пене белых кружев. Игнатий Потоцкий владел не одним десятком имений — освободи он крестьян, кто будет обрабатывать его земли? По левую руку Коллонтая сидел Капостас — тонкие губы сжаты, взгляд тяжелый, настороженный. У него много денег, очень много, но ведь восставшие парижане в первую очередь лишили богачей их денег. Депутат Забелло, широкоплечий гигант с усами как метелки, был не так богат, как Игнатий Потоцкий или бургомистр Капостас, но и его имения тянутся на версты. Тщедушный Волицкий и хмурый Веселовский также не хотели потерять свои «хуторки». Тадеушу Костюшке не жаль было Сехновиц — для народного блага он отдал бы сотни имений, даже больше, он считал тезис разумным и благородным, но…
— Польша не выдержит крутых поворотов, — сказал он взволнованно. — Хлопов надо освободить, непременно надо, мы должны покончить с позорным крепостничеством, но наши хлопы из-за своей темноты еще не готовы к полной свободе. Их надо подготовить. В первую очередь должны мы снизить панщизну: там, где ее было два дня, — один день, там где было три дня, — полтора. Мы должны уговорить помещиков, дабы они приказали экономам, подстаростам обращаться с народом справедливо и отказываться от суровых наказаний.
— Такая программа навряд ли привлечет на нашу сторону крестьянство, — возразил Коллонтай.
— Привлечет, — настаивал Костюшко. — Наш хлоп будет нам благодарен уже за то, что мы думаем о нем, что мы на первых шагах своей деятельности сбрасываем с его плеч какую-то часть ноши.
Посланцы из варшавского подполья Валихновский и Алое, люди военные, не понимали, почему их старшие товарищи придают такое большое значение лозунгам: их, военных заговорщиков, не интересовали лозунги — драться надо.
— Мы не за этим приехали! — жестко промолвил Алое. — Восстание стучится в наши ворота, и если вы эти ворота не раскроете, то народ сам их распахнет! Для народной ярости нет преград!
Встал с места Гуго Коллонтай. Он уперся кулаками в стол.
Только сегодня он вернулся из Карлсбада, где лечил подагру и, видно, не вылечился: ему трудно стоять.
Выступление Костюшки его огорчило. Несколько недель назад, когда они говорили о народном движении, Коллонтай убеждал Костюшко, что нельзя начинать с радикальных лозунгов, но если восстание действительно стучится в ворота, то без крестьян не добьемся победы, а привлечь крестьян можно, только обещав им волю и землю.
Коллонтая огорчает еще и другое. Варшавские посланцы, а с ними и Костюшко говорят о восстании, как о факте завтрашнего дня. Где силы, где деньги, где дипломатическая подготовка? Неужели они считают, что достаточно нескольких полков Дзялынского, Зайончека и Мадалинского, дабы изгнать из страны русские и прусские войска? Неужели они не понимают, что нужны месяцы кропотливой подготовки?
Об этом хотел сказать Коллонтай, но ему помешали.
— У нас все готово! — решительно заявил в эту минуту Алое. — Мы приехали не обсуждать политическую программу, мы приехали просить генерала Костюшко возглавить восстание. Оно вспыхнет со дня на день, и ни в нашей, ни в вашей власти остановить это движение!
Костюшко поднялся со своего места с сомкнутыми ногами, с руками вдоль тела. Его лицо пылало.
— Хочу собственными глазами убедиться, действительно ли все готово, — сказал он твердым голосом.
Коллонтай сразу успокоился: умный Костюшко спас положение. Конечно, он убедится, что народ не готов к восстанию, и «горячие головы из Варшавы» прекратят свои атаки на эмигрантский центр.
О том, что будущее восстание возглавит Костюшко, договорились уже давно: лучшего кандидата, чем он, никто не видел среди патриотов.
— Обывателе, — начал Коллонтай тихим голосом. — Раз мы уже коснулись этого вопроса, то давайте его решать окончательно. Недостаточно выбрать вождя восстания, нужно наделить его еще полномочиями диктатора. В польских условиях это необходимо.
Предложение Коллонтая прозвучало неожиданно только для одного Костюшки — затуманились глаза, заныла раненая рука. Всей своей прошлой жизнью был Костюшко подготовлен к восхождению на большую высоту, но, очутившись на высоте, он вдруг усомнился: «Достоин я такой чести? По плечу мне эта власть? Во всех прошлых поворотах в моей судьбе шел спор о моем личном благополучии, а сейчас— о будущем польского народа. Все сидящие здесь вносят в общее дело имения, деньги, судьбу своих детей, а я? Одну только жизнь, свою одинокую жизнь».
— Костюшко! Костюшко! — вырвал его из задумчивости взрыв разволновавшихся товарищей.
Гигант Забелло поднял Костюшко на ноги.
— Vincere scis, Hannibal![39] — сказал он, прижимая Костюшко к своей груди.
— Братья, — сказал Костюшко прерывающимся голосом, — я принимаю эту высокую честь, если вы считаете, что я ее достоин. — И он повторил уже однажды сказанные им слова: — Только знайте, братья, за одну шляхту биться не буду. Хочу свободы всего народа и только за него, за польский народ, буду жертвовать своей жизнью.
Этими скупыми словами, рожденными в его взволнованном сердце, Костюшко сумел высказать все свои затаенные мысли, все, что в нем созревало в течение долгих лет раздумий. Он согласился и на титул «диктатор», хотя этот титул вызывал у него гадливое отвращение, и согласился он потому, что помнил, какие трудности выпали на долю генерала Вашингтона из-за трений с гражданскими властями — в польских условиях, знал Костюшко, такой разлад между военным и гражданской администрацией пагубно отзовется на всем восстании.
Не жажда власти толкнула Костюшко на этот шаг. Его натуре было противно само понятие «властвовать», но он согласился на диктаторство для того, чтобы добиться победы, а потом «бросить оружие к ногам сейма» и уехать в деревню «насладиться покоем в маленьком домике».
Костюшко разработал детальный план подготовки к восстанию. В каждом воеводстве, земле и уезде патриоты возлагают на одного из своей среды секретный набор людей, а остальные накапливают оружие, снаряжение, продовольствие.
Осенью 1793 года Костюшко вместе с генералом Зайончеком и Рафаилом, братом Гуго Коллонтая, отправился в окрестности Кракова, чтобы на месте наблюдать за ходом подготовки к восстанию. Они убедились, что сроки для инсурекции[40] еще не наступили, что «на столь слабых основаниях, какие теперь имеются, ничего не построишь».
Костюшко донес эмигрантскому центру: «Грешно, легкомысленно и необдуманно начинать», и по совету Коллонтая уехал в Италию.
В Варшаве было душно и неспокойно. Главари Тарговицы интриговали и развлекались в Петербурге, а их подручные: Анквич, Сулковский, Рачинский, Михал Залесский, Ожаровский и другие — с большим рвением, чем их «хозяева», расправлялись с инакомыслящими. В первую очередь они приступили к срочной ликвидации польской армии, а ведь она, по плану заговорщиков, должна была составить ядро повстанческого войска.
Генерал Дзялынский собрал своих друзей: каштеляна Петра Потоцкого, подкоморного Зелинского, Станислава Ледуховского, Юзефа Павликовского, Франчишека Орсетти и бывшего секретаря Игнатия Потоцкого Яна Дембовского.
— Братья, — сказал Дзялынский, — редукция идет таким быстрым темпом, что через три-четыре месяца останемся без армии Костюшко, видимо, не верит в наши силы и в наши возможности. Он не приближается к границам Польши, а удаляется от нее, он уехал в Италию. Коллонтай пишет письма, воззвания, даже разработал «акт восстания», но в самое восстание не верит…
Тут раздался стук в дверь. Заговорщики отдернули занавеси, распахнули окна. Дембовский уселся за клавесин…
Дзялынский открыл дверь и удивился:
— Пан бургомистр?
Капостас, небрежно одетый, вошел в комнату, уселся, отдышался и еле вымолвил:
— Беда… Нас предали… Какой-то подлец отдал нас в руки полиции. — Он поднялся и направился к двери.
— Куда, пан Капостас?
— Уезжаю. Уезжаю из Варшавы. И вам советую.
Его не удерживали.
Шумели деревья за окном. Доносился мягкий рокот Вислы. Гулко протарахтела повозка.
— Братья, — сказал Дзялынский. — Дольше откладывать нельзя. Или с Костюшкой, или без него!
— С Костюшкой! — крикнул Дембовский.
— Уговорить Костюшко! — подхватил Ледуховский.
— Согласен, — заявил Дзялынский. — Тогда предлагаю: пусть Орсетти и Зелинский отправятся сегодня же ночью в наши гарнизоны и соберут там подписи офицеров. Павликовский отвезет эти подписи Костюшко. Сегодня же ночью пусть Ельский от гражданского кружка и Гушковский от нашего военного выедут в Италию к Костюшке. Они должны убедить его, что откладывать нельзя, что армию распускают, лучшие офицеры разбредутся, и мы останемся без военного ядра. Пусть они убедят его: или сейчас, или никогда! Пусть они ему скажут: народ готов, народ требует. Или он поведет народ, или народ пойдет без него!
Все согласились с Дзялынским, и все было сделано так, как он предложил.
Но сам генерал Дзялынский уже не принимал участия в осуществлении своего плана. Какой-то подлец действительно выдал тарговичанам имена заговорщиков. Начались аресты в Варшаве и Вильнюсе. Одним из первых был арестован генерал Дзялынский.
В эту же ночь совещались руководители гражданских кружков. Ремесленники настаивали: выступить немедленно, овладеть королевским Замком, обезоружить русский и прусский гарнизоны. Бургомистр Капостас, собирающийся тут же после совета бежать из Варшавы, разразился такой трусливой речью, что ксендз Мейер бросился на него с кулаками.
После споров, криков и ругани все же пришли к единому решению: не Прозора и не князя Юзефа Понятовского поставить во главе восстания, а только генерала Костюшко и к нему для переговоров направить Мейера.
Это решение было также осуществлено.
В марте 1794 года Костюшко выехал в Польшу. Он решился начать восстание не потому, что Эльаш Алое упал перед ним на колени и именем родины умолял его принять командование. Костюшко знал, что народ не готов к выступлению, но из сотен донесений убедился, что восстание неминуемо вспыхнет, без единого руководства, без направляющего центра.
Костюшко направил в Польшу Марушевского с воззванием к польским офицерам и солдатам, а сам, вооруженный «Актом восстания», выработанным им совместно с Коллонтаем и Игнатием Потоцким, двинулся к Кракову.
Этот город он выбрал не случайно. Генерал Мадалинский, командир кавалерийской бригады, сообщил ему: «Не подчинюсь приказу о роспуске бригады и пойду в Краков». Оком полководца Костюшко предвидел, какая создастся обстановка. В Кракове находится всего один русский батальон подполковника Лукошина, и этот батальон, конечно, власти направят против Мадалинского. В городе останется польский гарнизон генерала Водзицкого, члена военной организации.
Костюшко избрал Краков еще и потому, что решил договориться с Вебером, «командующим пограничных областей его императорского величества», о нейтралитете Австрии, обещав ему, что повстанцы не будут нарушать австрийской границы. Это Костюшке удалось впоследствии сделать.
Ночь с 23 на 24 марта Костюшко провел в лесу недалеко от Кракова. В лесу хозяйничал ветер. Голые деревья, влажные после недавнего дождя, таинственно поблескивали. Вокруг Костюшки, прислонившись спиной к деревьям, сидело человек двадцать. Рядом паслись стреноженные кони.
Костюшко лежал на земле, головой к Кракову. Сейчас, в эту ночь, решается судьба восстания. Генерал Мадалинский должен подойти со своей кавалерийской бригадой, если он прорвется сквозь русский заслон. Должен прибыть и Ян Шляский с двумя тысячами крестьян, кракусами. Но нет ни гонца от Мадалинского, нет и Шляского.
Не радостны мысли Тадеуша Костюшки, главного начальника восстания. Он знал, что лучшая часть польского народа идет в бой, как шли фермеры и ремесленники в Северной Америке, что лучшая часть польского народа живет теми же помыслами и теми же идеями, какими жили американские солдаты в войне за независимость. Всеми своими помыслами был Костюшко готов к такой войне. Для себя он ничего не ищет. Как Тимолеон, добыв свободу для своего народа, ушел в тень, предоставив народу воспользоваться плодами победы, так и он, Костюшко, вырвав Польшу из лап иезуитских мракобесов и жадных магнатов, уйдет в сторону, дабы сам народ стал полновластным вершителем своей судьбы.

Генерал Ян Генрих Домбровский.

Генерал Якуб Ясинский.
Вступив на родную землю, вступив как призванный вождь восстания, он писал:
«Пусть никто, кто добродетельный, не жаждет власти. Мне ее вручили в критический момент. Не знаю, заслужил ли я это доверие, но знаю то, что врученная мне власть есть только инструмент для успешной защиты моей родины».
Неограниченная военная власть, всенародная популярность не вскружили голову Костюшке. Наоборот, чем шире распространялась его слава, чем гуще стал фимиам льстецов, тем сдержаннее, тем скромнее становились речи и высказывания Костюшки. Он знал, на что способен, но не только сердцем, но и умом понимал, что в эту грозную минуту руль управления должен находиться в руках спокойного, рассудительного, трезвого человека, не поддающегося ни на лесть, ни на угрозы.
Случилось так, как предвидел Костюшко, — прискакал гонец:
— Лукошин ушел со своим батальоном!
Костюшко поднялся.
— В Краков!
Все вскочили на ноги, бросились ловить коней.
На карьере, возглавляя небольшой отряд, Костюшко ворвался в ночной город и, не сбавляя бега, подскакал к дому генерала Водзицкого. Там его уже ждали депутат Линовский, Стефан Дембский, Тадеуш Чацкий и другие члены патриотических организаций. Они проговорили до рассвета и выработали план ближайших действий.
В марте выпадают иногда такие дни, когда природа, точно хвастливая хозяйка, показывает людям, какие чудесные весенние дары она для них приготовила. Таким днем было 24 марта. Над Краковом голубое небо. Улицы залиты солнцем. Шпили костелов горят. Огромная Рыночная площадь запружена народом, все в праздничном одеянии. Против костела Капуцинов выстроен ротными колоннами местный гарнизон. Впереди, в парадной форме, генерал Вод-зицкий. Правее, ближе к Кажмержу, городские ратманы с президентом Лихоцким во главе. От Шевцкой улицы до щели Флориянского переулка стоят ремесленники. Реют цеховые знамена, шелестят полотнища с надписями: «Свобода или смерть», «За право и свободу».
Когда трубач на башне Марияцкого костела протрубил полуденный час, выехал Костюшко из узкой улочки Святой Анны. По обеим сторонам — Рафаил Коллонтай и генерал Зайончек; за ними, по трое в ряд, штабные офицеры и патриоты в штатском.
Появление Костюшки на площади было встречено кличами: «Виват!», «Нех жие!», «Костюшко с нами!»
Генерал Водзицкий подошел с рапортом.
Началась присяга — присягали солдаты и офицеры местного гарнизона:
«Присягаю, что буду верен польскому народу и повиноваться Тадеушу Костюшке, наивысшему начальнику, призванному народом для защиты вольности, свобод и независимости ойчизны».
Наступила тишина. Костюшко поднялся на возвышение. Он был виден от края до края. Его густые и длинные пепельные волосы, пронизанные солнцем, сияли, точно золотая корона.
В тишину ворвался звонкий голос:
«Я, Тадеуш Костюшко, присягаю перед лицом бога всему народу польскому, что вверенную мне власть я не употреблю на угнетение, а исключительно для защиты наших границ, для восстановления самодержавия народа и укрепления всеобщей свободы употреблять буду…»
Тишина стояла такая, что каждое слово присяги, дойдя до стен высоких домов, возвращалось на площадь ясным эхом.
Народ рванулся с места: все хотели оказаться как можно ближе к человеку, с именем которого связаны надежды на счастливое будущее; к человеку, которому он поверил и сердцем и разумом.
В ратуше продолжались торжества: президент Лихоцкий зачитал «Акт восстания граждан — жителей воеводства Краковского»:
«Всему свету известно теперешнее состояние несчастной Польши. Подлость двух соседних государств и преступления предателей ойчизны столкнули ее в эту пропасть. Желая уничтожить само имя Польши, Екатерина II в сговоре с вероломным Фридрихом Вильгельмом осуществила свой беззаконный замысел…»
Народ подписывает этот акт, и слезы текут по лицам. Впервые в Польше мещане и крестьяне призваны вершить государственные дела; впервые в Польше появятся на важнейшем государственном акте подписи тех, которые до этого дня были лишены всяческих прав; впервые в государственный акт включены не одни только ясновельможные шляхтичи, но и мещане, ремесленники, крестьяне; впервые в государственном акте ясно сказано, что все поляки «граждане одной земли». Именно от их имени начальник вооруженных сил Тадеуш Костюшко получил власть, получил права диктатора.
Мещане, ремесленники, рыбаки, купцы, крестьяне, подписав акт, подходили к соседнему столу и клали на тарелки золото, серебро и даже медные кольца. Каждый давал сколько мог, но давали от всего сердца, со слезами радости. Когда рыбак Ян Гржива положил на тарелку двадцать злотых, а видно было, что это все его состояние, Костюшко обнял его, прижал к своему сердцу.
Прошла неделя в трудах, в заботах, в совещаниях и собраниях. Костюшко рассылал воззвания, письма: войскам, духовенству, шляхте, польским женщинам. Кузнецы ковали оружие, портные шили обмундирование, сапожники тачали сапоги, мещане на дому и во вновь организованных мастерских готовили белье, купцы собирали деньги, продукты, ценности.
Костюшко вызвал из Саксонии Гуго Коллонтая и Игнатия Потоцкого. Коллонтай, несмотря на приступ подагры, немедленно собрался в путь, и это удивило Потоцкого.
«Неужели он испугался, — подумал Потоцкий, — угрозы, которая слышалась в письме Костюшки?»
Потоцкий присутствовал при прощальной беседе Костюшки с Коллонтаем.
— Остерегаю и заклинаю вас, генерал, не начинайте восстания до тех пор, пока не будете уверены, что к вам примкнут хотя бы три воеводства: Краковское, Сандомирское и Люблинское. Вспомните кампанию девяносто второго года: энтузиазма было много, а пользы почти никакой. Лучше не начинать, чем вовсе погубить дело.
Потоцкий получил донесение, что, кроме Кракова и какой-то части его округи, ни одно воеводство не пристало к восстанию. Об этом он сказал Коллонтаю.
— Дорогой Игнатий, — ответил Коллонтай, поглаживая больное колено. — Надо решиться на любое усилие, которое способно стереть позор нашего поколения. Вместе с Костюшкой начали, вместе с ним и должны продолжать. В перспективе? Все зависит от народа. А разве польский народ не способен подняться до таких вершин и побеждать логике вопреки, подобно французам? Способен, дорогой Игнатий! К тому еще учтите время. Французская революция подложила мины под все европейские деспотии. Нам еще трудно оценить все значение этой революции, но произошло что-то грандиозное, и оно работает на нас. Едем, дорогой Игнатий!
Потоцкий вел в эти дни переговоры с французским правительством через своего представителя Брасса. Робеспьер сказал Брассу: «Пусть поляки начинают, а французы сделают все, чтобы потоки всяческой помощи поплыли в их страну».
Кроме всего этого, Берлин и Петербург настойчиво потребовали от саксонских властей ареста Коллонтая и Потоцкого как зачинщиков восстания.
— Вы правы, пан Гуго. Едем, — подвел Игнатий Потоцкий итог своим мыслям.
17 апреля они уже были в Кракове. Гуго Коллонтая вынесли из кареты на руках: не мог из-за подагры передвигаться. Несмотря на это, он тут же принялся за дело.
Лихоцкий, президент Кракова и тарговичанин, перешедший к Костюшке из трусости, пишет в своем дневнике: «Прибыл в Краков имч Гуго Коллонтай, каноник краковский и коронный подканцлер, около которого немедленно зароились, словно слепни или мухи, мнимые патриоты… Он составил уголовный суд для устрашения людей… Эти деятельные патриоты бросились с благословения прелата Коллонтая в костелы, изъяли оттуда серебро, сосуды, из святых реликвий вылущивали ножами серебро…»
Конечно, тарговичанин и трус Лихоцкий клевещет, но из его дневника видно, какую деятельность развернул Коллонтай в первые же дни восстания.
Генерал Мадалинский вырвался, наконец, из окружения и двигался к Кракову. Явился и Ян Шляский со своими кракусами. Они выстроились для смотра.
Костюшко видел в Америке немецких наемников в ярких камзолах, шотландцев с клетчатыми одеялами через плечо, негров, босых и в мешковине, фермеров с Запада в кожаных штанах и широких шляпах, но такого войска, как кракусы, Костюшко никогда еще не видел. В сермягах, на голове войлочные каптуры, в широких штанах из домотканой холстины, а в руках толстые колья с расточенными косами, насаженными на них торчком. Все кряжистые, широкоспинные, с лицами, точно высеченными из камня.
«Это зухы[41],— подумал Костюшко, — они будут драться точно так, как работали: со всего плеча».
Вслед за кракусами пришли гурали из-под Закопане — пятьсот человек.
Но можно ли в несколько дней собрать, снарядить и обучить армию? Это не дано никому. А неприятель уже приближался.
1 апреля пришлось Костюшке выступить из Кракова, выступить с тем, что было у него под рукой: тысяча солдат Краковского гарнизона, две тысячи плохо вооруженных добровольцев, бригада Мадалинского и отряд Мангета — всего тысяча шестьсот сабель и две тысячи кракусов.
Костюшко двигался на север в сторону Радома, где русский посол Игельстром накапливал силы для разгрома повстанцев. В верстах шестидесяти от Кракова, возле деревни Рацлавицы, Костюшко решил закрепиться: его инженерный глаз нашел позицию, удобную и для боя и для обороны. Поле, перерезанное глубоким и длинным оврагом, горка, а по другую сторону поля, откуда придут русские, густой лес.
Костюшко велел окапываться лицом к лесу. Сам занял центр, справа поставил генерала Мадалинского и Мангета с кавалерией, слева — генерала Зайончека с пехотой. Кракусов он оставил в резерве за горкой.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
НАПЕРЕКОР ТЕОРИИ
НАПЕРЕКОР ТЕОРИИ Вторую половину нашего века СССР, а затем Россия строили экономику и народное хозяйство по антибогдановским принципам. К чему это привело, свидетельствует небывалый даже в сравнении с Отечественной войной упадок производства, демографический и
Часть вторая НАПЕРЕКОР
Часть вторая НАПЕРЕКОР 15. ДОБРОМ ПОЖАЛОВАННЫЕПосле воссоздания независимой, нейтральной республики Австрия, согласно договору, часть наших войск покидала Вену. В одном из эшелонов отправляли и меня. Перед отправкой на вокзал, во дворе особняка, где размещалось
Наперекор западной культуре
Наперекор западной культуре Хочу обратить внимание на весьма примечательный факт, что в большинстве своем в российском эфире звучат русскоязычные песни. И если киноискусство, например, испытывает колоссальное давление Голливуда, и в кинотеатрах большинство лент
Дружба наперекор всему
Дружба наперекор всему Узнав у специалистов по транспортным перевозкам, что немецкие логисты самые «продвинутые», мы решили взять у них несколько уроков. Помощь нам предложил мой старый знакомый и хороший товарищ Зигмунд Йен, первый немецкий космонавт. Он быстро
Глава 5 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ: НА ПОДСТУПАХ К СУДЬБЕ
Глава 5 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ: НА ПОДСТУПАХ К СУДЬБЕ Существует легенда, что Чавес ступил на порог академии с томиком «Партизанских дневников» Че Гевары. Поддерживают её в оппозиционных кругах для того, чтобы доказать: Чавес с самого начала военной карьеры вынашивал
Глава 5 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ: НА ПОДСТУПАХ К СУДЬБЕ
Глава 5 ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ: НА ПОДСТУПАХ К СУДЬБЕ Существует легенда, что Чавес ступил на порог академии с томиком «Партизанских дневников» Че Гевары. Поддерживают её в оппозиционных кругах для того, чтобы доказать: Чавес с самого начала военной карьеры вынашивал тайные
Глава VI. Об интеллигенции, ее судьбе и ответственности
Глава VI. Об интеллигенции, ее судьбе и ответственности Становлюсь ли я интеллигентом? Ощущение своей принадлежности к интеллигенции было одним из довольно ранних. Оно возникло задолго до того, как я стал задумываться о смысле этого слова. Поэднее я нередко сам себе
Глава XIII ПОКОРНОСТЬ СУДЬБЕ
Глава XIII ПОКОРНОСТЬ СУДЬБЕ Когда Гёте в середине октября приехал в Веймар, было холодно. В доме была затоплена большая печь. Кристиана вышла ему навстречу с выражением меланхоличного счастья, которого он до сих пор у неё не замечал. Как она
Наперекор стихии
Наперекор стихии Я совершил пятнадцать полетов над льдами дикой, своевольной Арктики. Люди говорят, что летать там, где пролетал мой самолет, садиться на пловучие льдины и стартовать с дрейфующего льда – сплошное безумие.Я разрешу себе не согласиться с таким мнением. В