ГЛАВА ВТОРАЯ ПОИСКИ ПУТИ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПОИСКИ ПУТИ
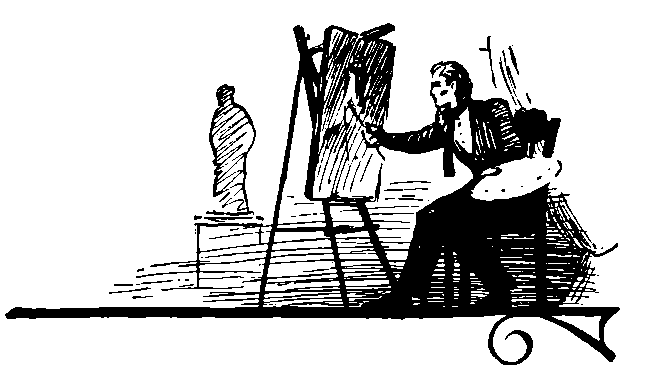
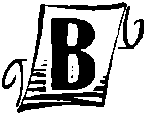 корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.
корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.
Париж поразил Костюшко не тем, что это был большой и красивый город» а тем, что бедный люд хотя и оказывает почтение богатому, но без униженности, без умаления своего человеческого достоинства. А в Польше? «Повозочный шляхтич» (едущий в повозке, не в карете) сам считает, что он не ровня графам замойским или грохольским. А в Париже, в Академии живописи и ваяния, которая размещается в Лувре под оком короля и где наряду с маркизами занимаются сыновья часовщиков и даже лакеев, никакому герцогскому отпрыску и на ум не придет говорить с плебеем языком ясновельможного пана Гоздского.
Жизнь в Париже началась для Костюшки с забавного приключения. Он поселился в большой светлой комнате на третьем этаже респектабельного дома по улице Малых Августинов. Переехал он на квартиру вечером, несколько часов устраивался, написал письма брату и сестрам, написал письмо Людвике, несколько раз его переписывал и все же уничтожил, посидел у раскрытого окна, хотя осенний дождь навевал нерадостные мысли, и, когда куранты на ближайшем соборе пробили два часа, лег спать.
Но спать пришлось недолго: в квартире этажом выше так загрохотало, что спросонья Костюшке почудилось, будто потолок рухнул.
Так продолжалось часа полтора. Когда верхние жильцы угомонились, Костюшко снова улегся в постель и проспал до вечера. А вечером старушки хозяйки не оказалось дома, и он не смог узнать причины утреннего грохота.
На следующий день повторилась та же история. Костюшко, возмущенный, поднялся на четвертый этаж, раскрыл дверь — и остолбенел. Просторная комната с покатым потолком. Посреди — странная пирамида, построенная из столов и табуретов. На вершине пирамиды — голый мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Двое мужчин, в одних коротких рубахах, зацепившись ногами за какие-то перекладинки, свисали с обеих сторон пирамиды, свисали плашмя, параллельно полу, и перебрасывались через голову мальчонки пустыми бутылками.
В углу, под нависшим потолком, были разбросаны мешки с соломой. На одном из них, прикрытая ветошью, спала женщина, длинноволосая, с впалыми, точно провалившимися, щеками.
Мужчины соскочили на пол. Один из них, с красивым и гордым лицом, подошел к Костюшке.
— Месье извинит, — сказал он церемонно, — я и брат мой Филипп не совсем одеты, но мы не ждали вашего визита.
Костюшко обрел дар речи:
— Вы меня простите, господа, но я живу под вами.
Женщина, оказывается, не спала. Она приподнялась и сказала укоризненно:
— Я тебе говорила, Анри, нельзя так рано людей беспокоить.
— Мы вас беспокоим? — искренне удивился Анри. — Тысяча извинений, месье!
— Вам, кавалер, не повезло с квартирой, — весело сказал Филипп. — Жить под акробатами, должно быть, не особенно приятно.
— И я такого мнения, — подтвердил Костюшко. — Но я привыкну. Пожалуйста, не стесняйтесь.
— Они скоро уедут, месье, — заявила женщина. — На ярмарку в Руан.
Действительно, дней через десять грохот прекратился, и, если честно сказать, Костюшко пожалел об этом. Ему нужен был «большой день».
В академии, слушая лекции и участвуя в беседах товарищей, Костюшко понял, что искусство многогранно, как хорошо отшлифованный алмаз. И настоящий художник должен видеть все эти грани. Костюшко умеет рисовать, но его рисунки передают лишь внешние формы предметов. Его картины похожи на пустой ананас — хорошо выписаны шипы, но за шипами не угадывается сочный плод.
Еще в школе отцов-пиаров Костюшко записал в свой дневник: «Строго выполнять обязанности», и этому правилу он неуклонно следовал. Его обязали стать художником — он им станет!
В библиотеках Сен-Женевьев, Мазарини и в Королевской студентам выдавали на дом книги. Костюшко широко использовал эту привилегию, и, как в былое время, вставал с рассветом и при мигании свечей читал, изучал.

Варшава. Гравюра 1770 года. Каналетто.

Гуго Коллонтай.

Игнатий Потоцкий.
Костюшко приехал во Францию в то время, когда история делала крутой поворот, когда в воздухе уже чувствовалось приближение очистительного урагана революции. «Религия, взгляды на природу, общество, государство — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности… Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам»[9]. Не видеть всего этого, не слышать всего этого Костюшко не мог: об этом говорили в мастерских академии, об этом говорили за столиками в кафе. Костюшке подчас чудилось, что он вновь очутился в парке Рыцарской школы, и, чтобы принимать участие в беспрерывных товарищеских спорах, он принялся читать Вольтера и Дидро, «Дух законов» Монтескье и «Естественную историю» Бюффона.
Как река, обтекая горы и петляя, докатывается широким руслом к морю, так и мысль Костюшки, пробившись сквозь философские сложности, добралась до нескольких бесспорных истин: Костюшко убедился, что благосостояние страны создается руками народа, а над народом, создающим богатства, властвует кучка богатых мошенников; Костюшко уверовал, что равенство — естественное право человека.
Все это обогатило его ум, дало ему возможность принимать участие в товарищеских спорах, но все же основное осталось без ответа: где истоки несправедливости, в чем первопричина?
Костюшко бывал часто в Латинском квартале. На склоне горы св. Женевьевы жили рабочие кожевенных предприятий, расположенных по берегам Бьевры, и пивоваренных заводов, помещавшихся на улице Муфтар. Жилые кварталы были похожи на пчелиный улей, где рабочая семья занимала крохотную ячейку, — туда не только солнце не заглядывало, но и воздуха для дыхания не хватало. Улочки были так узки, что хозяйки, живущие друг против друга, по двум сторонам мостовой, переговаривались и обменивались мелкими услугами через окна. Взрослые — худые, в лохмотьях, дети — голые, со вздутыми животами. В этих улочках всегда пахло дымом, паленым волосом, и Костюшке казалось, что все эти запахи задержались еще с того времени, когда на площади Мобер сжигали еретиков. А спустишься с холма — дворцы, утопающие в зелени, музыка из окон, детский смех…
Где первопричина? Ведь не только в отсутствии равенства между людьми или в том, что властвует кучка мошенников, — все это уже следствие, а не причина.
Руссо пишет: «Первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были столь простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвел бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к человечеству: «Не слушайте этого обманщика! Вы погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!»
Если в этом причина, думал Костюшко, то как восстановить справедливость?
Костюшко поймал себя на том, что заранее знает, где тупик. Отказаться от собственности? Я отдам Сехновицы, князь Чарторийский отдаст Пулавы, вся шляхта отдаст свои земли — собственность будет раздроблена, жизнь переместится в крохотные ячейки, и государство превратится в пчелиный улей…
Нет, это не решение!
По воскресеньям и праздникам Костюшко разрешал себе прогулку за город с товарищами. Под сенью вязов Лувра или на лужайках Фонтенбло они говорили об искусстве.
У каждого из его друзей была своя теория. Рыжеволосый великан Ван-Лоэ утверждал, что всё в мире: и люди и вещи — отливает зеленым и красным цветом и только сочетание этих красок может воссоздать живую природу.
Стройный, с тонкими чертами лица Давид едко высмеивал рыжего Ван-Лоэ:
— Красок столько, сколько лиц, сколько тел, сколько рек, деревьев. И не в красках дело, не в них ценность картины. Ценность картины в строгой, психологически верной композиции. Неважно, что на кушетке лежит анатомически верно выписанная женщина, не это важно, а важно, как она лежит и почему лежит. Вылей ты на такую женщину хоть целое ведро своего зелено-красного, но не сумей выразить ее чувств, будь то в изгибе руки, во взгляде, в повороте головы или в напряженности ног, твоя натура покажется всем причудливо раскрашенным куском мяса.
Изящный, похожий на красивую чернявую девушку, Вернэ соглашался и с Давидом и с Ван-Лоэ, но неизменно добавлял:
— А вы, друзья, все же забываете, что Рембрандт добивался воздействия на зрителя какой-нибудь ярко выписанной деталью. И Рембрандт не единственный художник, который проник в секрет деталей. Улыбка Джоконды, тонкое деревцо Рафаэля — все это результат многолетних поисков, поисков, доведенных до гениального совершенства. Проблема красок — серьезная проблема, и хорошо, что ты, Ван-Лоэ, болеешь ею. Проблема композиций — серьезная проблема, но ты, Давид, не прав, считая ее единственной панацеей в живописи. Проблем много, и прав Костюшко, который нырнул в океан искусства, чтобы изведать его глубину.
Костюшко ответил спокойно, без взволнованности друзей:
— Я нырнул в океан, это верно, но чем глубже я опускаюсь, тем больше убеждаюсь, что никогда не достигну дна, и не потому, что у меня мужества не хватит дойти до конца, а потому, что океан, по-видимому, бездонный. Вы говорите о красках, о композиции, о деталях, а ведь не это основное в живописи. Вот Дидро считает, что всякое произведение живописи должно быть выражением большой идеи, должно быть поучительно для зрителя, — без этого произведение будет немым. И Дидро прав! Искусство должно не ублажать, а поднимать, воодушевлять, облагораживать, внушать зрителю высокие добродетели…
Костюшко говорил убежденно, страстно, и товарищи обычно соглашались с ним. Но после каждого такого спора Костюшко ловил себя на мысли: «А ты-то сам, как художник, можешь доказать правоту Дидро? Не словами, а кистью?»
Шесть месяцев общался он с этими тремя полюбившимися ему юношами и за это время убедился: как рыба не может жить вне воды, так они, три его друга, не могут жить без искусства. Все, что видят их глаза, мгновенно превращается в картину: лужайки в Фонтенбло — пейзаж, люди — портреты, происшествия на улице — жанровая зарисовка. Однажды им встретилась похоронная процессия. На высоком катафалке стоял гроб, обитый черным крепом. Вернэ сказал: «Глаза у мертвеца западают, и это страшно». Ван-Лоэ сказал: «Не это страшно, страшно зеленое лицо». Давид сказал: «Я хотел бы поглядеть, как у мертвеца сложены руки: переплетены они в пальцах или лежат вдоль тела». А Костюшко поймал себя на том, что его мысли текли совсем не в русле искусства: ему было просто жаль ушедшего из жизни человека.
Эту внутреннюю потребность видеть все в красках или в композиции Костюшко считал качествами настоящего художника, и, будучи предельно честным с собой и с людьми, он должен был сказать своим друзьям: «Из меня навряд ли получится художник». Но этих слов не сказал: где-то глубоко теплилась надежда, что все-таки своего добьется.
Преподавание в академии напоминало Костюшке и Любашевскую бурсу и Рыцарскую школу. Одни профессора да и сам директор Пуассон де Мариньи говорили много об «идейном искусстве», видя эти идеи в страданьях св. Роха, во снах св. Франциска, в раскаянии св. Магдалины. Другие же во главе с прославленным Кошеноном-младшим проповедовали сочную красочность, человеческие страсти, декоративный портрет, поэтический пейзаж.
Костюшко в отличие от своих друзей не искал собственного пути — он пробовал себя и в божественном и в человеческом, чтобы, найдя самое выразительное в одном из двух направлений, выйти на дорогу совершенства.
Жизнь Костюшки была бедна происшествиями, путь к цели был слишком далек, чтобы позволить себе тратить время на заманчивые приключения аристократов или на отвлекающие от дела политические споры в среде плебеев. Труд, работа стали для него той вифлеемской звездой, о которой с таким чисто французским увлечением говорил профессор Maриньи.
Но и в этих суровых условиях был бы Костюшко счастлив, если не тоска по Людвике. Гордость не разрешала ему напомнить о себе, а она молчала.
Проходили месяцы. Привратница все реже стала выходить из своей подлестничной каморки, чтобы не встретиться с ого вопрошающим взглядом: Людвика не писала.
Минул год рабочего угара. Профессор Мариньи, собираясь уезжать, назначил просмотр студенческих работ. Костюшко закончил портрет пожилого человека, чем-то напомнившего ему Дон-Кихота. Этот портрет он и решил показать директору.
Пуассон де Мариньи, рослый, представительный, в черном шелковом кафтане и воланами кружев вокруг шеи, уселся против мольберта и минут пять смотрел на портрет пристально и сосредоточенно.
— Мило, — сказал он наконец, но это, в сущности, похвальное слово прозвучало с издевательской ироничностью, особенно в сочетании с быстрым вороватым взглядом, которым Мариньи обменялся со стоявшим рядом Кошеноном.
— Вам не нравится? — спокойно спросил Костюшко, проникнув в истинный смысл и тона и взгляда Мариньи.
— Месье Костюшко, — любезно ответил профессор. — Так ставить вопрос нельзя. Тут дело не в моем или вашем вкусе. Тут дело в принципиальном взгляде. Портрет сделан очень мило. Анатомия — без греха. Пропорции соблюдены. Есть лицо, есть торс, есть руки, а человека нет. Кто он, не знаю; о чем он думает, не вижу. Если я его встречу на улице, не узнаю: вы не наделили его ни единой запоминающейся деталью, которая была бы присуща именно ему, в отличие от других, похожих на него людей. Портрет — это не зеркало. Кисть портретиста, подобно ланцету прозектора, должна уходить вглубь, а не скользить по поверхности. — Он поднялся, протянул руку. — Надеюсь, вы не обиделись на меня, месье Костюшко. У вас мило получилось, чистенько, а глубина, будем надеяться, придет. Придет, месье Костюшко.
Профессор ушел, а вслед за ним ушел из мастерской и Костюшко. Другой, менее мужественный и менее честный студент нашел бы утешение в последних словах многоопытного Мариньи, но Костюшко осознал именно первую, осуждающую часть краткой лекции и понял не только то, что профессор сказал, а также и то, чего он по деликатности, щадя студента, не сказал. Костюшко понял: случилось именно то, что должно было случиться, — отсутствие подлинного таланта нельзя возместить даже сизифовым трудом. Ведь до поступления в академию он и не думал, что живопись будет делом его жизни, а в академии, общаясь с истинно талантливыми людьми, убедился: художниками не делаются, а рождаются. Стать же посредственностью, ремесленником Костюшко не желал.
Придя домой, он сам себе приготовил любимый напиток — черный кофе и с дымящейся чашкой в руке подсел к окну. Закончился третий этап. Любашевская бурса внушила ему отвращение к сутане и тоску по бескорыстной героике; Рыцарская школа привила ему любовь к родине и желание служить ей; академия убедила его, что человек должен выбрать для себя жизненную дорогу не по указанию короля, а по собственному влечению.
Куда, на какую дорогу его влечет? Кем он видел себя в мечтах? Солдатом, и только солдатом на службе отчизны!
Костюшко поставил чашку на стол, увязал книги, отнес их в библиотеки и… покончил с академией и с живописью.
Начался четвертый этап — жизнь по призванию. Собственно, начался не сам этап, а подготовка к нему. Прямо из последней библиотеки Костюшко поехал в Фонтенбло, уселся на узорчатую скамью и повел сам с собой мысленный разговор.
Чему учиться? Под какой камень подвести архимедов рычаг?
Военная служба! В качестве кого? Польша славится своей кавалерией, но стать уланским офицером бессмысленно: прошло уже то время, когда конь решал исход боя. Он неплохой математик, мог бы найти применение своим знаниям в артиллерии, но польская артиллерия, хотя по калибрам и отстает от русской или прусской, все же сильна и традицией и кадрами. Следовательно, он станет одним из рядовых артиллеристов. Не устраивает. А вот инженерная служба у нас в зачаточном состоянии. И это плачевно. Опытные французские военачальники не зря восхваляют инженера Вобана, и совсем не случайно такой выдающийся теоретик, как военный министр Сен-Жермен, оказывает исключительное внимание инженерным училищам в Мезиере и в Бароме. А он приобрел именно те знания (математика и рисование), которые нужны хорошему военному инженеру.
Решить, желать еще не значит сделать. Костюшку не приняли ни в Мезиере, ни в Бароме: у него не было высокопоставленного покровителя. Однако он не сдался: если нельзя числиться курсантом, то можно пройти курс в училище наравне с курсантами — без присвоенных им прав и привилегий.
Костюшко попал в новый мир. Выдающиеся математики Босю, Моннэ, Перанэ раскрывали перед ним гениальную простоту сложных формул, а военные инженеры Гуэн и Молино на экскурсиях по крепостям и на полевых вылазках учили его применять эти сложные математические формулы на практике.
Четыре года упрямого труда потратил Костюш-ко на овладение искусством добывать из камня и земли добавочные мощности для усиления воинских частей в бою и в обороне.
Молодые инженерные офицеры, с которыми Костюшке пришлось общаться, разительно отличались от слушателей Академии живописи. Художники видели мир в красках, в композиционных построениях, военные инженеры этот же мир видели в его национальных противоречиях. Они говорили не только о плацдармах будущих боев, но и об идеях, во имя которых народы пойдут в бой.
Во Франции, как и в Польше, сынки «ясновельможных» шли в гвардию, в кавалерию; в Мезиере или в Бароме их не было: состав слушателей — сплошь выходцы из буржуазных и интеллигентных семей, с явным преобладанием поклонников Вольтера, Дидро, Монтескье. И профессура в большей своей части была тех же убеждений. Когда один из слушателей, молоденький лейтенант, написал на доске: «Свет начинает распространяться, мы приближаемся к веку революции. Молодежь счастлива: увидит прекрасные вещи», профессор Босю, зайдя в класс и прочитав написанное на доске, сказал: «Сотрите, мой лейтенант. Раньше математика, а Вольтер на десерт».
Под влиянием своих новых друзей Костюшко занялся трудами Тюрго, Дюпона де Немур и Квеснея — основателя школы физиократов. Учение этой школы особенно привлекало Костюшко. Они учили: «Бедные крестьяне — это бедное государство». Не в бедности ли крестьян кроется основа основ польских несчастий?
В один из ветреных зимних дней, переступив после недельной отлучки порог своей вымороженной комнаты, Костюшко неожиданно для себя выругался:
— Сто дьяволов и десять зеленых чертенят в зубы твоему будущему жениху!
Это «пожелание» относилось к служанке, нескладной, мужеподобной Жозефине.
Костюшко разделся, зашел к квартирной хозяйке, доброй старушке, вечно воюющей с пылью. Он был так раздражен, что даже забыл поздороваться. Спросил раздраженно:
— Почему Жозефина камин не топила?
Старушка прижала к сердцу пыльную тряпку, запричитала:
— Вы вернулись, месье Костюшко? Какая неприятность. Жозефина наверху, у комедиантов. Посидите пока у меня, отогрейтесь, а я сбегаю за Жозефиной. Она мигом затопит у вас камин.
Костюшко уже внутренне краснел за свою грубую выходку.
— Не беспокойтесь, мадам Гаро, я сам пойду за ней.
— Если вы считаете это удобным для себя.
Костюшко поднялся на четвертый этаж. Под нависшим потолком, на соломенном тюфяке, распластавшись, лежала женщина, та, которую он уже однажды видел. Возле нее, на табурете, — Жозефина. Посреди комнаты — стол. Больше никакой мебели.
Жозефина повернула голову, взволновалась:
— Вы вернулись? Мой боже! У вас в комнате холодно! Сейчас спущусь!
— Не надо, потерплю, — успокоил ее Костюшко. — Скажите, что с этой дамой?
— Горит вся.
— Давно?
— Уже четвертые сутки.
— Что вы ей даете?
— Она ничего не ест. Одну холодную воду пьет.
Костюшко подошел к больной: она лежала с закрытыми глазами, закинув голову, и прерывисто дышала. Нос еще больше заострился, щеки глубже запали. Лицо красное, в испарине. Пот скапливался в уголках рта.
— Посидите, Жозефина, у нее. С камином я сам справлюсь.
И он, как был, без плаща и без шляпы, побежал «а улицу Камартэн к доктору Вернону, у которого сам когда-то лечился.
— Мой польский друг, — встретил его доктор укоризненным взглядом, — в такую погоду не выходят из дому без плаща.
— Нужда заставила, уважаемый мэтр, — женщина умирает.
— Тем меньше основания рисковать своей жизнью. Кто эта дама?
— Расскажу по дороге.
До третьего этажа доктор Вернон поднялся с трудом, но охотно. Когда же Костюшко поставил ногу на первую ступеньку следующего этажа, доктор остановился и растерянно спросил:
— На мансарду?
— Да, мэтр, больная там живет.
— А может она оплатить услуги врача?
— Не беспокойтесь, мэтр, я буду оплачивать ваши визиты.
— Тогда идем, мой польский друг.
Женщина проболела около месяца. Жозефина по просьбе Костюшки нашла монашенку, у которой был опыт по уходу за больными, и возможно только благодаря ее умению больная вернулась к жизни.
Мансарда за этот месяц преобразилась: появилась кое-какая мебель, утварь; больная была перенесена на кровать с простыней, с одеялом, с подушкой. Преобразилась и сама больная: лицо округлилось, глаза заискрились, черные волосы потеплели.
Костюшко при всей кажущейся суровости был легко ранимым человеком. Жизнь наносила ему удар за ударом, а со стороны казалось, что он ударов даже и не чувствует. На самом деле ему было больно, только умение не показывать никому своих переживаний вводило всех в заблуждение. Он черпал силы в уверенности, что рано или поздно взойдет его «солнце», что и у него будет кровля над толовой, семья вокруг стола и любимое занятие. А пока, до восхода этого «солнца», надо трудиться, сжавши губы.
В последнее время было ему тоскливо: Людвика молчала, мать умерла, обеим сестрам жилось трудно, и они писали ему редко, старший брат — фанфарон, вовсе им не интересуется. Костюшко угнетало одиночество — ни в чьих глазах не вспыхивает искорка радости при его приближении, ни одна рука не ложится дружеской лаской на его плечо. И вдруг встречает он человека одинокого, как и он, но еще более несчастного, нуждающегося не только в ласке, но и в воздухе.
С детских лет жила в нем потребность раздаривать кусочки своего счастья. В детстве он раздавал ржаные лепешки, снимал с ног сапожки; сейчас, в двадцать восемь лет, он отдавал тепло своего сердца и золото из своего кошелька.
И обоим им было хорошо: ее, комедиантку, бросил муж, ушел куда-то сын, а теперь вместе с уютом, вошедшим в ее дом, возродилась надежда, что муж вернется, вернется к ней и сын, и жизнь опять войдет в свои пазы; для Костюшки же это приключение создавало иллюзию семьи, и ему было грустно, когда его подопечная, выздоровев, куда-то исчезла.
Пять лет, полных пять лет Костюшко провел вдали от родины. Деньги на исходе, а новых получений ждать неоткуда. Король, как часто бывает с королями, обманул: обещал высылать своему стипендиату по тысяче злотых в год — и ни разу не послал. Брат! Выдал ему перед отъездом в Париж семь тысяч злотых в счет будущих доходов с имения — и этим ограничился. Сестры! Сами нуждаются.
Скучный дождливый день. Костюшко сидел в кафе возле окна и смотрел на улицу. Лето, а погода осенняя. Редкие пешеходы. Мужчины прячут бороды в плащах; женщины подымают высоко юбки. Тротуар в лужах. Со стороны Сены налетают порывы ветра, и дождь, словно спасаясь от ветра, стучится в окно.
Неуютно и в кафе. За столиком, склонившись, сидит аббат в мокрой сутане — не то дремлет, не то читает лежащую перед ним газету. За большим столом, где обычно размещается человек десять, устроилась тощая, с длинной шеей женщина. Она теребит концы белой косынки и неотрывно смотрит в сторону буфетной стойки. Перед женщиной — стакан с розовым сиропом, и крупная черная муха, густо жужжа, кружит вокруг стакана. Боком к буфетной стойке, с кружкой пива в согнутой руке стоит усатый верзила; он смотрит на свои забрызганные грязью высокие сапоги.
Как надоела Костюшке эта его бездомность! Пять лет! Давно улетучился подъем первых месяцев, когда ему казалось, что мелок и кисть раскроют перед ним двери в широкий мир. Он обманывал самого себя — ведь с детства мечтал о солдатском мундире, а не о лаврах художника. Юзеф Орловский, поступивший вместе с ним в академию, укорял: «Бросаешь живопись! Меняешь кисть на карабельку!»
«Милый Юзеф, ты не понимаешь, что моя мечта не Парнас, а песчаные шляхи отчизны. В часы раздумья я вижу себя не на Пегасе, а на польском бескрылом конике. Четыре года я проучился, получил то, к чему интуитивно стремился, получил даже больше, чем надеялся, — кроме умения воевать, я приобрел еще умение разбираться в причинах, которые вызывают войны».
Костюшко расплатился и ушел из кафе. Дождь висел сизым парусом. Из луж на тротуаре били маленькие фонтанчики.
Привратница встретила Костюшко с конвертом в руке.
— Месье капитан, вам приятное письмецо!
Он улыбнулся, поблагодарил, хотя видел, что серый, из толстой бумаги конверт не от «нее».
Пять лет ждал Костюшко «приятное письмецо», но оно не приходило. В первые месяцы парижской жизни, в угарные месяцы погони за славой, ни на одно мгновение не покидала уверенность, что Людвика его не забыла. Однако прошли годы — ни одного письма. Боль, правда, притупилась, но стоило ему подумать о Людвике, как она оживала перед его глазами нежной и любящей. Неужели притворялась, была неискрення с ним?
Корпус… Людвика… Мечта о счастье — все позади. А что впереди?
В комнате раскрыто окно. Нудно шумит дождь. Костюшко пододвинул стул к окну, уселся. Из дождя вырисовывались крыши, трубы…
Польша… Отчизна…
По-новому и без националистического пристрастия думал Костюшко о своей родине. Еще в Варшаве видел он, что небо его отчизны заволакивается грозовыми тучами, но здесь, в Париже, он научился сплести в единую нить все крупные и мелкие причины, которые подвели Польшу к краю пропасти. Здесь, в Париже, он получил возможность сравнивать. Франция и Польша — какое разительное несходство! Тут народ: дворяне, интеллигенция, мещане, ремесленники, крестьяне. У всех своя ступенька в государственной лестнице. А у нас? Нет народа! Есть шляхта — в ее руках ключи от жизни, остальной люд — быдло, голодное и униженное. Тут парламент, пусть не выборный, пусть не законодательный, но все же он что-то решает, утверждает. А у нас сейм, выборный, законодательный, но любой шляхтич — со сна, спьяну или за дукат, полученный от магната, — может крикнуть: «Не позвалям!», и закон, уже одобренный 99 процентами голосов, теряет силу. Тут король, хороший или плохой, но вереница предков придает его царствованию блеск и устойчивость. А у нас? Тоже король, но случайный человек, избранный на элекционном поле не большим количеством свободных голосов, а большим количеством купленных глоток и кулаков. Среди случайных королей попадались и дельные люди, но они ничего путного сделать не могли: они были безвластны из-за «особых договоров», что магнаты заключали с «ими при их вступлении на престол.
Внутренние неурядицы и привели к внешнему бессилию. Великая Польша сделалась «постоялым двором» для соседних государств. И кто может закрыть ворота в постоялый двор? Армия? Разве 17 тысяч шляхтичей на резвых кониках да немного артиллерии, пусть хорошей, могут сдержать стотысячные армии соседей? Магнаты не желают создавать современной армии, и они цинично говорят об этом в сейме: содержать пехотные полки — значит обучать военному делу крестьян, что опасно, ибо создает возможность бунтов против шляхты; создавать постоянную армию, говорят они, значит усиливать королевскую власть, а это опасно, ибо, опираясь на такую армию, король может посягать на шляхетские привилегии; постоянная армия, говорят они, требует крупных средств, а шляхта платить подати не желает…
В Париже, вдали от межмагнатной свары, Костюшко имел возможность видеть события в их истинном свете. Он видел не только то, что Польша уменьшилась после первого раздела, но видел и причины, приведшие к этому разделу, видел отдельные ступеньки в той лестнице, по которой Польша спускалась в пропасть.
Начали раздел Пруссия и Австрия. Еще в 1770 году пруссаки заняли часть Великой Польши и Поморья под подлым предлогом: «предотвратить проникновение из Польши эпидемии» — эпидемии, которой в Польше тогда не было. Австрия еще до этого заняла Спиж и почти весь Сандетский повет. Но эти захваты не насытили немцев. Пруссия зарилась на все Поморье и на остальную часть Великой Польши, Австрия — на южные земли Краковского и Сандомирского воеводств, на все Люблинское, Русское и Белзское воеводства и часть Волыни. Россия воспротивилась притязаниям Пруссии и Австрии, но, опасаясь вступления Австрии в войну на стороне Турции, Екатерина II согласилась на раздел.
5 августа 1772 года была подписана в Петербурге конвенция о разделе. Три государства ограбили более слабого соседа под подлым предлогом: «ради спокойствия и порядка во внутренних делах Речи Посполитой», и свои грабительские претензии они назвали «столь же древними, как и законными».
Костюшко научился в Париже широко мыслить: раздел Польши он считал исторической катастрофой, неизбежной в условиях магнатской анархии. Такую катастрофу надо оплакивать, но не приходить в отчаяние.
Однако как могут поляки примириться с национальным позором? Ведь они сами утвердили грабеж своей родины на заседании сейма 30 сентября 1773 года! Только немногие делегаты: Корсак, Рейтан, Богушевич — нашли в себе мужество назвать грабеж грабежом!
Раздел, казалось, должен был вызвать взрыв национальной гордости. Но не вызвал. Польша — это шляхта, а раздел Польши не нанес шляхте никакого урона: она по-прежнему хозяйничала в своих имениях. Первое время еще слышалась воркотня: соль вздорожала (к Австрии отошли соляные копи в Бохнии и Величке), да пруссаки, ставшие хозяевами в верховье Вислы, требуют пошлины за хлеб, сплавляемый на баржах к Балтийскому морю. Но вскоре и ворчать перестали: подналегла шляхта на своих хлопов, и хлопы покрыли разницу в ценах.
На крестьянах раздел Польши также не сказался: были рабами и остались рабами.
«Есть ли просвет в тучах? — спрашивал себя Костюшко. — Все ли прогнило? Есть ли в Польше люди, которые видят пропасть у ног?»
«Есть такие люди! Станислав Конарский. Все громче и громче звучит его голос против шляхетской анархии, против своеволия магнатов. Даже сегодня, на склоне лет, он опекает созданные им светские школы. Гуго Коллонтай — государственный муж, который упорно, изо дня в день, пробивает брешь в стене вековых предрассудков. Станислав Сташиц — блестящий журналист, который уже не уговаривает шляхту улучшить положение крестьян, а угрожает: «Торопитесь… торопитесь… Будет поздно…»
Не только в этом кроется надежда на скорые перемены в Польше — уже сама жизнь настойчиво требует радикальных преобразований. Мещанству нужна свобода для расширения своих коммерческих дел. Помещикам также нужна перемена: крестьяне отказываются выполнять повинности, поджигают усадьбы, рубят леса, а если не бунтуют открыто, то работают так нерадиво, что барщинное хозяйство становится просто невыгодным.
Много лет нависал этот дамоклов меч над головой помещиков. Еще пастух Василь, друг детства, говорил молодому Тадеушу, что землю надо отобрать у шляхты. А в «Торчинском манифесте» прямо сказано: «Настало время подняться нам из рабского состояния, которого не терпят наши собратья в наследственных монархиях».
Но магнаты да и подавляющая часть шляхты не слышат подземных толчков.
Король… Станислав Август Понятовский. Десять лет он на престоле. Кто он? Был секретарем английского посла Вильямса, был польским послом и агентом прусского короля при царском дворе, стал очередным любовником Екатерины, и она же, не щадя русского золота, посадила своего мимолетного любовника на трон польских королей. Мог ли Понятовский спорить со своей царственной благодетельницей, когда ей захотелось расширить свои границы за счет Польши? Мог ли Понятовский, давнишний агент прусского короля, ослушаться своего бывшего хозяина? И удивительно ли, что при таком короле управляет Польшей негодяй Антони Понинский, который в открытую, бесстыдно принимает взятки и от русских и от пруссаков?
«Вот я, Тадеуш Костюшко, вернулся в Польшу, что мне там делать? Нет у меня восемнадцати тысяч злотых, чтобы купить, патент на командную должность. В Сехновицах хозяйничает брат Юзеф.
Что предпринять?
В Польшу! Даже такая Польша, где власть в руках мерзавцев понинских, мне ближе и дороже, чем Париж с его парламентом и наследственным королем. И над несчастной Польшей засияет солнце истории, осуществится пророчество Вольтера: «Молодежь счастлива, увидит прекрасные вещи».
Наконец там Людвика!»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Поиски третьего пути
Поиски третьего пути К концу второго года борьбы за королевский престол Франции оба вождя противоборствующих сторон, Генрих IV и герцог Майенн, оказались в затруднительном положении, столкнувшись с проявлениями недовольства в собственных рядах. Генрих с лихвой давал
Глава 8 ПОИСКИ
Глава 8 ПОИСКИ На временной работе в Институте социологических исследований я обрабатывала анкеты сельских жителей — как они распределяли свое время. Но я была слишком далека от народа, и информация казалась идиотской. «Встал, шёл на работу, курил, шёл домой, ел щи,
Глава вторая. На пути к Империи
Глава вторая. На пути к Империи Первые шаги 2 апреля 742 года у короля франков Пипина родился сын.Впрочем, неизвестно, точно ли произошло это событие 2 апреля. Неизвестно также и место рождения ребенка. Известно лишь, что нарекли его – быть может, в честь воителя-деда –
Глава вторая Начало славного пути
Глава вторая Начало славного пути В 1776 году Михаил сдал экзамены и получил свидетельство, в котором было сказано, что он «по-российски и по-немецки читать и писать умеет и фортификацию знает» [72. С. 96]. После этого, в неполных девятнадцать лет, он «вступил в действительную
Глава вторая Детство и начало пути
Глава вторая Детство и начало пути Когда-то Милан был столицей сильного государства, процветавшего в годы правления Лодовико Моро, у которого на службе состоял гениальный Леонардо да Винчи. Но после ряда проигранных сражений Миланское герцогство распалось и с 1535 года
Глава вторая На пути к взрослению
Глава вторая На пути к взрослению Я больше тебя не увижу, но ты всегда предо мною, в этом черпаю утешение. Клара Миллер на смерть своего супруга Ноябрь 1901. Клара Миллер тяжело переносила утрату. Шторы в доме были задернуты, говорить все старались вполголоса, ходили
Часть вторая На пути к славе
Часть вторая На пути к славе Невероятные возможности (поликарповский истребитель в исполнении Сильванского) Одним из первых возможности для молодых кадров почувствовал М.М. Каганович. Собственно, это неудивительно, кому, как не наркому авиационной промышленности
Глава 5 ПОИСКИ ГЕРОЯ
Глава 5 ПОИСКИ ГЕРОЯ Страна в эти годы переживала сложный и противоречивый период своей истории. Англо-американская война 1812–1815 годов проходила с переменным успехом. Кратковременный захват английскими войсками столицы США города Вашингтона не приблизил их к победе.
Глава двадцать вторая На пути к свободе
Глава двадцать вторая На пути к свободе Незадолго до приезда на указанную станцию, ко мне в отделение вошел железнодорожный служащий, который показался мне одним из тех честных и простых людей, которые всегда вызывали мое расположение и внушали доверие. На мой вопрос,
Глава вторая ПОИСКИ САМОГО ГЛАВНОГО
Глава вторая ПОИСКИ САМОГО ГЛАВНОГО
Поиски нужного пути
Поиски нужного пути В то время теория Маркса и Энгельса была, по замечанию Ленина, лишь одной из «чрезвычайно многочисленных фракций или течений социализма»[106]. Конечно, она являлась единственным научно обоснованным учением о социализме и коммунизме, однако в сознании