ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОРЛИЦА И ВОРОБЕЙ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГОРЛИЦА И ВОРОБЕЙ
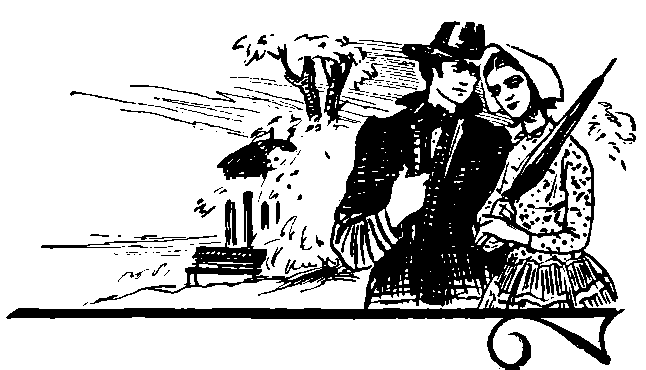
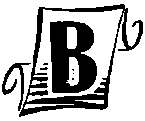 августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:
августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:
— Прошу, панув.
Сначала вышел из кареты тучный ксендз, подтягивая за собой большой лубяной короб. Он поставил короб на землю, перекрестился и, обращаясь к почтарю, сказал скорбным голосом, словно жалуясь на что-то:
— Пусть будет восхвален…
— На веки веков, — ответил горбун скороговоркой.
Вслед за ксендзом, толкаясь, мешая друг другу, почти одновременно выскочили два шляхтича: оба вислоусые, оба в теплых кунтушах. Когда они очутились на земле, один из них зло проговорил:
— Вач пан мог бы не торопиться!
— А пана брата, видать, найяснейший наш круль ждет с обедом, — насмешливо ответил другой.
— Вач пан мог бы не совать свой пьяный нос в чужой кубок.
— Братья шляхта, прошу закончить ссору на улице, — обратился к ним почтарь. — Панове мешают панам пассажирам.
Четвертым вышел Тадеуш Костюшко. Он посмотрел вокруг. Грязный двор, куры, раскрытые ворота конюшни…
— Прошу пана в контору, — вежливо предложил горбун. — Пан мешает панам пассажирам.
Костюшко направился в сторону двухэтажного дома и поднялся на крыльцо. Из раскрытого окна донесся веселый женский голос:
— Прошу пана до салёну, туда принесут вещи пана.
— А чашечку кофе тоже принесут? — спросил Костюшко.
— Пани Ядвига скоро придет, она пану и кофе сварит и даже чай хиньчицкий.
Костюшко вошел в салён. Там за столом уже сидели оба вислоусых шляхтича и мирно беседовали. Ксендз, склонившись, копался в своем коробе.
Салён! Просторная горница с двумя небольшими окнами. Пол в заусеницах, известка на стенах лупится, потолочные балки черны от копоти.
Вот он, наконец, дома; пусть в неуютном салёне, но дома. Отсюда, из этой грязной комнаты, он попадет на светлую и чистую дорогу — дорогу своей жизни. Трудные годы позади; все, что созрело в мыслях, все, что накопилось в сердце, — все он отдаст своему Краю, своему народу.
Пришли последние пассажиры; внесли вещи. Появился почтарь, проверил квитанции. Налетела стайка босоногих мальчишек:
— Я отнесу! Я отнесу!
Разошлись пассажиры. Салён опустел.
Остался один Костюшко: ему некуда идти, его нигде не ждут.
— Есть у вас комнатка, где я мог бы прожить несколько дней? — спросил он почтаря.
Горбун взглянул на Костюшко грустными глазами.
— Есть у нас, пане ласкавый, не одна, а три комнаты, но я не волен ими распоряжаться.
— Не понимаю.
— И я, пане ласкавый, не понимаю, но вынужден подчиниться.
— Для кого эти комнаты?
— То-то, для кого бы вы думали, пане ласкавый? Для панув русских и прусских офицеров. Для них эти комнаты.
Костюшко возмутился:
— Позор! В польском доме нет комнаты для польского офицера!
— Эх, пане ласкавый, с таким позором можно было бы еще мириться. Не в одном доме, так в другом найдете комнату, а вот, что сами поляки свою Польшу чужакам отдают, с этим позором мириться невозможно.
Их разговор прервала дородная черноволосая женщина, она остановилась на пороге и требовательно спросила:
— Это вы, вач пан, любитель кофе?
— Я, моя пани.
— С молоком или без?
— Без, если пани позволит.
Она повернулась и исчезла.
— Пане ласкавый, вижу, вы долго жили в чужих краях.
— Пять лет.
— Срок немалый, пане ласкавый, а для нас, поляков, это целый век. За эти годы мы чужим государствам и земли свои отдали и совесть свою продали.
— Не все продают свою совесть!
— Пане ласкавый, я понимаю, вам это неприятно слышать, а мне, думаете, приятно говорить об этом? Больно, понимаете, больно. И важно ли, что не все продают? Неважно, потому что продают свою совесть именно те, которые имеют возможность продавать нашу страну. Эх, пане ласкавый, что говорить. Вы надолго приехали?
— Навсегда.
— Дай вам бог. Вы молоды, может, и до лучших времен доживете.
Костюшко понял, что почтарь тяжело переживает позор раздела; он весь во власти своего горя и говорит о нем даже с незнакомым человеком, как больной говорит со всеми о своей болезни. Но горе почтаря обрадовало Костюшко: если первый поляк, которого он встретил на варшавской земле, так болезненно переживает несчастье своей родины, то этим несчастьям скоро наступит конец, ибо народ, осознавший свою болезнь, сумеет найти средство для ее лечения.
Все, о чем говорил почтарь, Костюшко знал уже в Париже, но для него, для Костюшки, новое заключалось в том, что его чаяния и его боль текут в русле народных чаяний и народной боли.
Бывало, в Париже, когда тревожные мысли о родине отгоняли сон, он мучился не только тем, что дела Польши плачевны, а больше оттого, что польский народ смирился, сжился со своим позором. А тут, оказывается, народ не смирился — ему стыдно, ему больно, он говорит о своем горе.
— Пане добродею, — сказал Костюшко, желая хоть словом утишить горе горбуна, — Висла и та не течет прямо к морю, она петляет, выписывает зигзаги, а у Вышогрода она даже пытается повернуть вспять. Так и жизнь. Важно, чтобы народ видел свое море, стремился к нему.
— То Висла, пане ласкавый, она течет в одном русле, одним потоком, а у нас потоков много, и все они в разные стороны бегут.
— Вы правы, но я верю, что горе объединит народ, что из горя может родиться злоба, а из злобы — сила.
Горбуну не понравились слова приезжего: в них слышалось желание, а не уверенность, но и за эти слова, за этот луч надежды был горбун благодарен незнакомцу. Он взял его под локоть.
— Позвуль, пане ласкавый, я тебя в комнату провожу.
— А если панове офицеры приедут?
— До холеры тых панув офицерув! — зло ответил почтарь.
Костюшко позавтракал, надел голубой капитанский мундир с красными отворотами, пропустил через портупею отцовскую саблю и направился в город. В этот день он хотел справить два дела: выхлопотать аудиенцию у короля и посетить князя Чарторийского, своего бывшего директора.
В хорошо знакомые улицы Варшавы вошло что-то новое. Народу стало больше, домов стало больше, но больше стало и чужеземных офицеров. На каждом шагу встречались пруссаки в черных, словно траурных, мундирах, русские в золотом расшитых ментиках, австрийцы в высоких лакированных шапках. Варшавяне, обычно веселые, словоохотливые, держались ближе к домам и шли, словно погруженные в думу. Шляхтичи в цветных кунтушах, с карабелью на боку, те шляхтичи, которые всегда ходили стадом, фанфароня во всю глотку, и они притихли, стали незаметнее.
Через Краковскую Браму Костюшко вышел к королевскому Замку. Перед ним толпился народ. К воротам то и дело подъезжали кареты, верховые.
Костюшко подошел к гвардейцу, дежурившему у калитки.
— Хотел бы видеть пана Водзиевского, — сказал он часовому.
— Имч пана пулковника Водзиевского, — поправил его часовой.
— Пусть так будет, — согласился Костюшко.
Часовой распахнул калитку и крикнул:
— Франек! До имч пана пулковника Водзиевского!
Из караулки вышел другой гвардеец.
— Прошу пана капитана! — предложил он Костюшке.
Гвардеец привел Костюшку в кордегардию. В огромной комнате на нарах отдыхали солдаты. Вдоль стен — ружья в козлах. На длинном столе стояли жбаны, крынки, кружки.
Следуя за Франеком, Костюшко поднялся по крутой винтовой лестнице на второй этаж и попал в узкий полутемный коридор.
— Пан капитан обождет, замельдую имч пану пулковнику.
Франек раскрыл одну из трех дверей и исчез.
«Имч пан пулковник, — подумал Костюшко. — Лет этому пану пулковнику не больше, чем мне, знаний у этого пана пулковника меньше, чем у меня, но я Костюшко, а он сын ясновельможного пана каштеляна. Он — в кабинете, а я — в коридоре, проситель…»
— Имч пан пулковник просит пана капитана.
Водзиевский лежал на широком диване и чистил
ногти. Увидев Костюшко, он бросил пилку, вскочил.
— Швед! Ты?
Он обнял приятеля.
— Рад видеть тебя! Когда ты приехал?
— Только сегодня.
— Садись рассказывай. — Он подошел к шкафчику, достал оттуда два бокала и бутылку. — Ей-богу, Швед, я рад тебя видеть. — Он разлил вино по бокалам, — За твой приезд! — Они выпили. — Скажи, Швед, правда, что ты бросил живопись?
— Правда, Вацлав, я предпочел изучать военное дело.
— Ты всегда что-нибудь выкинешь. Не любишь прямых дорог. Как там, в Париже, весело тебе жилось?
— А я туда поехал не для веселья. Работал, и работал много. А ты, вижу, в гору пошел.
— Какая это гора! Старший дворник! Жду, пока его королевская милость подпишет мою номинацию в генералы.
— А тогда?
— Тогда — дивизия. Понимаешь, Швед, второй кавалерийской дивизией буду командовать!
— Даже знаешь, какой дивизией.
— Уже патент выкупил. Но хватит обо мне! Что ты думаешь с собой делать?
— За этим и пришел к тебе. Посоветуй, Вацлав.
— Добейся номинации в полковники и бери полк.
— А кто мне полк даст?
— Купи патент. Всего восемнадцать тысяч злотых.
— Нет у меня таких денег. И половины не наскребу.
Водзиевский наполнил бокалы, сам выпил.
— Плохо, — сказал он, — плохо без денег. А протекцию имеешь?
— На князя нашего надеюсь.
— Плохая надежда. Чарторийский не в фаворе. И, кроме того, он в Пулавах. Нет ли у тебя кого-нибудь из окружения Понинского?
— Этого негодяя! — возмутился Костюшко.
— Эх, Швед, — серьезно промолвил Водзиевский, — ты, видать, не изменился, все еще о Тимолеоне грезишь. Времена Тимолеона прошли. Антони Понинский государством правит. И как бы ты ни относился к нему, его воля для тебя закон.
— А мне кажется, дорогой мой Вацлав, что он недолго усидит в седле.
— На твой век хватит.
— Не хватит. У Штакельберга достаточно дукатов, чтобы купить Понинского, но нет в мире столько золота, чтобы купить весь польский народ.
— Бредни, Швед, пойми меня, бредни. Это у тебя навязчивая идея: народ, народ и опять народ. Народ — это стадо. Куда пастух поведет, туда и пойдет. Мы с тобой сейчас не в корпусе, где при свете луны мир казался нам поэтическим сновидением. Жизнь — штука жестокая, в жизни только две дороги: направо или налево. Хочешь жить — иди к Понинскому или Штакельбергу; не хочешь — поезжай в Сехновицы капусту сажать.
— Опять же, Вацлав, не согласен с тобой. Есть и третий путь.
— Какой?
— Служить родине, ее славе, ее чести, как нас с тобой учили в корпусе.
— Опять Тимолеон! — рассмеялся Водзиевский. — Швед, ведь родина, по крайней мере сегодня, — это и есть понинские, штакельберги, массальские, сулковские — все те, которые теперь управляют Польшей. От них ты зависишь. Одному из них ты должен поклониться, если не собираешься капусту сажать.
— Есть еще один человек, от которого зависит моя судьба. Король.
Водзиевский наполнил свой бокал, выпил и угрюмо промолвил:
— Что ж… Попытайся.
— Устрой мне аудиенцию.
После долгого молчания Водзиевский сказал:
— Хорошо. Устрою. Где ты живешь?
— На почтовой станции.
Костюшко произнес эти слова пренебрежительным томом, подчеркивая этим, что ему на этой почтовой станции неуютно и неудобно. Он был уверен, что сейчас же последует дружеское предложение: «Переезжай ко мне!» Но Водзиевский поднялся и сдержанно сказал:
— Дам тебе знать.
Костюшко понял: он стал неприятен Водзиевскому, Продолжать беседу не имело смысла. А жаль — Костюшко хотел выпытать, что с Людвикой, почему она ему не писала. Но после этой размолвки Водзиевский навряд ли захочет говорить о своей кузине.
— Прощай, Вацлав, жду твоего курьера.
— Прощай, Костюшко, дам тебе знать.
Курьер от Водзиевского явился на третий день, когда Костюшко уже потерял всякую надежду. Пани Ядвига вычистила и проутюжила его обмундирование, накрахмалила кружева, выступающие из-под жилета и рукавов мундира, навела, глянец на сапоги.
Костюшко очутился в знакомом зале с серебристыми обоями, с мелодичными часами на камине.
Король сидел в кресле с перекрещенными ногами, обтянутыми белыми шелковыми чулками. В руке он держал хрустальный флакон.
— Разочаровал меня, — сказал он, разглядывая флакон с таким интересом, точно видел его впервые. — Поехал учиться живописи и сбежал из академии.
— Ваша королевская милость, вместо познаний в живописи я приобрел познания, более полезные для моей отчизны.
Король вскинул голову. Перед ним стоял стройный офицер. Высокий лоб, пепельные волосы мягко падают на плечи, ясные голубые глаза — ничего вызывающего, и в то же время во всей стати этого молодого офицера, начиная от приподнятой головы и кончая чуть выдвинутой вперед правой ногой, чувствуется уверенность, настойчивость и даже что-то враждебное.
— Какие это полезные для отчизны знания приобрел пан Костюшко? — спросил он иронически, желая оскорбительным тоном смутить молодого офицера.
— Знания по военной инженерии, ваша королевская милость. Польша находится сейчас в таком положении, когда ей нужны сильные крепости на своих рубежах, чтобы преградить дорогу охотникам до чужих земель. Польше нужны честные люди, которые построили бы эти крепости и накрепко заперли бы входы в наш дом для непрошеных гостей.
Король вылил себе на ладонь несколько капель из хрустального флакона, натер виски, сделал резкий выпад правой ногой, словно отшвырнул невидимый камень, и сказал шутливым тоном:
— А пану Костюшке кажется, что у нас некому думать об этом?
Носок правого сапога Костюшки еще больше выдвинулся вперед.
— Но не думают, ваша милость, — прозвучал резкий ответ. — Те, кому полагается думать об этом, видно, заняты другими делами, им, видно, некогда думать об охране границ нашего Края.
Король поставил флакон на стол и, тяжело ступая, направился к окну. Не оборачиваясь, тихо сказал:
— Благодарю. Я поговорю с теми, кому полагается думать. Позвони, прошу.
Костюшко подошел к столу, позвонил в колокольчик. Явился флигель-адъютант. Король, все еще спиной к Костюшке, сказал.
— Попроси, пан пулковник, его эминенцию Массальского!
Аудиенция окончена.
Костюшко вышел из Замка недовольный, злой, и не потому что рухнули его надежды, а потому, что он разрешил себе резко говорить со своим королем. Для Костюшки король не был человеком, а символом славы, чести, достоинства Польши. Каким бы ни был Понятовский — плохим или хорошим, неважно: он символ, а к символу неприменимы человеческие нормы законности и справедливости. Нельзя осуждать солнце за то, что оно скрылось за тучи.
Если встреча с Водзиевским не закончилась бы разрывом, Костюшко тут же отправился бы к нему с просьбой выхлопотать вторичную аудиенцию исключительно для того, чтобы принести королю свои искренние извинения за свою невольную, именно невольную, резкость — резкость несвойственна Костюшке, не в его характере.
Остается одно — отправиться в Сехновицы «сажать капусту».
Костюшко приехал в Сехновицы вечером. Все окна небольшого одноэтажного помещичьего дома распахнуты и ярко освещены.
Костюшко расплатился с возницей и вошел в дом. Его никто не встретил. Хотя с Сехновицами не связаны воспоминания ни детства, ни юности — Костюшко родился и вырос в другом месте, — но все же Сехновицы его родовое гнездо, а он, вернувшись издалека, входит в свое «гнездо», словно в корчму. Из столовой несется шум, гам, звон посуды.
Костюшко поставил чемодан у стены, повесил плащ на гвоздь, на котором уже висел драный хомут, и раскрыл дверь в столовую.
За столом — человек десять: одни в распахнутых жупанах, другие в одних рубахах. Шляхтич со смуглым лицом, держа в руке кружку, говорил хриплым голосом. Он был так увлечен своей речью, а может быть, так пьян, что на стоявшего в дверях Костюшко даже внимания не обратил.
— А я ему говорю: «Мосчи добродею ласкавый, не стану я читать твоего письма. Ко мне никакой протекции не нужно. Если ты дерьмо, то никакой лист тебе не поможет…» — Вдруг он обратился к Костюшке: — Садись же, до лиха, и шляпу положи на стол. Говори, как шляхтич шляхтичу, а не ешь меня глазами.
Все головы повернулись к Костюшке. Поднялся с места брат Юзеф.
— Ты приехал? — В его вопросе ни радости, ни удивления.
— Приехал, как видишь. Что ты празднуешь?
— А без праздника нельзя сидеть с друзьями при жбане с медом да при миске с мясом?
— Дружески беседуем, — дополнил Юзефа шляхтич с хриплым голосом. — А у шляхты какой разговор? Скажи, кого рубить, и порубим. А потом ставь бочечку и барана на достаток. Прошу пана добродея к нашему жбану!
— Спасибо, панове братья, я устал с дороги.
Костюшко ушел. Никто его не удерживал.
В коридоре он столкнулся с теткой Сусанной — со старушкой, которая была в доме «за хозяйку». Тонкая, проворная, с легкой походкой, в Сехновицах звали ее «наша паненка».
— Тадеушку! — вскрикнула она. — Наконец-то ты приехал. — Она поцеловала его, отошла на шаг. — Дай на тебя налюбоваться. Ты ничуть не изменился, Тадеушку, такой же красавчик, как был… Только маленькую чуточку похудел. Но я тебя быстро поправлю. — Опять его обняла, положила голову ему на плечо. — Тадеушку коханый, как хорошо, что ты приехал.
— Плохо тут?
— Плохо, Тадеушку, очень плохо… Но что мы в коридоре стоим? — Она взяла его под руку. — Идем в горницу, помоешься, я тебя покормлю. — Она вдруг остановилась. — Братца уже видел?
— Видел. Кто эти его гости? Соседи?
— Как в корчме: кто рядом сел, тот сосед; с кем куфель осушил, тот друг. А таких дружков у нашего Юзефа, что блох у собаки. — Вдруг рассердилась: — Успеется об этом. Идем, Тадеушку.
Он помылся, поужинал, а тетушка потчевала его и без умолку говорила.
Наконец-то постелила ему постель, пожелала: «Пусть найяснейшая матерь божья тебе сладкий сон пошлет», — и ушла.
Костюшко лег. Он не был ни разочарован, ни огорчен, точно заранее знал, что именно «этакое» ждет его в Сехновицах.
Планов на будущее никаких. Все дороги оборвались. Он очутился в чаще, куда солнце не заглядывает. Брат Юзеф, его дружки, пьянки — вот его будущее, это и есть «сажать капусту».
Но он не выдержит такой жизни и за один стол с этими бражниками и пустобрехами не сядет!
Не вернуться ли в Париж? Там, во всяком случае, найдет себе работу по душе, найдет друзей, чьи мысли ему сродни…
Но может ли он удовлетвориться только этим? Разве заглохнет в нем тот внутренний голос, который настойчиво зовет к служению отчизне?..
Какой отчизне? Той, которая не желает от него принять службы?
На рассвете, когда все в доме еще спали, Костюшко вышел во двор. Солома на коровнике прогнила; конюшня без дверей; дрова, видимо заготовленные на зиму, не пилены и не сложены в штабеля; на току валяются цепы; посреди двора стоит коляска на трех колесах — вместо четвертого колеса деревянная подпорка.
Костюшко направился в поле. На земле лежала белая мгла. Копны сена как бы плавали в воздухе. Далеко-далеко чернел лес. На краю неба показалась розовая тучка, вслед за ней стала пробиваться светлая зелень. Мгла растаяла, и все вокруг заплакало миллионами слезинок росы…
— Святая Мария! — сказал Костюшко взволнованно. — Как я люблю тебя, бедный мой Край!
Он вернулся домой с ясным планом на будущее: возьмет хозяйство в свои руки, будет работать с таким же упорством, как работал в Париже, сделает из Сехновиц образцовое имение, по которому станут равняться помещики в округе.
В приподнятом настроении вошел он в дом и обрадовавшейся ему тетушке сказал:
— Зачем висит в коридоре этот рваный хомут? Разве там ему место?
— Ты прав, Тадеушку, не место. Скажу девкам, чтоб убрали. Будешь завтракать? Или братца подождем?
— Он уже встал?
— Какое там встал, Тадеушку, раньше полудня никогда не просыпается.
— Тогда будем завтракать вдвоем.
Юзеф действительно встал после полудня. Нечесаный, в одном нижнем белье, пришел он к брату.
— Не понравилась тебе моя компания, — сказал он раздраженно. — В Париже ты водился с одними герцогами и маркизами.
— Ошибаешься, Юзеф, в Париже я не водился ни с герцогами, ни с маркизами. Водился с простыми, но приличными людьми.
— Мы, по-твоему, неприличные? — спросил Юзеф задиристо.
Тадеуш поднялся, встал лицом к лицу и строго сказал:
— Приличные или неприличные, об этом мы с тобой в другой раз поговорим. Но сегодня заруби себе на носу: я тут такой же хозяин, как и ты, и не позволю — слышишь, не позволю! — пропивать мое добро!
— Это какое такое твое добро? — издевательски спросил Юзеф. — Тут никакого добра уже нет: ни твоего, ни моего. Есть долги. На тебе долг тридцать девять тысяч, на мне — тридцать девять тысяч. А Сехновицы и пятидесяти не стоят. Того и жди, наедут кредиторы и нас с тобой на паперть выкинут.
Тадеуш схватил брата за плечи, потряс.
— Подлец! Так ты хозяйничал!
Юзеф и не пытался высвободиться, он сказал с наглой ухмылкой:
— Как хотел, так хозяйничал, и с твоего благословения, дорогой братец. Ты ведь не забыл, что дал мне полную доверенность?
Этой наглости Тадеуш не снес: резким ударом повалил он брата и…
Тетушка Сусанна, видимо, караулила за дверью: она ворвалась в комнату и — откуда только у нее силы взялись! — обхватила Тадеуша и бережно, как ребенка, усадила на кровать.
— А ты, — обратилась она к Юзефу, — ступай, ступай отсюда. Поезжай к своим дружкам. Мы тут без тебя скучать не будем.
Юзеф поднялся с пола. Ногой придвинул к себе табурет, уселся.
— Слушай, братец, что я тебе скажу. Если ты приехал, чтобы жить в Польше, то живи, как живут поляки. Хочешь хозяйничать на земле, поклонись Сапеге, и он тебе даст джержаву[10]. Хочешь политыкой заниматься, поезжай в Варшаву, поклонись амбасадору Штакельбергу или нашему пану Понинскому, и они тебе синекуру устроят. Хочешь погоны носить, купи шаржу. Дукатов у тебя нет, ерунда: под большие проценты всегда достанешь. Будут деньги — вернешь долг, не будут — плати проценты до скончания века.
Тадеуш вскочил.
— Уходи! Немедленно уходи!
Юзеф тоже поднялся и вызывающе спросил:
— Может, за карабельки схватимся?
Тетушка оттолкнула плечом Юзефа.
— Постыдился бы так с братом разговаривать.
— А он со мной как разговаривает? Ему, видите ли, не нравится, что я не считал крупинок на ложке гостя! Ему в плебании[11] жить, а не в шляхетском доме.
Костюшко успокоился: он понял, что этого бурбона ни словом, ни окриком не проймешь и сердиться на него не имеет смысла.
— Приготовь счета и документы, я их просмотрю.
— Ваше приказание, ясновельможный пан капитан, будет исполнено, — ответил он насмешливо и, сделав комический выпад рукой и ногой, вышел из комнаты.
Старшая сестра Анна была замужем за худородным шляхтичем Петром Эсткой. Он жил в Дололисках, над Бугом, в джержаве от князя Сапеги. Из разоренных Сехновиц Костюшко попал в большой уютный дом, где жили размеренной жизнью, ели сытно, по вечерам музицировали и где частенько собирался серьезный народ.
Петр Эстка был шляхтичем дельным, доброжелательным. Он понял, что шурину, образованному человеку, тяжело без дела и к тому же еще на хлебах у сестры! Петр Эстка понял и то, что Тадеушу с его «народолюбством» вдвойне тяжело оттого, что вокруг беднота, темень и какая-то мистическая уверенность, будто ничего нельзя изменить.
Чтобы отвлечь шурина от грустных мыслей, Петр Эстка втягивал его в работу по хозяйству, а сестра Анна, по сговору с мужем, упросила Тадеуша заниматься с детьми.
И их старания увенчались успехом: Костюшко чувствовал себя не гостем, а членом семьи: работал по хозяйству, занимался с племянниками, выходил с этюдником на берег Буга, принимал участие в застольных беседах, ездил по соседям, где «гостя из Парижа» принимали с почтением и лаской.
Чаще всего гостил Костюшко у молодого помещика Юлиана Урсына Немцевича. Это был круглолицый и толстый не по возрасту шляхтич, серьезный, немногословный, прекрасно образованный и поэт, но не из тех, что воспевают «эфир и зефир», — он писал басни, в которых зло высмеивал чванство шляхты, своеволие магнатов и ханжество духовенства. Для него литература была оружием в политической борьбе. Это он несколько лет спустя в содружестве с Мостовским и Вейсенгофом стал выпускать «Национальную газету» — первую политическую газету в Польше.
Тоску по общественной деятельности Костюшко с щедрой откровенностью обнажал перед своим другом Урсыном. Они оказались единомышленниками во всем: и в оценке причин, которые тянут Польшу в пропасть, людей, которые позорят Польшу, и в оценке общественных сил, которые могли бы спасти родину от катастрофы.
И вот однажды Костюшко возвращался домой, после недельного гостевания у Немцевича. Ехал в роскошной коляске, запряженной парой венгерских, золотистой масти коней, — свою повозку и сивую кобылу он оставил у Урсына: повозка развалилась. Был чудесный весенний день. Благоухала сирень. Придорожные березы опускали долу свои ветки, точно желали дотянуться до земли, где солнце играло в чехарду золотыми кружочками. На небе ни облачка. Из придорожных болот доносилось возбужденное квакание лягушек.
Верста за верстой. То мелькнет барский дом с обширными службами, то деревня с разбросанными по косогору халупами, то костел в рамке старых каштанов. Верста за верстой. Застучат балки моста, запрыгают колеса по корневищам в лесу… Вперед, вперед…

Станислав Сташиц.

Юлиан Урсын Немцевич.

Тадеуш Костюшко. Рис. А. Орловского.
Костюшко остановился перед корчмой. Корчмарь, у которого он кормил и поил свою сивую кобылку каждый раз, когда ездил к Немцевичу и возвращался от него, принял вожжи и тихо сказал:
— Пане офицер, не ходите в большую комнату, там этот сидит… пан польный писарь Сосновский.
Костюшко знал, что тут рядом, на берегу живописной речки Пивония, раскинулось имение Сосновского, и каждый раз, точно крадучись, проезжал мимо. Но сегодня он обрадовался: после стольких лет, наконец, увидит этого польного писаря, спесивого отца Людвики, и поговорит с ним.
— Съест меня польный писарь? — рассмеялся Костюшко.
— Он пьян, пан офицер. Уже двух панов прогнал из комнаты.
— Меня не прогонит.
— Пане офицер, не ходите в большую комнату.
Костюшко направился именно в большую комнату. За длинным столом сидело человек восемь. Во главе стола, лицом к двери, восседал широкоплечий шляхтич с круглой бритой головой и густыми черными усами. Лицо — приятное, глаза — веселые, один только нос подгулял: крупный, мясистый. Это и был ясновельможный пан польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский. Весеннее солнце пригревало, а пан польный писарь — в бархатном кунтуше, отороченном собольим мехом.
Сосновский пристально посмотрел на вошедшего и вдруг радостно воскликнул:
— Ба! Пан Костюшко! Братья шляхта! Куфли до гуры!
Шляхтичи подняли высоко кружки. Понеслись выкрики:
— Виват! К нашему корыту просим!
Этот прием озадачил Костюшко.
— Спасибо, панове, но, к сожалению, не могу доставить себе удовольствия посидеть в таком высоком обществе. Я должен дальше ехать.
— Нет уж, пан капитан, — с пьяным благодушием ответил Сосновский. — Эти фражки[12] ты брось! — И сразу посуровел: — Может, брезгаешь нами? Может, не пристало ученому из Парижа пить из одного жбана с грубой польской шляхтой?
Костюшко понял, что просчитался. Он хотел поговорить с отцом Людвики, а встретился с хамом, который ищет ссоры, ищет повода, чтобы крикнуть своим пахолкам: «Рубите его!»
Надо выбраться отсюда. Костюшко сказал спокойно:
— Пить из одного жбана с паном польным писарем — большая честь для польского офицера.
— Налить ему куфель!
Налили. Костюшко описал куфелем полукруг, приветствуя всех, и выпил до дна.
Сосновский подошел к Костюшке, положил ему руку на плечо.
— Посмотри мне в глаза, пан капитан.
Костюшко посмотрел в веселые глаза пана писаря.
— Ты сердит на меня?
— За что, пан польный писарь?
— Ты не спрашивай, а отвечай: сердит?
— Нет.
— Тогда жду тебя в Сосновцах. Пропозиция[13] есть у меня.
Приглашение обрадовало и взволновало Костюшко, но он и виду не показал, поклонился и кратко ответил:
— Приеду.
Мундир с красными отворотами, кружева белые и пушистые, отцовская сабля, звонкие шпоры на сияющих сапогах.
— Какой ты красавец, Тадеушку!
Анна хотела приободрить брата: она видела, что он волнуется — дрожат пальцы, лицо поминутно меняется.
Костюшко действительно волновался: как встретит его Людвика — прежней простой девушкой или гордой ясновельможной панной.
Месяцы спокойной жизни у сестры благоприятно сказались на Костюшке: его лицо, обычно с желтинкой, как у кабинетных людей, стало теплым с палевым отливом осеннего клена; длинные волосы чуть выгорели, но стали мягче, шелковистей; его фигура как бы помолодела, стала гибче, и, самое главное, изменилось выражение глаз — они смотрели уверенно, серьезно, даже строго.
Когда Костюшко уже сидел в роскошной коляске того же Немцевича, Анна положила ему руку на рукав.
— Може, не поедешь?
Он поцеловал ее в голову.
— Не беспокойся, Ануся, я ни на секунду не забуду, что я Тадеуш Костюшко.
Верста за верстой. Мелькают березы, помещичьи дома, костелы, деревни, высокие кресты на перекрестках — резвые венгерские кони мчатся во весь опор, а Костюшке все кажется, что они плетутся шагом. Он потряхивает красными вожжами, причмокивает губами, понукает.
Вот и Сосновцы. Узорчатые железные ворота. Аллея столетних лип. Каменный двухэтажный дворец.
Костюшко выехал на джеджинец[14] и остановился у широкой лестницы.
— Чолем, пан брат!
Приветствие донеслось слева, из-за деревьев.
Костюшко соскочил на землю. Появился пахолек, он молча перенял вожжи из рук Костюшки.
Из-за деревьев вышли несколько человек. Впереди — польный писарь с высокой худой дамой; чуть позади — Людвика в белом легком платье, черные волосы перевязаны синей лентой. Она ведет под руку двух девушек и, склонив голову, смотрит исподлобья на Костюшко. Она не удивлена, не смущена — видно, отец предупредил ее о приезде.
Сосновский представил гостя жене, обеим своим дочерям — Людвике и Фелисе — и их кузине Текле Сосновской. Покончив с этой официальностью, Сосновский спросил деловито:
— Где, ацан[15], этих коней купил?
— Кони не мои, и коляска не моя.
Людвика сияющими глазами взглянула на Костюшко.
— Юзефе, ты утруждаешь пана капитана ненужными вопросами, — промолвила пани Сосновская басовитым голосом. — Теклюня! Покажи пану капитану его комнату!
Костюшко почистился, отдохнул. Он еще не знает, зачем его пригласил Сосновский и что его ждет в этом доме, но все же доволен, что приехал. Наконец-то увидел Людвику! Она повзрослела и так хороша… Любит она его? По всей вероятности, нет: присматривается, приглядывается к нему, словно к незнакомому. Но чем бы ни закончилась эта встреча, все благо: надо дописать очередную главу своей жизни.
Обед прошел в приятной беседе. Сосновский успел напиться до обеда и сидел за столом вялый, теребя ус, и не принимал участия в разговоре. Костюшко рассказывал о Париже — рассказывал мягко, образно. Фелися бурными охами и ахами выражала свое восхищение рассказчиком; Текля слушала с умильной улыбкой на устах; хозяйка не отрывала восторженного взора от гостя. Одна только Людвика как будто скучала: она водила пальцем по рисунку скатерти и лишь изредка, и то украдкой, встревоженно поглядывала на Костюшко.
После обеда молодежь гуляла в парке. Костюшко по просьбе Фелиси опять говорил о Париже. Людвика — под руку с сестрой и кузиной — слушала рассеянно: посмотрит на Костюшко, посмотрит пристально, как бы ища что-то в его лице, и опять склонит голову набок, точно прислушиваясь к чему-то.
Сосновский куда-то уехал. Ужин прошел еще живее. Двумя-тремя вопросами Людвика заставила Костюшко вернуться к своим воспоминаниям о Рыцарской школе. Он увлекся, рассказал о спорах в корпусном парке и о надеждах, с какими ушел из корпуса. В его рассказе было столько светлых красок, словно жизнь после корпуса текла вольно и безмятежно, как Висла в майский день.
Сосновский отсутствовал почти целый месяц. Погода стояла мягкая, солнечная. Басовитая пани Сосновская предоставила молодежи полную свободу. Правда, она наказала Фелисе и Текле «не оставлять гостя наедине с Людвикой», что, кстати, обе девушки честно не выполняли. Пятнадцатилетняя Фелися была очарована гостем и шпионить за ним считала подлостью. Текля же — бедная родственница, которой несладко жилось на хлебах у грубияна Сосновского, — считала своим приятным долгом насолить ему. Она понимала, чего тетушка опасается, и задалась целью содействовать сближению Костюшки с Людвикой. Когда они отправлялись в лес, по ягоды или грибы, Текля уводила Фелисю в чащобу, и та охотно подчинялась. Когда ездили на лодке по Пивонии, Текля просила Костюшко высадить ее с Фелисей на берег.
— А вы до островка Психеи поезжайте. Только цветочков привезите нам оттуда.
Приезд Тадеуша в Сосновцы захватил Людвику врасплох. Когда отец сказал: «Приедет, знаешь, тот офицер, зовут его, кажется, Костюшко», — Людвика не ощутила ни радости, ни волнения. Костюшко был для нее воспоминанием приятным, но очень смутным. Она помнила, что ей было хорошо с ним, что он умный, благородный, какой-то… не такой, как многие ее знакомые. Она и не подозревала, что чувство, которое когда-то влекло ее к этому скромному юноше, и была любовь…
Отец ее увез из Варшавы. В первые недели Люд-вике чего-то не хватало. Она тосковала, но постепенно успокаивалась; жизнь наполнилась мелкими радостями и мелкими огорчениями, и образ Костюшки лишь иногда всплывал, как видение из далекого детства.
И вот опять перед ней Тадеуш — он, но какой-то другой: такой же умный, такой же благородный, но более мягкий, более чуткий, более заботливый, более нежный. В Варшаве было приятно с ним говорить, поспорить; сейчас ей приятно ходить с ним об руку, слушать, как трепетно звучит его голос, видеть в его глазах свое взволнованное лицо, чувствовать его теплые губы на своей руке. В Варшаве это был умный мальчик; сейчас — серьезный, ученый человек.
Людвике сначала казалось, что в ней развивается что-то новое, что она впервые полюбила, но разумная Людвика скоро поняла: это продолжение… Оставаясь наедине с собой, Людвика стала по-взрослому строить планы на будущее: ей хорошо, тепло с Тадеушем, теплее, лучше, чем с теми молодыми людьми, которые числились кандидатами в женихи.
В какой-то день вышла Людвика к завтраку возбужденная, в руках она держала картон. Не глядя на Костюшко, она протянула ему картон и скороговоркой спросила:
— Плохой рисунок?
На картоне была нарисована азалия. Рисунок был сделан старательно, но неумелыми руками. Костюшко попросил краски и тут же прошелся по рисунку — цветок ожил, налился сочностью. Фелися ахала и охала, Текля умилилась, а пани Сосновская заявила своим басовитым голосом:
— Вы большой мастер, вач пан Костюшко.
За обедом Людвика подала Костюшке второй картон.
— А этот рисунок? — спросила она.
Опять цветок, на этот раз фиолетовая сирень.
— Вач панна одни цветы пишет?
— Обецне[16] только цветы! — ответила она возбужденно, нажимая на первое слово.
Костюшко рассказал, как нужно писать цветы, и этим была бы исчерпана цветочная тема, если бы Фелися не шепнула Костюшке на ухо, когда они уходили из столовой:
— Посмотри, вач пан, в книгу «Флирт цветов».
Книжку Костюшко нашел в библиотеке, и панна Текля Сосновская, столкнувшись с гостем, когда он выходил из библиотеки, шарахнулась от него, как от пьяного: серьезный офицер танцует один в коридоре!
И было чему радоваться Костюшке: на языке цветов азалия означала: «я счастлива, потому что влюблена», а фиолетовая сирень: «мое сердце принадлежит тебе».
В то время было в Польше много политических деятелей, которые торговали своей родиной. Такие, как маршал сейма Антони Понинский, продавали польскую землю стоверстными кусками, получая за это звонкое золото. Ксаверий Браницкий или Щенсный-Потоцкий не нуждались в чужом золоте: их необозримые земельные угодья тянулись к русской границе, и им, браницким и Потоцким, было выгоднее находиться под властью крепостницы Екатерины, чем под панованием ее слабовольного приказчика Понятовского. Князь Чарторийский хотел отдать Польшу под протекторат России из соображений высшей политики: опыт истории его убедил, что Польша, слабое государство, не устоит в окружении трех сильных держав. В военную мощь лоскутной Австрии Чарторийский не верил, пруссаков он считал жадными и бесчеловечными, а Россию — сильной, богатой и столь обширной, что она не нуждается в чужих землях. Под протекторатом России, верил Чарторийский, Польша возродится и окрепнет. Архиепископы Шимон Коссаковский, Массальский и иже с ними продавали Польшу и из любви к золоту и по приказу Рима: в страхе перед возможной революцией папа римский толкал католическую Польшу в объятия православной России — уж там, в России, революция немыслима.
Король Станислав Август Понятовский не продавал Польши. Он лишь не противился ни Австрии, ни Пруссии, когда они посягали на польскую землю.
О России и говорить нечего — не мог же он, посаженный на престол Екатериной, отказать своей бывшей любовнице в каких-то клочках польской земли. Понятовский, правда, протестовал против раздела, но свои протесты согласовывал с русским посланником.
Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский не мог торговать Польшей: он был мелким винтиком в государственной машине, но такой «деятель», как Сосновский, не мог не участвовать в подлом деле. Он стал агентом русского посланника Штакельберга — мобилизовал крикунов, когда надо было проваливать в сейме неугодный Штакельбергу закон, выставлял бойцов, когда надо было стаскивать с сеймовой трибуны неугодного оратора или брать в кулаки патриотов вроде Корсака, Рейтана, Богушевича, которые осмеливаются протестовать в сейме против ограбления их родины. Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский был мастером грязных дел, и эти дела Штакельберг щедро оплачивал золотом и почестями.
Вот недавно Штакельберг порекомендовал королю назначить Юзефа Сосновского воеводой литовским. Такую высокую честь надо отметить праздником, а для праздника пан воевода решил превратить свои Сосновцы в «маленький Версаль».
Сосновский вернулся в имение и, отдохнув с дороги, пригласил к себе Костюшко.
— Как тебе, вач пан, у нас? Приятно?
— Надо справиться у дам, не надоел ли я им.
— Справлялся. Говорят, ничего, не надоел. Садись, вач пан, налей себе меду.
— Спасибо, до обеда не пью.
— Офранцузился, ацан, от польского меда рыло воротишь. — Он налил себе большой куфель золотистого меда, осушил его, не отрываясь, вытер усы. — У меня к тебе, пане браче, пропозиция. Останься жить у меня.
— Почему мне такая честь?
— Думаешь, у Юзефа Сосновского нет человеческого сердца? Ты, ацан, ученый, разные науки в Париже одолел, а вернулся домой, и дома-то у тебя не оказалось. Вместо того чтобы объедать Эстков, у которых и так не густо, поживи у меня. Но я, вач пан, твой гонор знаю, наслышан, даром чужой хлеб не захочешь есть. Так вот работу тебе выдумал. Ты парк в Версале хорошо знаешь?
Костюшко не ответил: огромных усилий стоило ему удержать себя и не плюнуть в рожу этому носатому наглецу, огромных усилий ему стоило усидеть в кресле.
— Конечно, знаешь, — спокойно продолжал Сосновский, — вот и распланируй мой парк на манер версальского. И тебе, вач пан, будет приятно: все-таки близкое тебе занятие, и хорошую память в Сосновцах по себе оставишь. А между делом поучи моих дочек акварельки рисовать. Знаешь, ацан, в том обществе, в котором они вращаются, только и хвастают своими акварельками.
Состояние у Костюшки такое, словно ему предложили гвозди глотать. Принять предложение, высказанное в такой хамской форме, и не иметь возможности ответить этому хаму ни пощечиной, ни плевком! Но лишиться Людвики?
Костюшко поднялся.
— Принимаю вашу пропозицию. — И направился к двери.
— Куда, вач пан? Я еще не закончил.
— У меня голова болит, — ответил Костюшко, не оборачиваясь, и вышел из комнаты.
Лето разгорелось.
Людвика с каждым днем все больше убеждалась, что Тадеуш и есть тот «единственный», которого только счастливая женщина встречает на своем жизненном пути, что Тадеуш тот герой, о котором она мечтала. Образование Костюшки, его высокий строй мыслей, его мечта о свободной и вольной родине — все это резко выделяло Тадеуша в кругу пустой бахвальной шляхты, которую она видела у себя дома.
Людвика не только полюбила Тадеуша, она преклонялась перед ним: поверила в какую-то мистическую его силу. Людвика боялась грозы, уже дальние раскаты приближающейся грозы ввергали ее в панический ужас. Однажды, когда она с Тадеушем гуляла по парку, набежала гроза; молнии разрывали небо, громыхали громы, а Людвика даже и не подумала укрыться под крышей: одно присутствие Тадеуша отгоняло от нее страх.
Шли дни, недели. Чертежи «малого Версаля» и занятия с паннами занимали у Тадеуша три-четыре часа в день, остальное время он проводил с Людвикой.
У влюбленных был свой план: закончив чертежи «Версаля», Костюшко поедет к князю Чарторийскому, расскажет ему о своей любви, а князь сумеет уговорить Сосновского дать согласие на брак дочери. Если потребуется, то Чарторийский заручится помощью и короля.
В это лето польный писарь редко бывал дома — приезжал на день-два, отсыпался и опять уезжал. Чертежи «малого Версаля» ему понравились, и, конечно, свое одобрение он высказал в свойственной ему грубой форме. Но Костюшко не обиделся — он даже не слышал похвал грубияна. Если это происходило за обедом, Костюшко чувствовал теплое пожатие девичьей руки; если это происходило в парке, Костюшко видел пунцовые пятна стыда на девичьем лице. Людвика была всегда рядом, всегда с ним.
Лето догорало. Чертежи закончены. Костюшке не хотелось уезжать, но Людвика настояла:
— Надо вырваться отсюда.
И Костюшко поехал. Князь Чарторийский и его дочь Мария, будущая княгиня Вюртембергская, приняли его как родного. С «очайдушой»[17] Сосновским князь Чарторийский не захотел разговаривать, но по настоянию дочери в этот же день поехал к королю и уговорил его помочь влюбленным. Кроме того, Чарторийский дружески предложил своему бывшему воспитаннику мешочек с дукатами: «Разживешься, Тадеуш, вернешь, а сейчас тебе нужны будут деньги».
В Сосновцах, на джеджинце встретила его Людвика. Она посмотрела ему в лицо, и… с ее щек начали скатываться градинки. Костюшко еще слова не промолвил, но чуткая Людвика — по той радости, что сияла в его глазах, — поняла, что их счастье близко.
Вечером этого дня приехал польный писарь. Семья собралась в столовой. Сосновский был уже пьян.
— Ну как, ацан, не скучаешь? — обратился он к Костюшке вместо приветствия.
— Я никогда не скучаю.
— Слыхала, мосчи пани, — повернулся он к жене. — Он никогда не скучает. А, собственно, почему ему скучать? Поят, кормят, ухаживают за ним, как крулева Бона ухаживала за своим итальянским пажем…
Людвика, сжимая под столом руку Костюшки, сказала дрожащим голосом:
— Пан отец не должен так говорить со своим гостем.
Сосновский хихикнул.
— Со своим гостем? Кто приглашал этого гостя?
— Вы! — зло воскликнула Фелися. — Вы! Вы!
— Да, я, мои анёлки, когда я был польным писарем, а теперь я воевода литовский, а воевода никого еще к себе не приглашал.
Эта весть никого не поразила — все знали, что номинация будет объявлена со дня на день.
Но вдруг произошло непонятное: Сосновский поднялся, в пояс поклонился Костюшке:
— Ты прости меня, пан брат, это я спьяну глупостей наговорил. Я люблю тебя, пан брат, и найяснейший наш круль тебя любит. Все тебя любят. Правду говорю, панна воеводзянка? — обратился он к Людвике.
— Правда, пан отец, — вырвалось у Людвики.
— Люблю, панна воеводзянка, правду. За правду готов душу отдать. А ты, пан брат, прости меня, пьянчугу, язык у меня поганый.
Всем было тягостно, всем стало грустно, точно на поминках.
После ужина, когда направлялись в зал, к фортепьяно, Людвика задержала Тадеуша в коридоре и, волнуясь, сказала:
— Тато что-то задумал. Он нас разлучит. Бежать. Бежать. В Сехновицы. Там обвенчаемся.
— Людвика… Ты…
— Да. Немедленно поезжай, достань лошадей у Немцевича. В среду, в полночь, я буду ждать тебя у нашего вяза, на берегу…
Через час Костюшко выехал из Сосновиц.
В среду, в полночь, Костюшко ждал у вяза на берегу Пивонии, но Людвика не появилась.
До утра он просидел в карете. Когда на косогоре показался первый человек, Костюшко помчался к дворцу.
Ворота распахнуты. На клумбе штабелями лежат доски, бревна. Десяток крестьян, выстроившись в ряд, копают землю на границе парка. Господин в берете и черном кафтане ходит по джеджинцу с деревянной треногой.
— Что тут происходит? — спросил Костюшко.
Господин вежливо ответил:
— «Версаль» будем строить, пан офицер.
Двумя прыжками Костюшко одолел лестницу.
В столовой за убранным по-праздничному столом сидела челядь: лакеи, кухарки, горничные, садовники. Стол уставлен жбанами, мисками.
Никто из челяди не поднялся, не поклонился вошедшему Костюшке.
— Где пан воевода?
— А пану учителю зачем это знать? — нагло спросил молодой лакей.
Другой лакей, подмигивая своей соседке — толстой кухарке Малгосе, насмешливо сказал:
— Пану учителю не пан воевода нужен, а панна воеводзянка.
— Ты прав, Ондрей, — согласилась кухарка. — Панна воеводзянка ему нужна. А зачем, спрашиваю, ведь нельзя связывать шелковую нить со шпагатом. Так я говорю, Ондрей?
Вместо Ондрея ответил старик Вавжин, садовник:
— Пани Малгося умница, она хорошо сказала. Горлица не для воробья.
Костюшко шагнул к столу. Он был страшен: рука лежала на эфесе сабли, лицо пылало, в глазах — ярость, того гляди порубит все и всех.
Челядь, точно по команде, вскочила с мест.
— Пане офицер, — униженно кланяясь, сказал старик Вавжин. — Уехал пан воевода, уехал и всю свою родзину увез. Увез, пан офицер. А мы тут выпили немного. За счастье добродзейки княгини.
— Какой княгини?
— А пан воевода нам сказал, что нашу паненку Людвишу выдает замуж за князя Любомирского. Вон, пан офицер, как высоко взнеслась наша паненка. А на нас не надо сердиться. Мы, правда, выпили, гембы[18] распустили, но мы не со зла. Не со зла. Мы пана офицера уважаем. Обиды от него не видели…
Костюшко не дождался конца пьяной болтовни. Испарилась ярость. В голове, точно шарик в пустой коробке, перекатывалась одна лишь мысль: «Конец…»
Как Костюшко добрался до Эстков, не помнит. Приехал, закрылся в своей комнате и не отвечал ни на уговоры зятя, ни на просьбы сестры. В эти дни он даже не думал. Его человеческий разум не мог ни примириться, ни объяснить ту чудовищную несправедливость, с какой столкнулся.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Воробей из второй роты
Воробей из второй роты В лице у Кольки Воробьёва из второй роты было что-то куриное: маленький острый нос, кругленькие голубые глазки и куцый ёжик над узким лобиком. И похож был Колька не на белую инкубаторскую птицу, а на рябую, дворовую. Усиливали это впечатление колонии
Воробей
Воробей Чуть живой. Не чирикает даже. Замерзает совсем воробей. Как заметит подводу с поклажей, Из-под крыши бросается к ней! И дрожит он над зернышком бедным, И летит к чердаку своему. А гляди, не становится вредным Оттого, что так трудно
«Когда устанет воробей…»
«Когда устанет воробей…» Когда устанет воробей Обтачивать сухую корку, Среди играющих детей — По их лопаткам и ведерку — Поскачет он, прощебетав, И, это тихо наблюдая, Твою соседку за рукав Потянет девочка худая, И ты увидишь мать и дочь Они бедны, их плечи узки, И
Глава третья
Глава третья 1От великой княжны Марии Николаевны никто так и не явился за рукописью пьесы «Маскарад». Может, прав был Краевский, что великосветская дама рассердилась на Лермонтова, видя его увлечение Мусиной-Пушкиной? Но с какой стати? Ревность? Вряд ли. Основание для
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Поезд в Венецию прибыл поздним вечером. Густой туман тек вдоль безлюдных платформ, по которым одна за другой катились к вагонам пневматические тележки носильщиков, то и дело кричавших зычными голосами, а из открытых окон почти пустого поезда редко
Глава третья. ТРЕТЬЯ ВОЛОГДА И РЕВОЛЮЦИЯ
Глава третья. ТРЕТЬЯ ВОЛОГДА И РЕВОЛЮЦИЯ По классификации Шаламова, третья Вологда — «ссыльная», то есть представляющая вечно гонимую оппозиционную русскую интеллигенцию, которой в городе в дореволюционное время было в избытке. Надо напомнить, что деятельность любых
«Воробей»
«Воробей» Родилась как воробей. Прожила как воробей. Умерла как воробей!.. В пальтишке с дырками на локтях, без чулок, с непокрытой головой пела она, зарабатывая себе на пропитание. Пела на народных гуляньях, в казармах, в баль-мюзеттах, уличных кабачках и просто на
Глава третья
Глава третья Беспечная театральная зима 1906/07 года была лишь одной стороной жизни Кузмина. Завсегдатай спектаклей, концертов, костюмированных балов и поэтических вечеров, он был одновременно постоянным посетителем дома Вяч. Иванова, причем не только еженедельных