Владимир Ленин
Владимир Ленин
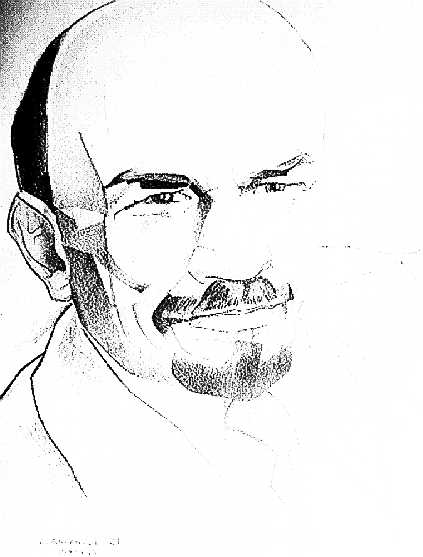
В юности отец мой принадлежал к революционной партии «Народная воля» и состоял в ее террористической организации, совершившей убийство Александра Второго 1 марта 1881 года. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал и потому избег виселицы. Он пробыл один год и восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговоренный к каторжным работам, был сослан этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку, в город Петропавловск. Туда приехала к нему его жена, и далекий Петропавловск стал моей родиной.
Вскоре отец был помилован и смог постепенно, на собственные средства, вернуться в Европейскую Россию: сначала, в январе 1893 года, — в Самару, где мы прожили года два, и наконец в Петербург.
В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичом Ульяновым, а также с мужем его сестры Марком Елизаровым.
1893 год был исторической датой в биографии Ленина: он написал тогда, в Самаре же, статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», которая была первой его статьей, во всяком случае, первой из сохранившихся ленинских статей.
В августе того же года Ленин покинул Самару, и между ним и моим отцом завязалась переписка. В письменном столе отцовского кабинета долгие годы бережно хранились ленинские письма.
С течением времени в Петербурге, работая в одном из крупнейших страховых и транспортных обществ, отец, заняв вскоре пост директора, достиг зажиточного положения и обзавелся прекрасным имением в финляндском местечке Куоккала, где наша семья проводила летние месяцы в течение восемнадцати лет (1899–1917).
Перовская, Кибальчич, Михайлов, Желябов и Рысаков были, как известно, повешены. Два года спустя была арестована еще одна подруга моего отца, Вера Фигнер, принадлежавшая к той же революционной партии. Еще через год за террористическую деятельность Фигнер была присуждена к смертной казни, но эту кару ей заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости.
В нашей квартире в Петербурге, в кабинете моего отца, неизменно висела под стеклом романтическая фотография юной красавицы Веры Фигнер с ее собственноручной надписью: «Дорогому Павлуше — Вера Фигнер». Революция 1905 года и последовавшие за ней демократические реформы (парламентский строй и пр.) освободили эту узницу, и так как дружеские отношения между моим отцом и Фигнер оказались, несмотря на двадцатипятилетний перерыв, ненарушенными, то Вера Николаевна сразу же из своей одиночной камеры переехала к нам в Куоккалу. В имении было два дома: в одном жила наша семья, другой дом сдавался внаем. В этот год, ввиду всевозможных тревожных событий, второй дом временно пустовал, и в нем поселилась Фигнер. Она еще страдала человекобоязнью (что было последствием столь длительного одиночного заключения) и жила у нас как отшельница, никогда не выходя одна из дома даже в окружавший его сад. Лишь по вечерам, когда мой отец возвращался со службы из Петербурга, она совершала с ним небольшую прогулку по нашему участку, останавливаясь перед цветочными клумбами, пробираясь сквозь высокую некошеную траву луга, уже покрытого росой; бродила среди длинных огородных грядок, о которых отец любовно заботился, среди кустов малины, смородины и крыжовника и отдыхала на скамейке в небольшом нашем нарочно запущенном лесу.
Я не забуду, как во время одной из таких прогулок Фигнер неожиданно вздрогнула и вскрикнула: ее обожгла крапива. Мой отец предложил Фигнер тотчас вернуться домой и помазать ногу какой-то помадой.
— Боже сохрани! Ни за что! — ответила Фигнер и, обернувшись на крапивный куст, умиленно добавила:
— Даже и крапива сохранилась!
Пребывание в Куоккале Фигнер считала своим воскрешением, возвратом к жизни.
Отец часто приводил меня с собой. В.Н.Фигнер называла меня Юриком. Гимназист пятого класса, я был уже замешан в гимназическом революционном движении, выступал с речами на нелегальных гимназических сходках, участвовал в уличных демонстрациях, прятался от казаков в подворотни, видел кровь на мостовой и на тротуарах, потерянные калоши и зонтики, состоял в школьном «совете старост».
— Привел юнца под благословение, — пошутил отец, представляя меня впервые В.Н.Фигнер.
Я смущенно и восторженно смотрел на нее. Мне казалось тогда, что лицам революционеров, и тем более народников и террористов, свойственны особенная чистота и ясность форм.
— Я слышала, что вы уже тоже революционер? — улыбнулась Фигнер. — Революции «все возрасты покорны».
Она расспрашивала меня о волнениях в средней школе, о наших революционных организациях, об основах школьной реформы, потом говорила о необходимости борьбы, о счастье борьбы, о страданиях народа и вдруг, вздохнув и грустно усмехнувшись, сказала:
— Смеется хорошо тот, кто знает цену слезам.
Две-три недели пребывания у нас В.Н.Фигнер казались мне необычайно торжественными и значительными. Возвращаясь домой после вечерних прогулок с Фигнер, отец рассказывал, какая она умница, какая светлая женщина, какой мудростью, верой и добротой веет от ее слов, но однажды с горечью признался, что их пути все же разошлись и что она, по его мнению, уже не понимает эволюции реальной жизни.
В том же местечке Куоккала, верстах в трех от нашего имения, временно поселился другой шлиссельбургский узник, народоволец Морозов (к которому мы ходили с отцом по бесконечной извилистой лесной дороге), и в тот же год (1906) переехал в Куоккалу, скрываясь от петербургской полиции, В.И.Ленин, поселившийся на даче «Ваза». Он неоднократно заходил в наш дом навещать моего отца и В.Н.Фигнер. Таким образом, я впервые познакомился с Лениным в нашем собственном саду. Я, разумеется, уже знал, кем был Ленин, но ни он, ни его жена, Надежда Константиновна Крупская, меня тогда еще не интересовали.
Ленин был небольшого роста, бесцветное лицо с хитровато прищуренными глазами. Типичный облик мелкого мещанина, хотя Ленин (Ульянов) и был дворянин. От моих куоккальских встреч с Лениным в моей памяти не сохранилось ни одной фразы, кроме следующей: раскачиваясь в саду на деревенских дощатых качелях, Ленин, посмеиваясь, произнес:
— Какое вредное развлечение: вперед — назад, вперед — назад! Гораздо полезнее было бы: вперед — вперед! Всегда — вперед!
Все смеялись вместе с Лениным…
В Куоккале я видел и будущего кровавого советского прокурора Николая Васильевича Крыленко, расстрелянного в свою очередь Сталиным. Молодой Крыленко выступал с зажигательной речью на летучем митинге на вокзальной площади и сразу же укатил куда-то на паровозе.
После отъезда В.Н.Фигнер из Куоккалы я встретил ее снова в Париже через пять лет. Я приехал в Париж в 1911 году заниматься живописью и, естественно, вошел в жизнь международной монпарнасской художественной богемы, творчество которой получило, приблизительно в те же годы, обобщающее название «Парижской школы», цветущей по сей день. В этой среде было немало выходцев из России. Кое-кто из них соприкасался с кругами довольно многочисленной русской политической эмиграции. Благодаря этому я познакомился и подружился с Георгием Степановичем Хрусталевым-Носарем, бывшим председателем петербургского Совета рабочих депутатов в годы первой революции (1905). Роль Хрусталева-Носаря была в той революции значительной, и его прозвали даже «вторым премьером». Как известно, премьером (председателем Совета министров) тогда был граф С.Ю.Витте. Мне запомнился посвященный им обоим шутливый куплет, бывший популярным среди петербургской публики:
Премьеров стал у Росса
Богатый инвентарь:
Один премьер — без носа,
Другой премьер — Носарь.
У графа Витте нос был скомканный и в профиль был незаметен, как у гоголевского майора Ковалева.
Вернувшись на родину в 1918 году, Хрусталев-Носарь был в этом же году расстрелян советской властью.
В Париже он часто заходил ко мне на улочку Кампань-Премьер, а я навещал его на авеню Гоблен. Он сказал мне однажды, что на днях состоится вечер русских эмигрантов (с танцами), и пригласил меня пойти туда с ним. На вечеринке я увидел Веру Фигнер. Она меня, однако, не узнала, и когда я назвал себя, спросила с радостным удивлением:
— Юрик? Павлушин сын? Боже мой, как возмужал!
Она поцеловала меня в обе щеки и подвела к человеку мелкобуржуазного типа, с усами, с бородкой и хитроватой улыбкой, в котором я тотчас узнал Ленина.
— Владимир Ильич, — обратилась Фигнер к нему, — позвольте вам представить: новое поколение нашей эмиграции.
Ленин улыбнулся и, пожав мне руку, спросил, в связи с какими событиями «молодой человек» эмигрировал?
— Я не эмигрант, — ответил я. — Я легально приехал в Париж для занятия живописью.
— А я думала… — произнесла Фигнер, ее лицо вдруг стало грустным, и она умолкла, даже не назвав Ленину моего имени.
Ленин меня, конечно, тоже не узнал, и я сразу отошел от него.
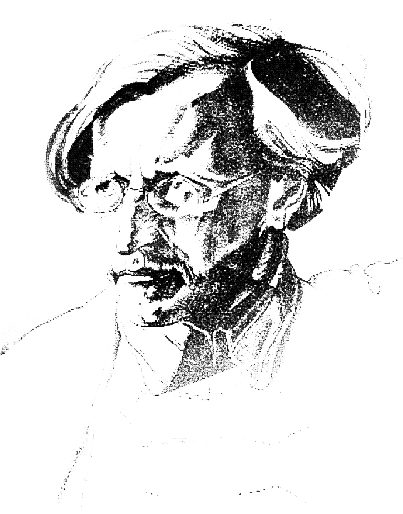
Владимир Антонов-Овсеенко
Так состоялась моя вторая встреча с Лениным. На том же вечере я познакомился с Анатолием Луначарским, с Владимиром Антоновым-Овсеенко и с Л.Мартовым (Юлий Осипович Цедербаум). Ни Фигнер, ни Ленин, ни его жена Крупская, ни Мартов, ни Хрусталев-Носарь на этом вечере, как и следовало ожидать, не танцевали. Танцевали Луначарский (модное тогда танго) и Антонов-Овсеенко (что-то вроде польки).
С Мартовым я нередко встречался потом в довольно легкомысленном кафе «Таверн дю Пантеон», на углу бульвара Сан-Мишель и улицы Суффло, в подвальном помещении. Там играл очень хорошо слаженный оркестрик, выступали кабаретные певички и певцы, и посетители танцевали. Мартов, вечно перегруженный работой, почти каждый вечер сидел там у столика за чашкой кофе и рюмкой коньяка и писал бесчисленные страницы политических статей. Но за его столиком непременно сидели также две или три местные девицы, которых он угощал коньяком и ликерами и с которыми был в очень дружеских отношениях. Девицы звали Мартова «Monsieur Mars».
3 апреля 1917 года я был на Финляндском вокзале в Петербурге в момент приезда Ленина из-за границы. Я видел, как сквозь бурлящую толпу Ленин выбрался на площадь перед вокзалом, вскарабкался на броневую машину и, протянув руку к «народным массам», обратился к ним со своей первой речью.
Толпа ждала именно Ленина. Но — не я.
В начале 1917 года я прочел «Капитал» Карла Маркса, книгу, которая все чаще становилась в центре политико-социальных споров. Я читал ее преимущественно в уборной, где она постоянно лежала на маленькой белой полочке, отнюдь не предназначенной для книг. В другое время мне было некогда: я занимался другими делами и читал другие книги.
Шел юбилейный год: «Капитал» был впервые опубликован в Германии ровно полвека тому назад, в 1867 году. Марксов текст казался настолько устарелым, потерявшим реальную почву, что я читал его скорее как скучный роман, чем как книгу, претендовавшую на политическую и притом международную актуальность. Паровоз, раздавивший Анну Каренину в 1873 году, уже вовсе не походил на локомотив, возвращавший России сорок четыре года спустя, на деньги Вильгельма Второго, в запломбированном вагоне Ленина и прочих «марксистов». Все социальные условия жизни с тех пор видоизменились и упорно продолжали меняться, прогрессировать, находить наиболее справедливые формы. Книга Маркса казалась мне уже анахронизмом. Вот почему «историческая» речь Ленина, произнесенная с крыши военного танка, меня мало интересовала. Я пришел на вокзал не из-за Ленина: я пришел встретить Бориса Викторовича Савинкова (автора «Коня бледного»), который должен был приехать с тем же поездом. С трудом пробравшись сквозь площадь, Савинков и я, не дослушав ленинской речи, оказались на пустынной улице. С небольшими савинковскими чемоданчиками мы отправились в город пешком. Извозчиков не было.
Так проскользнула моя третья встреча о Лениным.
Вскоре мне удалось несколько раз увидеть Ленина на балконе особняка эмигрировавшей балерины Кшесинской, ставшего штаб-квартирой большевиков. Вокруг балкона собиралась разношерстная толпа, перед которой Ленин и неизвестные мне тогда его соратники беспрерывно произносили пропагандные речи.
Когда 18 июня 1917 года произошло первое большевистское вооруженное восстание против Временного правительства, мой отец, возмущенный, вынул из своего архива письма Ленина, разорвал их и на моих глазах бросил в зажженную печь. Эта вспышка негодования осталась Ленину неизвестной. Впрочем, еще в 1916 году в нелегальном «подпольном» издательстве Львовича вышла брошюра моего отца — «Записки профана», где развивалась та же противомарксистская тема. К сожалению, эта брошюра у меня не сохранилась.
В середине сентября 1917 года забежала ко мне одна моя приятельница, студентка медицинского института, ярая большевичка, работавшая в секретариате при Смольном институте для благородных девиц, в то время уже занятом Советом рабочих и солдатских депутатов и центральным органом большевистской партии.
В дореволюционное время инспектрисой Смольного была моя тетка, сестра моего отца, Анна Семеновна Воронихина.
Ее семья была тесно связана с нами, и ее дети, Кока и Маруся, были завсегдатаями нашего дома. Маруся, еще подросток, будучи воспитанницей Смольного института, жила в его здании и вместе со своей матерью нередко приглашала меня, по-родственному, в институт на торжественные ученические балы, куда я отправлялся в гимназическом мундире танцевать вальс и падекатр с «благородными девицами», облаченными в очень красивую институтскую форму, а также — пить фруктовый сироп, закусывая нежнейшими пирожными. Здание Смольного института, его коридоры и залы стали благодаря этому для меня хорошо знакомыми и оказались очень мало похожими на их будущую реконструкцию в известном французском фильме Мориса Турнера «Катя» с прелестной Даниэль Дарье в заглавной роли.
Движимый любопытством, я несколько раз побывал в период Октябрьской революции («Десять дней, которые потрясли мир», по выражению Джона Рида) в Смольном институте. Окруженный броневиками и пулеметами, он был еще более неузнаваем, чем в упомянутом фильме. Вместо грациознейшей Даниэль (а таких было очень много в институте до Февральской революции) — горластые рабочие и солдатские (вернее, дезертирские) депутаты в засаленных тужурках и рваных солдатских шинелях, с сорванными погонами не только топтали по всем этажам валенками и сапогами почерневший паркет, дымя махоркой и пачкая стены, но часто храпели на полу, зарывшись в тряпки своих одежд. Возле двери, ведущей в кабинет Ленина, постоянно стояли то один, то два, то целый десяток вооруженных красногвардейцев. На двери оставалась прибитой металлическая дощечка с надписью: «Классная дама».
Прибежавшая ко мне из Смольного приятельница в радостном возбуждении передала мне копию письма, присланного Лениным в ЦК партии из Финляндии, где ему пришлось снова скрываться в то время.
Вот этот, исключительный по неожиданности формы и мотивировки, текст: «Надо на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере, в Москве, завоевание власти, свержение правительства. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: восстание есть искусство.
К числу наиболее злостных и распространенных извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию как к искусству есть бланкизм.
Обвинение в бланкизме марксизма за отношение к восстанию как к искусству! Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству…
Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается марксизм от бланкизма.
Но раз налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию как к искусству значит изменить марксизму и изменить революции.
Переживаемый нами момент надо признать именно таким, когда обязательно для партии признать восстание поставленным ходом объективных событий в порядок дня и отнестись к восстанию как к искусству.
За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и к озверению…
Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.
Мы должны доказать, что мы не на словах только признаем мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию как к искусству. А чтобы отнестись к восстанию как к искусству, мы, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать Генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания в центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.
Это все примерно, конечно, лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не отнесясь к восстанию как к искусству»[225].
Прочитав это наставление, я рассмеялся. Моя приятельница испуганно взглянула на меня.
— Я никогда не предполагал, что Ленин — такой глубокий теоретик искусства, — пояснил я, смеясь.
Не более чем через год после Октябрьского переворота моя приятельница, бывшая ярой большевичкой, но родители которой пали жертвой уличного самосуда, прокляла революцию и навсегда эмигрировала из советской России.
В ночь на 26 октября 1917 года, после взятия Зимнего дворца и ареста членов Временного правительства, я снова пробрался в Смольный, где до пяти часов утра заседал Съезд Советов. На трибуне появился Ленин, вернувшийся из своего подполья. Встреченный неудержимыми рукоплесканиями, он, выждав минуту, взмахнул рукой и произнес:
— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Отныне у нас будет наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат, и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Очередные задачи: немедленная ликвидация войны, немедленное уничтожение помещичьей собственности на землю, установление контроля над производством. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция![226]
Снова раздались бурные аплодисменты, крики: «Ленин! Ленин!» — и, еще не совсем уверенно, разразилось в переполненном до отказа зале пение Интернационала как гимна.
Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор не расслышанной, непонятой или умышленно забытой в Западной Европе, в Америке, во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза с той ночи и по сегодня является законом и неизменной целью: всемирная социалистическая революция.
Судьба России как таковой Ленина больше не интересовала. Россия стала для него (и для его последователей) только частностью. Подобное непонимание или забывчивость приносят с каждым днем все новые и новые победы международному коммунизму, то есть — расширению всечеловеческого рабства.
Александр Ильич Ульянов, брат Ленина, активный народоволец, был в 1887 году казнен в Шлиссельбургской крепости за участие в покушении на жизнь Александра Третьего. Я помню, как через несколько дней после Октябрьской революции один из друзей моего отца, сидевший у нас в гостях, сказал, говоря о Ленине:
— К сожалению, не того брата повесили.
В те же дни я случайно подслушал на улице, в углублении какого-то подъезда, такой шепот:
— Ленин? Отъявленный капиталист!
— То есть как?
— Да очень просто: он только на «Капитал» и ссылается!
В ноябре того же года к моему отцу приехал от имени Ленина Марк Елизаров с предложением занять пост народного комиссара по социальному страхованию. Ленин предложил этот пост моему отцу, зная, что он был большим специалистом по вопросам страхования. Отец ответил категорическим отказом, заявив, что он является противником произведенного вооруженного переворота, свергнувшего демократический строй, противником всяческой диктатуры — личной или классовой (в данном случае диктатуры «пролетарской») и что он не считает для себя возможным вступить в сотрудничество с ленинским правительством.
Отправившись через день в банк, чтобы взять некоторую сумму денег на недельные расходы, отец узнал, что его текущий счет был целиком конфискован большевистской властью и что страховое общество, которым он управлял, уничтожено. Отец вернулся домой нищим. В 1920 году он умер. Когда весть о его смерти дошла до Ленина, моей матери была неожиданно назначена неплохая пожизненная пенсия как «вдове революционера».
Был ли это у Ленина просто акт политического лицемерия или жест, вызванный желанием очистить свою совесть, я не берусь судить. Второе предположение так же возможно, как и первое.
«Мы знаем Владимира Ильича Ленина, какой это был железный большевик… Но мы видим, по рассказу Лядова (М.Лядов. „Мои встречи с Лениным“, 1924), как Владимир Ильич в Женеве был на спектакле „Дама с камелиями“, и когда Лядов обернулся к Владимиру Ильичу, то увидел, как он платочком вытирал слезы» (стенограмма беседы Вс. Мейерхольда с самодеятельными художественными коллективами завода «Шарикоподшипник», 27 мая 1936 года, в Москве).
В первых числах октября 1918 года я был назначен московским Советом председателем «флажной комиссии» и стал ответственным за «костюмировку», за декорирование советской столицы по случаю грандиозных торжеств первой годовщины Октябрьской революции. В течение трех недель я делал бесчисленные карандашные и акварельные наброски, по которым должны были украшаться улицы, площади, фасады; я должен был также контролировать проекты других художников, выбранных для участия в работах моей «комиссии», наблюдать и обеспечивать успешное исполнение гигантских декораций Москвы и ее предместий. Персонал и декорационные мастерские московских театров были целиком предоставлены в мое распоряжение. Десятки портных были мобилизованы для шитья многих тысяч аршин красной материи и холстов для живописи.
При этой комиссии имелась также «подкомиссия для распределения лозунгов». Среди лозунгов, намеченных Центральным комитетом партии, была хорошо известная престарелая цитата из Карла Маркса: «Революция — это локомотив истории». При взрывах общего хохота мы предназначили этот лозунг для железнодорожников и разослали на все вокзалы огромные знамена, на которых написанный локомотив имел на своей «груди», над буферами, портрет бородатого Маркса. По забавному совпадению, через четыре года знаменитый французский кинорежиссер Абель Ганс в фильме «Колесо» также украсил паровоз портретом — Северена Марса. Смех вырвался у меня и в 1935 году (семнадцать лет спустя), когда я прочел в «Правде», что донские железнодорожники обратились к Сталину, назвав его «машинистом локомотива истории»…
В течение двух недель я не смыкал глаз. Я помню мои вспухшие веки и покрасневшие глаза. В 8 часов утра 7 ноября (по новому стилю) процессии и прочие уличные манифестации должны были начаться. Накануне в 23 часа я закончил последние работы, осмотр украшенной Москвы и, едва держась на ногах, приготовился вернуться домой, захватив с собой старательно упакованные несколько аршинов красной материи для моей подруги (так как, несмотря на сотни тысяч аршинов материи, истраченной на всевозможные знамена, афиши и прочие пропагандные украшения, в Москве царило полное отсутствие материи для одежды населения). Но в тот самый момент, когда я взялся за ручку двери, чтобы покинуть «флажную комиссию», раздался телефонный звонок: говорил народный комиссар почты и телеграфа Николай Подвойский (впоследствии расстрелянный Сталиным), ответственный за общую организацию торжеств:
— Дорогой товарищ, — сказал мне Подвойский взволнованным голосом, — произошла ужасная вещь, и вы один можете нас выручить! Все было предвидено, кроме самого главного: трибуны на Красной площади для членов правительства и иных ответственных лиц, всего — для сотни человек. На этой трибуне должны быть дополнительные подмостки с кафедрой, с которой в девять часов утра, завтра, товарищ Ленин должен будет произнести свою речь. Под трибуной должна быть обширная зала с телефонными и телеграфными аппаратами. Я прошу вас сделать невозможное и рассчитываю на вашу революционную совесть и на ваше мастерство! Отправьтесь немедленно в Главный штаб Московского военного округа; его начальник предупрежден уже и предоставит в ваше распоряжение все, что вы найдете нужным, а также отряды саперов. Желаю вам удачи! До завтра!
Десять минут спустя, в сопровождении старшего плотника «флажной комиссии» и не выпуская из рук драгоценный пакет, я уже был в названном Главном штабе, где его начальник предоставил мне целый караван грузовиков для перевозки строительного материала, вооруженную охрану и обещал немедленно прислать на Красную площадь отряд саперов с необходимыми инструментами. Ночь была ледяная, и я потребовал несколько бочек с керосином, чтобы вылить его на затвердевший снег и поджечь, чтобы лед растаял на пространстве, отведенном для трибуны.
Частные склады строительных материалов в ту эпоху были еще далеко не все национализированы, а национализированные склады находились в состоянии полного беспорядка. Мой плотник знал все тайные пути, и мы прибыли к торговцу деревом за несколько верст от Москвы.
— Прикажете зарядить оружие? — спросил меня старший охранник.
— В другой раз, — ответил я, смеясь.
Разбуженные нашим неожиданным ночным появлением, торговец в кальсонах и его жена в ночной рубахе, смертельно перепуганные, дрожали передо мной.
— Успокойтесь, граждане, — сказал я, — я пришел только для того, чтобы опустошить ваши склады на срочные нужды товарища Ленина.
— Только для этого? — облегченно прошептал купец. — Какой вы добрый!
В этой фразе торговца не было, увы, никакой иронии.
Сторожа открыли сараи, которые мы просто-напросто ограбили: бревна, доски, гвозди и прочее.
Саперы и керосин уже ждали меня. Огромный огонь расползся по пустынной Красной площади. В две минуты я набросал контуры трибуны, столь же гигантской, как и «исторической», и в час ночи постройка началась. Около четырех часов утра, в ночной тьме и сопровождаемый вооруженными солдатами, появился отряд, долженствовавший сменить усталых саперов, замученных холодом и слишком напряженной работой. Однако внешний вид вновь пришедших удивил меня и вызвал во мне недоверие: эти люди, уже не первой молодости, носили вместо военной формы разнообразные штатские одежды, истертые пальто, мягкие шляпы, башлыки; некоторые были в очках.
— Кто вы такие? — спросил я с недоумением.
— Бригада интеллигентов на принудительных перевоспитательных работах, — был ответ. — Что мы должны делать?
— Строить трибуну для Ленина.
— Гражданин ответственный! — воскликнул один. — Вы слышите?
— Что ж! Построим, построим, — мрачно ответил «гражданин ответственный».
Я принял немедленное решение: мне уже мерещились некоторые предусмотрительно подпиленные доски, некоторые плохо скрепленные столбы, которые, может быть, не изменят будущего вселенной, но мою собственную судьбу — неизбежно.
— Это недоразумение, господа, — сказал я, — вы можете спокойно возвратиться в ваши помещения… А ваши солдаты, если это им доставит удовольствие, могут остаться здесь, — прибавил я в шутку.
Они повернули обратно, а я послал мотоциклистов в Главный штаб с требованием немедленной присылки нового отряда настоящих саперов…
В восемь часов утра, при первом свете зимней зари, трибуна, оконченная и украшенная знаменами, выросла на площади. Изнуренный, с насморком, я вернулся домой с пустыми руками. За нехваткой материи, к моему огорчению, мне пришлось постелить драгоценный рулон на ступеньках и на площадке перед кафедрой Ленина. В девять часов утра Ленин зашагал по несбывшимся платьям моей подруги.
Несмотря на полученное приглашение присутствовать на трибуне, меня там не было, и выступление Ленина я не слушал: я спал или, вернее, дрых до трех часов пополудни. Сколько фотографий было снято с «моей» трибуны, сосчитать трудно, но у меня не сохранилось ни одной.
Шесть лет спустя на том же самом месте был воздвигнут знаменитый «мавзолей» ведеты[227] № 1 двадцатого века.
В 1921 году советская власть заказала мне портрет Ленина, и мне пришлось явиться в Кремль. Когда все очень несложные формальности были исполнены, меня привели в кабинет Ленина.
То, чего я инстинктивно ожидал, не произошло: Ленин не сидел за столом, углубившись в бумаги. Ленин не сделал обычной в таких случаях паузы, как бы с трудом отрываясь от дел и почти случайно заметив вошедшего. Напротив: как только я показался в дверях кабинета, Ленин быстро и учтиво встал с кресла, направляясь ко мне навстречу.
— Странно, — сказал он, гостеприимно улыбнувшись, — я думал почему-то, что вы — гораздо старше… Садитесь, пожалуйста, будьте как дома.
Мы сели друг против друга.
— Я — жертва нашей партии, — продолжал Ленин, — она заставляет меня позировать художникам. Скажите, в чем будут мои обязанности и как вы хотите меня изобразить?
В двух словах я рассказал, что Ленин олицетворяет собой движение и волю революции и что именно это я вижу необходимым отразить в портрете.
Ленин (улыбаясь). Но, простите, я ведь только скромный журналист. Я предполагал, что на вашем портрете я буду изображен просто сидящим за письменным столом. Когда я увижу ваш холст осуществленным так, как вы его мне представляете, то я непременно залезу под стол от смущения.
Я. Право и привилегия художника — создавать образы и даже легенды. Если наши произведения оказываются в противоречии с правдой, то будущее наказывает за это прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы, художники, не можем и не должны. О Ленине-журналисте, простите меня, я не задумывался, а писать портрет обывателя с бородкой я считаю сейчас несвоевременным.
После короткого молчания (я сказал, конечно, много лишнего) Ленин улыбнулся и произнес:
— Хорошо. Я нахожу недопустимым навязывать художнику чужую волю. Оставим это право буржуазным заказчикам. Поступайте так, как вам кажется наиболее правильным. Я в вашем распоряжении, приказывайте, я буду повиноваться. Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь партийной дисциплине, я исполняю волю партии, но я — не ваш сообщник.
И, рассмеявшись:
— Ответственность, как вы сказали, останется на ваших плечах.
Ленин был неразговорчив. Сеансы (у меня их было два) проходили в молчании. Ленин как бы забывал (а может быть, и действительно забывал) о моем присутствии, оставаясь, впрочем, довольно неподвижным, и только когда я просил его взглянуть на меня, неизменно улыбался. Вспомнив о ленинской статье «Восстание как искусство», я попробовал тоже заговорить об искусстве.
— Я, знаете, в искусстве не силен, — сказал Ленин, вероятно, позабыв о своей статье и о фразе Карла Маркса, — искусство для меня это… что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненужностью. Впрочем, — добавил Ленин, улыбнувшись, — вы уже об этом поговорите с Луначарским: большой специалист. У него там даже какие-то идейки…
Ленин снова углубился в исписанные листы бумаги, но потом, обернувшись ко мне, произнес:
— Вообще, к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг «ликвидировать безграмотность» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. «Ликвидировать безграмотность» следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего.
Каждый сеанс длился около двух часов. Не помню, в связи с чем Ленин сказал еще одну фразу, которая удержалась в моей памяти:
— Лозунг «догнать и перегнать Америку» тоже не следует понимать буквально: всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку — это означает прежде всего необходимость возможно скорее и всяческими мерами подгноить, разложить, разрушить ее экономическое и политическое равновесие, подточить его и таким образом раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически «догнать и перегнать» Соединенные Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть реалистом.
Ленин снова хитровато улыбнулся:
— Художник, конечно, тоже. Импрессионизм, кубизм, футуризм и всякие другие «измы» искажают искусство. Оно должно обойтись без «измов». Искусство должно быть реальным.
На банальную тему об отрицательной роли «измов» в искусстве Ленин писал и в своих статьях. Раньше или позже наших сеансов — не помню.
Я хотел было спросить Ленина, как он относится к таким «измам», как «социализм», «коммунизм», «марксизм» и — в будущем — неизбежный «ленинизм», но удержался и промолчал. В комнату тем временем вошла Крупская и спросила меня, не хочу ли я «глотнуть чайку». Я отказался и, поблагодарив, поцеловал ее руку.
— Ишь ты! — воскликнул Ленин, засмеявшись. — Вы, часом, не из дворян?
— Из дворян.
— Ах, вот оно что… Впрочем, я — тоже.
Когда мой набросок был окончен, Ленин, взглянув на него, сказал:
— Tres bien[228], товарищ художник! Посмотрим, во что вы его потом превратите.
Весело смеясь, мы расстались, «товарищески» пожав друг другу руки, но, унося рисунок в папке, я уже знал, что задуманный ранее портрет Ленина как символ боевой воодушевленности революции, символ перекройки судеб человечества я не сделаю. Роль Ленина в подобной «перекройке» показалась мне историческим недоразумением, промахом, массовой аберрацией.
Выйдя из кремлевских ворот, я вдруг испытал чувство морального облегчения, смысл которого осознал лишь пройдя три или четыре улицы: оно было вызвано тем, что мое имя не ассоциировалось у Ленина с именем и драмой моего отца, которые не вплелись в наши беседы.
В декабре 1923 года Лев Борисович Каменев (тогда — председатель московского Совета), впоследствии расстрелянный Сталиным, предложил мне поехать в местечко Горки (в 35 верстах от Москвы), куда ввиду болезни укрылся Ленин со своей женой. Я вижу, как сейчас, уютнейший барский (а не «рабоче-крестьянский») желтоватый особнячок в стиле русского ампира, с шестью белыми колоннами, возвышавшимися над голубым декабрьским снегом двора и сада.
Каменев хотел, чтобы я сделал последний набросок с Ленина. Нас встретила Крупская. Она сказала, что о портрете и думать нельзя. Действительно, полулежавший в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с беспомощной, искривленной младенческой улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его страшной болезни, но не для портрета Ленина.
Я не хочу вспоминать об этой поездке в Горки, но и не могу забыть о ней. Это была моя последняя встреча с Лениным.

Григорий Зиновьев
Осенью того же двадцать третьего года мне случилось ехать в Москву с Григорием Зиновьевым (Аппельбаумом), в его личном вагоне. Первый председатель Третьего Интернационала (расстрелянный впоследствии Сталиным) говорил со мной о Париже. Глаза Зиновьева были печальны, жесты — редкие и ленивые. Он мечтательно говорил о Париже, о лиловых вечерах, о весеннем цветении бульварных каштанов, о Латинском квартале, о библиотеке Святой Женевьевы, о шуме улиц и опять о каштанах весны. Зиновьев говорил о тоске, овладевшей им при мысли, что Париж для него теперь недоступен. В Петербурге Зиновьев жил в гостинице «Астория», перед которой на площади — Исаакиевский собор, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, и купол которого Зиновьев ежедневно видел из своей парижской комнаты. Перед входом в Пантеон — зеленая медь роденовского «Мыслителя» (упрятанного нынче в музей)… Багровые листья осеннего Люксембургского сада; на скамейке — японский юноша, студент Сорбонны, размышляющий над французским томом химии или философии; золото рыб в темной влаге фонтана Медичи; осенние листья, порхающие над аллеями; эмигрантские споры за бутылкой вина в угловом бистро…
Вспоминая о Париже, Зиновьев рассказал, как Ленин по вечерам «бегал на перекресток» за последним выпуском вечерних газет, а ранним утром — в булочную, за горячими подковками.
— Его супружница, — добавил Зиновьев, — предпочитала, между нами говоря, бриоши, но старик был немного скуповат…
Но я никогда не забуду зиновьевской фразы, не имеющей, впрочем, отношения к Ленину:
— Революция, Интернационал — все это, конечно, великие события. Но я разревусь, если они коснутся Парижа!
Часа в четыре утра Зиновьев неожиданно воскликнул:
— Жратва!
Обслуженные его охранниками, мы съели копченый язык и холодные рубленые куриные котлеты, запивая их горячим чаем. Около пяти часов утра Зиновьев промычал:
— Айда дрыхать! — и, растянувшись на кушетке, сразу же захрапел, не раздевшись.
Косвенным образом меня связывало с Лениным еще одно знакомство: близкий друг моего отца, его товарищ по ссылке и завсегдатай нашего дома, писатель и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский. Автор книг «Рассказы о прошлом», «Очерки Сибири», «Окаянный город», «Служащий», «Воспоминания за 50 лет» (где Елпатьевский писал о своих современниках — Н.К.Михайловском, Г.И.Успенском, А.П.Чехове и других), Елпатьевский вместе с Н.Ф.Анненским (братом поэта Иннокентия Анненского) был редактором «толстого» журнала «Русское богатство» и — после Октябрьской революции — личным врачом Ленина, «кремлевским лекарем».
С моего раннего детства и сквозь все годы моей юности, в дни моих довольно редких заболеваний я всякий раз видел добрую, подбодряющую улыбку Сергея Яковлевича, склонявшегося над моей постелью. В послеоктябрьский, «кремлевский» период своей жизни Елпатьевский во время наших встреч много и очень интересно рассказывал мне о Ленине, у которого бывал иногда почти ежедневно, но который в годы, предшествовавшие Октябрьской революции (1913–1914), писал о Елпатьевском не очень дружелюбно.
В статье «Радикальный буржуа о русских рабочих», напечатанной в № 3 журнала «Просвещение», в марте 1914 года, Ленин, за подписью В.Ильин (см. т. 2 °Cочинений Ленина, Гос. изд. политической литературы, Ленинград, 1952), назвав Елпатьевского «радикальным буржуа, или буржуазным демократом», писал о нем: «Этот писатель — один из вернейших единомышленников и соратников Н.К.Михайловского, которого так неумно превозносят теперь желающие, рассудку вопреки, слыть социалистами „левонародники“. Г-н С.Елпатьевский — внимательный наблюдатель русской обывательской жизни, настроениям которой он „чутко“ поддается».
Далее Ленин, упрекая Елпатьевского в том, что он стал противником «подпольной» политической борьбы и сторонником «борьбы за открытую партию», утверждает, что «не широк кругозор нашего народника, мелок его анализ».
Эта фраза Ленина сыграла решающую роль для всех тех, кому в СССР пришлось и приходится писать о Елпатьевском (Советская энциклопедия и пр.). Вероятно, из-за этой же фразы нигде не упоминается о том, что Елпатьевский был в Кремле личным врачом Ленина. Но что это было так, мне известно с полной точностью. Что же касается самого Ленина, то он писал о Елпатьевском и гораздо более лестные строки. Приведу следующие цитаты из статей Сергея Яковлевича: «Мне нечего говорить здесь об организованных рабочих. Там не приходится идти ощупью в своих умозаключениях — там все ясно и всем видно. Там мнения довольно точно установлены, там не только желания и ожидания, но и требования, подкрепляемые волевыми импульсами, — не стихийными вспышками, а систематизированными и достаточно выработанными методами… И несомненно, мнения, и желания, и ожидания просачиваются из этой организованной среды в деревенскую, откуда она вышла».
«Это пишет, — заключает Ленин, — человек, который никогда не принадлежал к марксистам и всегда стоял в стороне от „организованных“ рабочих. И эта оценка дела со стороны тем ценнее для сознательных рабочих. Г-ну Елпатьевскому… следовало бы подумать над значением того, что ему пришлось признать теперь… но вопрос… поднятый им, далеко выходит за пределы личного разумения отдельных политиков».
В 1918 году, в полный разгар гражданской войны, когда ленинские лозунги летали повсюду: «Грабь награбленное!», «Кулаком в морду, коленом в грудь!», «Смерть буржуям!» и тому подобные, я находился еще в призывном возрасте, и мне предстояло быть зачисленным в ряды Красной армии.
— Не беспокойся, мой мальчик, — сказал мне Сергей Яковлевич, — я начиркаю тебе на бумажке такую болезнь, что любая военная медицинская комиссия сразу же сочтет тебя неспособным носить оружие.
И Елпатьевский добавил по-французски:
— Minute, papillon, mon petit![229]
Написав на листе бумаги с печатным указанием своего имени, профессии и адреса, он утвердил своей очень отчетливой подписью какой-то ужасающий диагноз. Решение мобилизационного бюро последовало немедленно: Красная армия во мне не нуждалась…
При наших встречах Сергей Яковлевич иногда говорил мне о своих разногласиях с Лениным, об ошибках марксизма, с которым Елпатьевский, бывший народоволец, отошедший от политической деятельности и ставший беспартийным, не мог согласиться.
— Но ведь я доктор, лекарь, и наше разногласие не мешает мне следить за здоровьем Ильича, — говорил Елпатьевский, — политика и медицина не совпадают: политика часто требует угнетения и даже смерти. Медицина, напротив, требует хорошего здоровья даже для приговоренного к казни преступника.
Ленин умер 21 января 1924 года. Это разнеслось по всему миру. Виктор Серж писал в своем «Tournant obscur»: «Я путешествовал в окрестностях Вены в один из январских дней 1924 года… В купе вагона, заполненном ожиревшими и пожилыми пассажирами, кто-то развернул газету, в которой я прочел заголовок: „Смерть Ленина“… Потом эти люди заговорили об этой смерти. Я слушал. Среди них — ни одного коммуниста, но каждый произносил свои слова с особой серьезностью, с сознанием, что ушел кто-то единственный в своем роде и очень большой, унеся с собой в могилу множество надежд того времени. Я смотрел на лица этих людей другой страны, другого мира, мелких австрийских буржуа, чуждых всякой революции, всякому обновлению: они, каждый по-своему, выражали сожаление по поводу смерти революционера».
Возможно…
Я жил в то время в Петербурге, работая над одной театральной постановкой. На следующий день после смерти Ленина я получил срочный вызов в Москву для того, чтобы написать портрет Ленина в гробу. Меня эта работа не вдохновляла и, чтобы избежать ее, я тотчас переселился на несколько дней к одной актрисе Большого драматического театра (бывший Суворинский театр)[230], не оставив в моем доме моего нового адреса, но подсунув полученный вызов под мою входную дверь, как это обычно делал почтальон: звонок не действовал.
Портрет Ленина на смертном одре был написан масляными красками К.Петровым-Водкиным, а общий вид траурной залы Дома союзов, украшенной пальмами и знаменами, где отдавали последние почести Ленину, был запечатлен на гравюре А.Кравченко.
Однако, приехав в Москву недели через три, я был немедленно вызван в Высший военный редакционный совет, где мне предложили отправиться в основанный в Москве Институт В.И.Ленина для ознакомления с фотографической документацией ввиду предполагавшихся иллюстраций для книг, посвященных Ленину.
«Ознакомление с документацией» продолжалось около двух недель. В облупившемся снаружи и неотопленном внутри Институте В.И.Ленина (не путать с менее облупившимся, но столь же неотопленным в те годы московским Институтом К.Маркса и Ф.Энгельса) меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг, извлеченный из черепа во время бальзамирования трупа: одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами; другое, как бы подвешенное к первому на тесемочке, — сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха. Через несколько дней эта страшная банка исчезла из Института и, надо думать, навсегда. Мне говорили в Кремле, что банка была изъята по просьбе Крупской, что более чем понятно. Впрочем, я слышал несколько лет спустя, будто бы ленинский мозг был перевезен для медицинского исследования куда-то в Берлин.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ Настоящая фамилия – Ульянов(род. в 1870 г. – ум. в 1924 г.) Организатор Октябрьской революции и большевистской партии, создатель первого в мире социалистического государства, теоретик марксизма. Будущий вождь мирового коммунистического движения
Вождь первый: Владимир Ленин
Вождь первый: Владимир Ленин Ленин антигуманист, как и антидемократ. Н.
Владимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин Ленин был одной из самых крупных политических фигур ХХ века. Его лечили лучшие доктора своего времени. О состоянии его здоровья сообщали газеты. Ход его болезни обсуждался на заседаниях Политбюро как важнейший государственный вопрос. И, тем не менее,
Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин
Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился (10) 22 апреля 1870 года в городе Симбирске (с 1924 года — Ульяновск). Отец, Илья Николаевич — учитель, инспектор, а затем директор народных училищ Симбирской губернии, получивший потомственное
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (род. в 1870 г. – ум. в 1924 г.) Идейный и практический руководитель Октябрьского восстания в России. Основатель и руководитель Российской Коммунистической партии (большевиков) и Советского государства, вдохновитель и организатор красного
Макс Адлер ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Макс Адлер ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН От редакции. Статья Макса Адлера переведена из № 3 «Der Kampf». Адлер принадлежит к соглашательскому крылу Интернационала 2 1/2. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на ряд совершенно ошибочных суждений его о т. Ленине. Но тем
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Владимир Ильич
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Владимир Ильич (22.04.1870 — 21.01.1924). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) 10(23).10.1917 г.; член Политбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 21.01.1924 г. Член ЦК РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) с 1903 г. (кооптирован), в 1905 — 1906, 1912 — 1924 гг. Кандидат в члены ЦК РСДРП в 1907 — 1912 гг. Член партии с 1893 г.Родился в г.
Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин
Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился (10) 22 апреля 1870 года в городе Симбирске (с 1924 года – Ульяновск). Отец, Илья Николаевич – учитель, инспектор, а затем директор народных училищ Симбирской губернии, получивший потомственное
Ленин Владимир Ильич
Ленин Владимир Ильич Настоящее имя – Владимир Ильич Ульянов (род. в 1870 г. – ум. в 1924 г.) Основатель Российской коммунистической партии большевиков. Идейный и практический руководитель Октябрьского вооруженного восстания. Основатель и первый руководитель Советского
Владимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин Первое время после переезда правительства в Москву Владимир Ильич жил в 1-м Доме Советов («Национале») и каждый день ходил в Кремль пешком, без всякой охраны. Вообще вплоть до злосчастного покушения Каплан Ильич всюду ходил и ездил один, категорически
Политическая круговерть. Владимир Ленин
Политическая круговерть. Владимир Ленин Глухо донеслась до нас весть об убийстве Распутина. О Распутине мы в то время почти ничего не слышали. Очевидно, в нашей семье не было обычая смаковать сплетни о падении авторитета царствующей фамилии, а в гимназии об этом
Владимир Ильич Ленин*
Владимир Ильич Ленин* <…> Я был в ссылке, когда до нас начали доходить известия о II съезде. К этому времени уже издавалась и окрепла «Искра».1 Я, не колеблясь, объявил себя искровцем. Но самую «Искру» знал я плохо: номера доходили до нас разрозненно, хотя все же доходили.Во
Владимир Ильич Ленин*
Владимир Ильич Ленин* Владимир Ильич Ульянов-Ленин является безусловно одной из крупнейших фигур мировой истории. Это объясняется прежде всего тем, что переживаемые ныне события представляют собой вообще центральное явление в истории. Мы стоим на пороге, когда
М. Н. ЛЯДОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
М. Н. ЛЯДОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН Как-то не вяжется с именем Ленина слово «великий», так часто употребляемое в последнее время. Не вяжется, если мы представим себе всех тех «великих» Петров, Екатерин, Фридрихов и прочих кукольных делишек героев. Не вяжется особенно для тех,
М. АДЛЕР ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
М. АДЛЕР ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН 121 января 1924 года в маленьком местечке под Москвой скончался человек, весть о смерти которого потрясла во всем мире всех, как противников, так и приверженцев, впечатлением стихийной катастрофы: Ленин мертв! Ленин — на вершине своей
П. П.МАСЛОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН (отрывки из воспоминаний)
П. П.МАСЛОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН (отрывки из воспоминаний) Дать объективную оценку крупной исторической личности ее современникам тем труднее, чем большую роль она играла в общественной жизни и в общественной борьбе. Только спустя несколько лет, а иногда и десятилетий