ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
В июле 1864 года Афанасий Афанасиевич Фет оказался в Петербурге. Рачительный помещик и маститый поэт был занят тяжбой. В столице он остановился у Василия Петровича Боткина, который жил рядом с Английским клубом. В воспоминаниях об этом лете у Фета неподражаемо соединяется высокое с низким, в рассказ о мелочных хлопотах вплетаются письма Льва Толстого и Тургенева, обед с «несравненным мыслителем и поэтом Ф. И. Тютчевым»...
Однажды Боткин встретил вернувшегося домой Фета словами :
— Здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобой познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил.
Фета поразило и специальное шоссе, проложенное от станции Саблино до Пустыньки, и великолепная усадьба на высоком берегу быстрой речки Тосны, и роскошная мебель, начиная от шкафов Буля и кончая стульями, которые показались поэту отлитыми из золота, и превосходные кушанья, подававшиеся в серебряных блюдах с «художественными крышками», и стена вдоль лестницы на второй этаж, которую «забросали» мифологическими рисунками свободные художники, посещавшие дом, и, наконец, приветливость и простота Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых.
Памятуя о собственной суете, Фет впоследствии всегда считал Алексея Толстого «безукоризненным человеком».
И средь детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он,—
писал Пушкин, думая о суетности поэта-человека, вполне допуская возможность низменных интересов у вдохновенного творца. Исключением из этого правила для Фета был Алексей Толстой, который «никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным».
Человек, до смешного лишенный чувства юмора, Афанасий Фет был склонен простить даже некоторые «странности» и в характере Алексея Константиновича, и в порядках, с которыми он впервые познакомился в Пустыньке.
«Не взирая на самое разнообразное и глубокое образование, — вспоминал Фет, — в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Кузьмы Пруткова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя — Алексея Михайловича Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную обрядную форму. Так, гуляя с графиней в саду, я увидел в каменной нише огромную, величиною с собачку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой — «что это такое?» — графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии»1.
Здравый смысл Фета подвергся еще большему испытанию, когда часов в девять вечера все пятеро собрались наверху, в небольшой гостиной, примыкавшей к спальне Софьи Андреевны. Продолжая разговор, начала которого Фет не слышал, Боткин обратился к хозяйке:
— А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся в воздух и стал качаться, и я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн и тому подобного, но ничего не нашел? А затем помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел и влез на этот диван?
— А не попробовать ли нам сейчас спросить столик? — сказал Толстой.— У графини так много магнетизма.
Фет был несколько обескуражен. Все это говорилось совершенно серьезно.
Они уселись за раскрытый ломберный столик. Фет все еще считал, что это шутка и на всякий случай сказал :
— Пожалуйста, будемте при опыте этом сохранять полную серьезность.
А сам поглядывал на Жемчужникова, явно подозревая его в шутливом сговоре с хозяевами.
— Кого же вы считаете способным к несерьезности? — спросила Софья Андреевна. Фет смешался.
Соприкасаясь мизинцами, они составили круг из рук. Занавески на окнах были плотно задернуты, но комнату заливал свет свечей. Минуты через три Фету показался легкий шорох за занавесками, потом он почувствовал из-под стола какое-то дуновение.
— Господа, ветерок, ветерок,— тихо сказал Алексей Константинович и обратился к жене.— Попробуй ты спросить, они к тебе расположены.
Софья Андреевна стукнула костяшками пальцев по зеленому сукну стола, и тотчас из-под стола донесся ответный удар.
— Я их попрошу,— продолжал Алексей Константинович,— пойти к Афанасию Афанасиевичу... Спросите их ямбом.
Фет послушно постучал в ритме ямба, и в ответ услышал стук — тоже двусложную стопу с ударением на втором слоге. Попробовал дактиль и другие размеры и всякий раз получал ответ.
«Я ничего не понимал из происходящего у меня под руками и, вероятно, умру, ничего не понявши»,— записал Фет.
Сейчас даже трудно представить себе масштабы той эпидемии «столоверчения», которая охватила весь мир с середины прошлого века. Началась она с того дня, когда в марте 1848 года в доме американского семейства Фоксов невидимые «духи» стали стучать в ответ всякий раз, когда стучали люди. От английского звучания слова «дух» («спирит») это явление назвали спиритизмом. «Духи» отстукивали порядковый номер любой буквы в азбуке и отвечали на вопросы. В присутствии некоторых они это делали охотнее, и таких людей стали называть медиумами. И вот уже по всей, Америке «духи» застучали, задвигали мебель, стали играть на музыкальных инструментах, поднимать в воздух предметы и даже людей. Уже в 1852 году в Соединенных Штатах было 30 тысяч медиумов и много миллионов убежденных спиритов.
Увлечение перекинулось в Европу. Спиритизмом занимались такие ученые, как Фарадей и Фламмарион, писатель Теккерей и другие знаменитости. В России спиритизмом заразились очень многие — от математика академика А. В. Остроградского до писателя и составителя «Толкового словаря» В. И. Даля. Эпидемия пошла на убыль лишь после того, как комиссия, созданная Менделеевым, доказала, что спиритические явления вызываются непроизвольными движениями участников сеансов и сознательным обманом медиумов, а сам спиритизм назвала суеверием.
Особенно поражал воображение медиум Юм. Фрейлина
А. Ф. Тютчева, дочь великого поэта, записала в своем дневнике 10 июля 1858 года: «Приезд Юма-столовращателя. Сеанс в большом дворце в присутствии двенадцати лиц: императора, императрицы, великого князя Константина, наследного принца Вюртембергского, графа Шувалова, графа Адлерберга, Алексея Толстого, Алексея Бобринского, Александры Долгорукой и меня...»2 Тютчева весьма впечатляюще описала сеанс во дворце, но для того, чтобы потом стало понятнее одно из посмертных сочинений Козьмы Пруткова, лучше привести то, что Алексей Толстой написал своей жене Софье Андреевне из Англии в 1860 году :
«Лондон, 13 июня... Два часа ночи. Я только что вернулся от Юма и, несмотря на боль, которую причиняет мне наша разлука, я не жалею о моем путешествии в Лондон, так как сеанс был поразительный.
Боткин (В.) уверовал; хочет завтра запереться, не выходить целый день, чтобы обдумать все, что он видел...
Нас было: я, Боткин, жена Юма, г-жа Миллер-Гибсон (жена cabinet-minister), одна дама-компаньонка и потом Штейнбок. Прежде всего были явления, которые тебе известны; после этого продолжали в полутемноте; вся мебель задвигалась, передвинулась; один стол стал на другой, диван стал посреди комнаты, колокольчик гулял по всей комнате и звонил в воздухе и т. д. Потом произвели полную темноту. Фортепиано заиграли сами собой, браслет был снят с руки г-жи Гибсон и упал на пол, испуская лучи света. Юм был поднят в воздух, и я щупал его ноги, пока он лежал над нашими головами. Руки обняли мои колени и брали мои руки, и, когда я захотел задержать одну руку, она растаяла...»
В начале 1861 года американский медиум Дэниэл Дуглас Юм снова появился в Петербурге. Вполне возможно, что одним из пригласивших его был Алексей Толстой.
В Петербурге Юма принимали весьма радушно, а в предыдущий его приезд он даже породнился с графом Кушелевым, женившись на его свояченнице. По словам Григоровича, шаферами на свадьбе «престижидатора» были присланные императором Александром II два флигель-адъютанта : А. Бобринский и А. Толстой. На свадьбе присутствовал путешествовавший по Госсии Александр Дюма3.
Сохранилось письмо Юма от 20 марта 1865 года, посланное им А. К. Толстому из Америки. «Через шесть недель я отплываю в Англию, и как только получу весточку от Кушелева, тотчас отправлюсь в Петербург»4.
Судя по письму Толстого к историку Костомарову от 2 июня 1865 года, Юм снова демонстрировал свои «чудеса» в Пустыньке.
Алексея Константиновича всегда интересовали сверхъестественные явления. Он посещал сеансы магнетизеров, гипнотизеров... На первом же сеансе Юм заставил подкатиться кресло на колесиках, стоявшее в другой комнате. Наклонил стол на шестнадцать персон, и уровень вина в стаканах оставался параллельным столу, а не полу... Толстой допускал, что это мог быть массовый гипноз.
Как и многим, Толстому было трудно примириться с тем, что человек смертен. Но интеллект его протестовал и против примитивного, сказочного объяснения вечной жизни, которое предлагала религия. В спиритизме его привлекало чувственное соприкосновение с тем, о чем говорили недоказуемые религиозные догмы. Хотелось верить, что земная оболочка, тело человека — лишь одно из возможных, временных проявлений существования личности и что со смертью тела дух не умирает.
Алексей Толстой иногда и сам посмеивался над своим увлечением. Насмешник Александр Жемчужников пошел дальше — он заставил разговаривать с читателем дух Козьмы Пруткова. Правда, это уже после смерти Алексея Толстого.
«Да, однажды, действительно по вызову Юма, я, в одном из его сеансов, не только под столом играл на гармонике, но и бросал колокольчик и даже хватал чужие коленки»,— оповестил читателей Козьма Прутков «с того света». Но отвечать Юму, как человеку нечиновному, он не стал и заговорил лишь тогда, когда объявился равный ему в чине медиум — генерал-майор в отставке и кавалер.
Алексей Жемчужников вспомнил о своих занятиях спиритизмом с Алексеем Толстым уже под старость и записал в дневнике 11 апреля 1892 года:
«...Я был бы вместе с Фомою неверующим. Мне очень нравятся слова, которые мы читаем в Евангелии :
«Верую, Господи! Помоги моему неверию!»
Это удивительно хорошо и психологически интересно. Я положительно не верю спиритизму и способен относиться даже с озлоблением к людям, которые убивают время на занятие им. Вспоминаю о сеансе у Алексея Толстого в Пустыньке... известного Юма. Это было летом после обеда. Толстой пришел мне сказать, что духи требуют моего присутствия на сеансе (сперва я не был на него приглашен). Я явился; видел вещи странные, которые объяснить не мог себе ; я был убежден, что спирит Юм не имел в числе приглашенных ни одного (сообщника?), а все-таки удалился раньше окончания сеанса, убежденный, что это — фокусы, очень интересные и для меня непонятные...»5
2
Хочется верить, что когда-нибудь будет написана биография замечательного русского поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого, в творчестве которого юмор считается чем-то второстепенным и даже случайным.
И в ней будет рассказано о его подвижническом многолетнем труде над трагедиями «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», о его раздумьях над страницами русской истории, о постановках его пьес, его путешествиях за границу и создании баллад...
И будет в ней рассказ о постепенном физическом угасании Толстого, человека чудовищной силы, способного перебросить двухпудовую гирю через флигель, охотника, убившего на своем веку больше сорока медведей и страдавшего в конце жизни от астмы, расширения аорты, бессонницы и головных болей, которые он безуспешно лечил холодными душами, купаниями в проруби и в теплых источниках заграничных курортов...
И в ней будет повесть о любви его к Софье Андреевне, которой он при расставаниях всю жизнь писал страстные письма.
Софья Андреевна была всесторонне образована, она буквально поглощала тысячи книг на разных языках и обладала такой памятью, что, если Толстому иной раз требовалась какая-нибудь справка, ему не надо было рыться в книгах, а следовало лишь спросить у жены. Впрочем, и сам он был энциклопедически образован. Он целиком полагался на ее литературный вкус, порой слепо, так как стоило ей, повинуясь настроению, неодобрительно отозваться о стихотворении, и Толстой уничтожал его. Известны случаи, когда он откладывал работу над крупными произведениями, которые были ей не по вкусу. Прекрасная музыкантша, она царила на их литературных вечерах в Петербурге на Гагаринской набережной, а также на обедах в Пустыньке и Красном Роге. Бывало, она брала повести Гоголя и с блеском читала их сразу по-французски без всякой подготовки. Переводы ее на русский были безукоризненны.
Один из современников четы Толстых вспоминал :
«Графиня была живым доказательством, что обаяние не нуждается в красоте. Черты лица ее привлекательными не были, но умные глаза и умный тоже, золотой голос придавали милейшему ее слову что-то особенно завлекательное...»6
При первом знакомстве она как бы ощупывала людей, окачивая их холодной водой скрытой насмешки. Толстой старался сгладить возникавшее было неприятное чувство добродушной благосклонностью. На понедельниках Толстых, по воспоминаниям, всегда было приятно и весело. Даже резкие на язык люди вели себя в их доме весьма сдержанно. Гостями бывали Гончаров, Майков, Тютчев, Боткин, Островский, композитор Серов, Тургенев, Маркевич...
Лучшие артистические силы Петербурга приглашались на эти вечера, и Боткин писал к Фету, что «дом Толстых есть единственный дом в Петербурге, где поэзия не есть дикое бессмысленное слово, где можно говорить о ней, и, к удивлению, здесь же нашла приют и хорошая музыка...» (27 ноября 1867 г.).
Но была еще и другая сторона воцарения Софьи Андреевны в качестве полноправной хозяйки дома и имений Алексея Константиновича. С нею вместе нахлынули многочисленные ее родственники Бахметьевы, ее племянники и племянницы. С родней Толстого, с Жемчужниковыми, у них сложились не слишком приязненные отношения. Они оттеснили от него друзей Козьмы Пруткова, что совсем не нравилось Толстому, терпевшему, однако, тиранию новой родни ради любви к жене, которая считала своим долгом покровительствовать своим. Алексей Константинович любил ее племянника Андрейку, заботился о нем, и ранняя смерть юноши была для него настоящим горем.
Впоследствии писали о бесцеремонности Бахметьевых, об их хозяйничании в толстовских имениях, якобы едва не доведших его до разорения. Но судя по описаниям его жизни в Красном Роге, он и сам был хозяин никудышный. О доброте его и безхозяйственности рассказывали анекдоты.
Однажды его бывшие крестьяне попросили у него дров, и он предложил им вырубить находившуюся возле усадьбы липовую рощу, что они немедленно и сделали. Толстой совершенно не был в состоянии отказывать просителям. Его без конца обманывали управляющие имениями, которым он все прощал. В этом он напоминал своего прадеда Кирилу Разумовского. Однажды Кирила Григорьевич гулял с Михаилом Васильевичем Гудовичем по Батурину и увидел роскошный, но еще недостроенный дом своего управляющего. Гудович заметил, что пора бы сменить управляющего, который наворовал у графа денег на такой дом.
— Нет, брат,— ответил Разумовский,— этому осталось только крышу крыть, а другого взять, так он сызнова станет весь дом строить.
Как-то летом 1869 года Фет решил посетить Толстого в Красном Роге. Потом он вспоминал, как его ждала в Брянске прекрасная графская тройка, как ехал он в имение сквозь двойные леса, мимо озер, затянутых ряской, по дороге, кое-где застланной бревенчатым накатом, как его приняли и поселили во флигеле.
«Трудно было выбирать между беседами графа в его кабинете, где, говоря о самых серьезных предметах, он умел вдруг озарять беседу неожиданностью, ? 1а Прутков,— и салоном, где графиня умела оживить свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце, или каком-нибудь историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерскою игрою и пением заставить слушателя задышать лучшею жизнью»7.
После завтрака устраивались чтения «Федора Иоанновича» и тогда еще неоконченного «Царя Бориса». Как-то все выехали на прогулку в линейке, которую везла четверка прекрасных лошадей. Хозяйственный Фет спросил Толстого о цене левой пристяжной. И услышал в ответ:
-— Этого я совершенно не знаю, так как хозяйством решительно не занимаюсь.
По дороге Толстой затянул песню, Софья Андреевна вторила ему. Фета поразило обилие стогов сена на лугах. Ему объяснили, что сено накопляют два-три года, а потом, за неимением места для склада, сжигают.
Фет был совершенно огорошен.
«Этого хозяйственного приема толстого господина, проживавшего в одном из больших флигелей усадьбы, которого я иногда встречал за графским столом, я и тогда не понимал и до сих пор не понимаю»,— писал он.
Фета тревожила перемена в Толстом, лицо которого было багрового цвета от прилива крови к голове. Спасаясь от головной боли, Алексей Константинович старался побольше гулять, но это не помогало ему.
У Толстого в имении жил доктор Криевский, который был предметом постоянных шуток Толстого. Именно ему посвящены очень смешные «Медицинские стихотворения». Врач вспоминал, что Толстому рядом с обеденным прибором всегда клали листок бумаги, на котором часто появлялись веселые экспромты. Соседей-помещиков, приезжавших в гости, поэт переносил с трудом, и оживлялся только тогда, когда они откланивались.
Софья Андреевна обычно по ночам читала и ложилась часов в шесть утра. Ночью же работал и Толстой. Они встречались за чаем во втором часу дня, и Толстой говорил:
— Ну, Софочка, слушай, критикуй.
Он читал ей написанное за ночь. Она слушала, высказывала свое мнение, и он почти всегда соглашался с ней. Софья Андреевна звала его не по имени, а Толстым.
Толстой все чаще думал о смерти и в 1870 году составил завещание, по которому все движимое имущество и сочинения переходили в собственность Софьи Андреевны, а имения — Красный Рог, Погорельцы, Пустынька и земли в Байдарской долине, в Крыму,— должны были перейти после смерти Софьи Андреевны «в вечное и потомственное владение» брата Николая Михайловича Жемчужникова. С согласия Софьи Андреевны он позаботился о том, чтобы фамильное имущество в конце концов вернулось в его род8.
Произведения Толстого уже пользовались европейской известностью, его засыпали предложениями о переводах, на немецкий язык его сочинения успешно переводила Каролина Павлова. Но жить с непрерывной головной болью было тяжело, он ходил медленно, осторожно, боясь пошевелить головой. И несмотря на это Толстой продолжал много работать, принимая всевозможные средства для успокоения болей и подстегивания творческой активности.
Николай Буда-Жемчужников, приехавший в Красный Рог в августе 1875 года, вспоминал изнуренный вид двоюродного брата, который, однако, бодрился и говорил:
— А я себя чувствую несравненно лучше, совсем поздоровел, и все благодаря морфину. Спасибо тому, кто посоветовал мне морфин.
В записной книжке Н. М. Буды-Жемчужникова оказались сведения об этом «благодетеле»9.
Незадолго до встречи с Жемчужниковым, Толстой был в Париже, где лечился у знаменитого врача Теста. Но кто-то посоветовал ему попробовать инъекции морфия для облегчения болей. «Лечил» морфием врач Харди, и Толстой пригласил его к себе.
Доктор Тест как раз находился у Толстого, когда доложили о приезде Харди. Врач встал и простился с Толстым, сказав:
— ? dieu, cher comte, c’est l’empoiscmneur qui est arrive24.
Он был прав. После изобретения англичанином Вудом
подкожного вспрыскивания морфий стали усиленно применять в терапии и особенно после Крымской и Франко-Прусской войн. Но уже вскоре врачи осознали страшные последствия употребления этого наркотика. Едва ли не в тот год, когда Толстому вспрыснули его впервые, стали говорить о необходимости дезинтоксикации больных и появился термин «морфиномания».
Да, морфий давал ощущение «хорошего самочувствия», но за временным облегчением наступали еще более жестокие мучения, дозы наркотика все увеличивались...
Писатель Б. М. Маркевич, с которым А. К. Толстой дружил последние годы жизни, нарисовал характерную картину отравления морфием. 24 сентября 1875 года он писал А. Н. Аксакову из Красного Рога :
«Но если бы Вы видели, в каком состоянии мой бедный Толстой, Вы бы поняли то чувство, которое удерживает меня здесь... Человек живет только с помощью морфия, и морфий в то же время подтачивает ему жизнь — вот тот заколдованный круг, из которого он уже больше выйти не может. Я присутствовал при отравлении его морфием, от которого его едва спасли, и теперь опять начинается это отравление, потому что иначе он был бы задушен астмой»10.
Толстому лучше дышалось в сосновом лесу, куда его вывозили каждый день. В комнатах стояли кадки с водой, и в них — свежесрубленные молодые сосенки.
Как-то, показав на дверь на балкон, которая была заперта, Толстой сказал: «Я думаю вам придется отпереть эту дверь, коридор слишком узок».
Он все увеличивал дозы морфия, чтобы облегчить страдания, и 28 сентября в половине девятого вечера Софья Андреевна, войдя к нему в кабинет, нашла его лежащим в кресле. Она думала, что муж заснул, но все попытки разбудить Толстого оказались тщетными.
Алексей Константинович хотел, чтобы его похоронили в дубовом гробу. Но когда привезли заказанный в Брянске гроб, оказалось, что он мал для его богатырского тела. Наскоро сколотили сосновый, и краснорогские мужики понесли его хоронить на сельское кладбище, что раскинулось возле Успенской церкви, которая и поныне стоит у оживленного шоссе, ведущего в Брянск.
Впоследствии прибыл заказанный Софьей Андреевной в Париже металлический саркофаг, в который и поместили сосновый гроб. Саркофаг стоял в склепе у церкви, а когда умерла гостившая в Португалии у племянницы Софья Андреевна, ее тело привезли и положили рядом. Усыпальница была в ужасном состоянии, пока Николай Буда-Жемчужников не построил наружную часть склепа с небольшой башенкой. Усыпальница была заперта, а снаружи на стене укреплены две чугунные доски с именами Алексея Константиновича и Софьи Андреевны.
Узнав о скорбном событии, Иван Сергеевич Тургенев прислал из Буживаля (Франция) письмо, помещенное в ноябрьском номере «Вестника Европы». В нем Тургенев перечислял заслуги Алексея Толстого: «Он оставил в наследство своим соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений, которые — в течение долгих
лет — стыдно будет не знать всякому образованному русскому...»
«Наконец... кто же не знает, что в его строго идеальной натуре била свежим ключом струя неподдельного юмора и что граф А. К. Толстой — автор «Смерти Иоанна Грозного» и «Князя Серебряного» — был в то же время одним из творцов памятного всем «Кузьмы Пруткова».
Всем, знавшим его, продолжал Тургенев, хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» — это выражение почти неизбежно приходило всем на уста при одной мысли о Толстом... Натура гуманная, глубоко гуманная!»
3
Незадолго до смерти Толстой сообщал редактору того же «Вестника Европы», что он в самое ближайшее время собирается предложить журналу свои «Охотничьи воспоминания». Он писал: «Туда войдет сверх настоящих охотничьих приключений, которыми я очень богат, множество анекдотов о живых и мертвых и вообще все, что взбредет в голову. Оно, если удастся, может выйти характерно и интересно».
Это действительно было бы невероятно интересно и, может быть, даже раскрыло кое-какие тайны творческой истории Козьмы Пруткова, если бы, к сожалению, рукопись после смерти Толстого не затерялась, как не дошла до нас большая часть переписки поэта, его записные книжки, личные бумаги, не опубликованные им при жизни стихотворения...
В наше время некоторые исследователи считают едва ли не единственной виновницей утраты толстовских бумаг Софью Андреевну Толстую. «У Софьи Андреевны не было полного идейного единства с мужем», — пишет брянский краевед Г. И. Стафеев и строит любопытную схему ее взаимоотношений с мужем, приведших к серьезным «идейным разногласиям».
Софья Андреевна будто бы вела себя так, что вызывала у Толстого ощущение одиночества. При гостях же она надевала на себя личину гостеприимной хозяйки и любящей жены. Супруги, мол, жили в «двух различных мирах», которые только соприкасались. Толстой всегда был в мажорном настроении, благожелателен к окружающим и проникнут духом альтруизма. А Софья Андреевна — всегда в миноре, главные черты ее характера — «эгоизм и своекорыстная замкнутость».
Не совсем понятно, на чем основана подобная характеристика Софьи Андреевны, но она дала повод утверждать, что, ссылаясь на завещание мужа не печатать письма «исключительно личного характера», Толстая злоумышленно уничтожила большую часть бумаг, чтобы «бесповоротно порвать все, что связывало ее с ним». Питая будто бы неприязнь к Жемчужниковым, наследникам толстовских имений, она уничтожила их переписку с Толстым. А далее следует едва ли не чистая уголовщина. Не желая, чтобы имущество досталось Жемчужниковым, она якобы «приняла свои меры» — уехала тотчас из Красного Рога, повелела вырубить «лесопарковую зону» имения, рассеяла богатейшую библиотеку, картины и иные культурные ценности...
Мало того. Она не писала о Толстом воспоминаний нарочно. Соблюдая внешнюю благопристойность, она окружила молчанием и тайной личную жизнь поэта. А тот в своих замечательных лирических стихах воспевал вовсе не Софью Андреевну, а некий «идеальный образ любимой, высоко поднятый над мелкими заботами и тревогами повседневной жизни»...
Кажется, хватит злого кощунства над любовью поэта...
За два года до смерти Алексей Толстой писал Софье Андреевне из Рима: «Во мне все то же чувство, как двадцать лет тому назад, когда мы расставались — совершенно то же».
28 июня 1875 года, ровно за три месяца до своей кончины, Толстой писал жене из Карлсбада:
«А для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя ; остальное для меня — смерть, пустота, Нирвана, но без спокойствия и отдыха».
Первые несколько лет после смерти мужа Софья Андреевна редко покидала Красный Рог. Она жила там вместе со своей любимой племянницей Софьей Петровной Хитрово, и лишь когда та, будучи замужем за дипломатом, была вынуждена уехать в Лиссабон, Толстая, спасаясь от одиночества, поехала к ней. Она жила только воспоминаниями о своей любви, в комнате, забитой дорогими ей реликвиями, перечитывала письма и плакала.
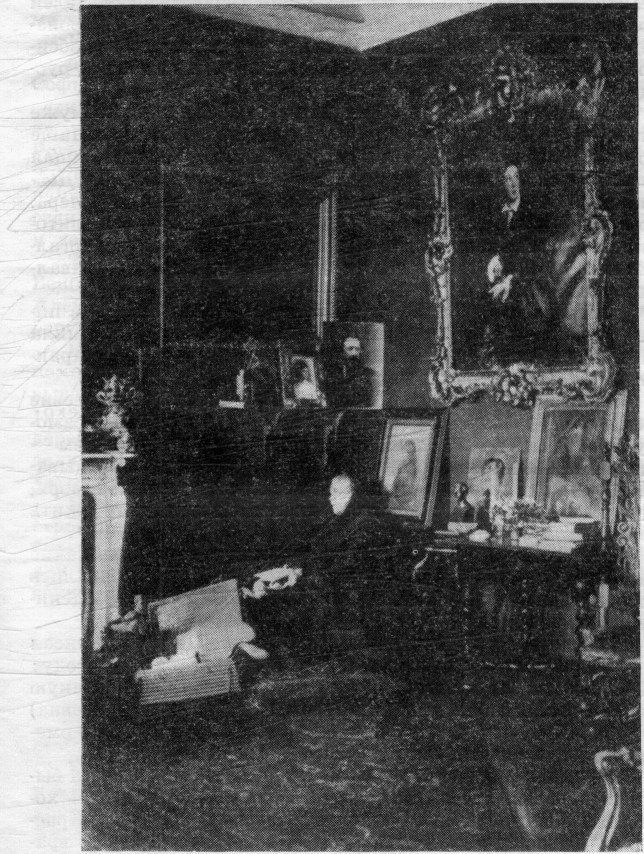
С. А. Толстая после смерти А. К. Толстого.
В ноябре 1875 года «своекорыстная» вдова Алексея Константиновича выступила на заседании Общества любителей российской словесности и отказалась от гонораров за произведения Толстого (а они были весьма значительны, особенно за театральные постановки12) в пользу нуждавшихся русских ученых и литераторов.
Бывая в Петербурге, Софья Андреевна в память о муже собирала у себя по пятницам литературное общество. Чаще других у нее бывали Гончаров, Достоевский и восходящая звезда — Владимир Соловьев. Он много говорил, а Достоевский молчал и даже сидел неподвижно целые вечера. Софья Андреевна подарила Достоевскому большую литографию — «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Он восторгался этим изображением и до конца дней своих не расставался с ним.
Часто посещавший Красный Рог Владимир Соловьев писал Д. Н. Цертелеву о том, как Софья Андреевна выполнила завещание Толстого об уничтожении писем «личного характера», нисколько не осуждая ее за это.
«Относительно писем, писанных к Софии Андреевне (только! — Д. Ж.), выбор был ее дело. Сколько раз мне самому приходилось быть при этом исполнительным орудием — таскать в камин пачки писем, и тут же графиня откладывала другие и вырезала из них ножницами кусочки, говоря, что эти письма нужно печатать, но необходимо уничтожить собственные имена»13.
Постепенно Софья Андреевна приходила в себя, но какие бы ни велись разговоры в доме, они всегда заканчивались воспоминаниями об Алексее Константиновиче и обсуждением его произведений.
В. Соловьев в одном из писем к тому же Цертелеву писал о своем очередном посещении Красного Рога в 1877 году: «Со следующим письмом пришлю тебе комедию, написанную мною — «Козьма Прутков». Графиня (Софья Андреевна) и Софья Петровна (Хитрово) нашли ее забавной и много смеялись, закрывшись епанчой»14.
Софья Андреевна не менее Алексея Константиновича была добра и совершенно беспомощна, когда дело касалось хозяйства. Толстой в свое время построил для крестьян Красного Рога школу, содержал за свой счет учителей, у его врачей крестьяне бесплатно лечились... Софья Андреевна дала крестьянам средства, чтобы они благоустроили свои жилища, в курных избах сложили печи. Во время одного из ее приездов из Португалии в селе вспыхнула холера, и она сама ходила по дворам и лечила крестьян.
Как и Толстого, ее обманывали управляющие. Последний из них, некто М. П. Лысаков, в 1892 году, после смерти Софьи Андреевны, вывез в город Новозыбков около пятидесяти подвод с книгами, мебелью и другими ценностями. Жена управляющего была домашним библиотекарем в Красном Роге. Она захватила рукописи. Как рассказывают местные жители, еще в 1927 году сын бывшего управляющего сжигал пачками письма, рукописи и альбомы Толстых, и когда соседи возмутились, он ответил: «Это мое. Что хочу, то и делаю!»
То, что не было разворовано, пошло за долги с молотка. Вещи, окружавшие Толстого, разбрелись по рукам. Так бюст Алексея Перовского, работы знаменитого скульптора Гальберга, был продан за пятьдесят копеек.
Во время Отечественной войны Красный Рог был занят немцами. Оккупанты из лени топили печи не дровами, а всовывали в топки концами целые бревна. Как-то ночью в 1942 году пламя из печи перекинулось по бревну на пол, деревянный дворец загорелся как порох, местные жители видели, как из огня выскакивали в одном белье немецкие солдаты...15
Ныне в липовой роще, окружавшей дворец, разместились строения дома отдыха. Остался цел флигель, где любил работать за простым струганым столом Алексей Константинович Толстой, где останавливался Фет и другие гости. Там сейчас нечто вроде небольшого музея...
4
В том же году, когда умер Алексей Константинович Толстой, скончалась и жена Алексея Жемчужникова.
Елизавета Алексеевна была для Жемчужникова всем — и женой, и любовницей, и матерью его детей, и задушевным другом. Заболела она еще в 1872 году. Как раз в это время Алексей Михайлович приехал в Петербург. Она оставалась за границей, и он отчитывался перед ней каждый день в письмах, не зная еще о ее состоянии.
27 октября он писал ей: «В четверг утром я был с Володинькой (Жемчужниковым) у художника Крамского и до
обеда провел время ; с ним же, Владимиром, обедал у Некрасова. Воротился домой пешком прямо от него к 12 часам ночи. Некрасов читал свою новую поэму...»16
Жемчужникова пригласили на собрание редакции и сотрудников «Отечественных записок».
«Я живу умственно и сердечно, — писал он, — в русской литературе».
Но вскоре жизнь в Петербурге ему приедается. 8 ноября он сообщает:
«Между нами сказать, я иногда здесь голодаю и ищу по гостиницам ужина... Люди измельчали, ослабели и как-то потускнели, хотя бы и продолжали жить искусственно подогреваемой жизнью. Здесь давно холодно, лед шел по реке, но снегу еще не видать на улицах, потому что его сейчас сметают, покуда не выпадет его много за раз. Я хожу уже более недели в шубе, которую дал мне Во-лодинька...»17
Вскоре Алексей Михайлович снова уезжает за границу. Болезнь и смерть ж*ены надолго выбили его из колеи, в течение десяти лет он почти не писал стихов. Жил он на чужбине одиноко.
Несколько оживила его работа над изданием «Полного собрания сочинений Козьмы Пруткова». В дневнике, который Алексей Жемчужников вел как бы для покойной жены, появляются записи: «Много читал и исправлял рукописей Пруткова», «Написал для Пруткова... мистерию: Сродство мировых сил»18.
В 1884 году он вернулся на родину, жил в Павловке. Хотя ему было уже за шестьдесят, он вдруг стал много писать злободневных и лирических стихов.
В 1892 году он решился наконец издать двухтомник своих стихотворений и пьес. Там, в своей автобиографии, он сказал о себе :
«Мне казалось — и продолжает казаться до сих пор, — что у меня есть, что сказать, и мне хочется высказаться. В этом настроении чувствуется желание наверстать потерянное время и сознание, что возможность писать может прекратиться со дня на день...
До сих пор не было издано ни одного сборника моих стихотворений, и я представляю едва ли не единственный у нас пример поэта, дожившего до 71-го года и не издавшего ни одного такого собрания. Это произошло оттого, что в юности я просто не заботился об издании мною написанного; а по том откладывал это дело — должен признаться — из самолюбия. Я охотно согласился на издание сочинений популярного Кузьмы Пруткова, тем более что не один нахожусь за них в ответственности. А стихи за подписью моего имени... это — другое дело. Я никогда не был популярен...»
В вышедшем вскоре 22-м томе энциклопедического словаря, в статье, посвященной ему и написанной Владимиром Соловьевым, он был по ошибке назван Александром Михайловичем. Тот же Соловьев статью о Козьме Пруткове для словаря написал втрое большую. Жемчужников часто обижался — его путали с братом Александром, приписывали озорные проделки, утверждали, что он был губернатором... «Вот как пишется история!» — горестно восклицал Алексей Михайлович.
И тем не менее своими умеренно-обличительными стихами он сумел понравиться новой интеллигенции и тем, кто к началу XX века владел в России журналами и газетами. Его сделали популярным. Он был избран почетным академиком одновременно с Львом Толстым, Чеховым и Короленко. В 1900 году был пышно отпразднован пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Жемчужникова, по каковому случаю Л. Толстой поздравил его с их пятидесятилетней дружбой, «которая никогда не нарушалась».
На Жемчужникова в тот год писали пародии:
Мне минуло сегодня
Ровнехонько сто пять :
Особая Господня
Видна в сем благодать...
Настряпав рифм немало
В минувшие сто пять,
Я титул либерала
Успел себе стяжать... 19
Он пытался писать дополнения к Козьме Пруткову, но они явно выбивались из прутковского стиля. Это была компиляция из старых афоризмов применительно к новым условиям. Прутков употреблял теперь даже модное слово «черносотенцы».
Среди бумаг Жемчужникова сохранилось много стихотворений, полных грубоватого юмора. Так некоему Леониду Ивановичу он написал 18 марта 1886 года:
В гомеопатии ты восхвалять готов
Лекарства легкие как грезы;
Но любишь предлагать зато своих стихов
Аллопатические дозы.
На друга не сердясь за злобные стихи,
Врось их в один из нужников.
Я также рифмовал немало чепухи...
Твой Алексей Жемчужников20.
Получив от вдовы В. Д. Философова письмо с двумя своими юношескими тираноборческими стихотворениями, Жемчужников приходит в ужас от их «красного содержания». 4 марта 1895 года он делает запись о том, что одно из них «дышит той рабской местью, которая запятнала дело первой французской революции. Я, например, говорю с наслаждением об окровавленных бичах, которыми толпа сечет «тиранов». И он представляет себе, что было бы, если бы стихи попали в руки начальства. «Сколько погибло молодых людей потому только, что они были молоды и не успели одуматься! Если бы успели, то могли бы сделаться такими же безопасными, как безопасным оказался я». Он успокаивает себя тем, что «можно быть вольнолюбивым и не быть красным революционером». Это звучит комично, потому что затем «вольнолюбивый поэт» рассуждает, как ему сохранить эти стихи и не будет ли это опасно...
В 1905 году он пишет в дневнике: «...Стало спокойно; но чем это спокойствие достигнуто! и прочно ли оно только потому, что допущено кровопролитие?»
Дневник, который до глубокой старости вел Алексей Михайлович Жемчужников,— явление весьма любопытное. Он многое проясняет, но еще больше запутывает. В нем высветляется личность Алексея Жемчужникова — либерального мечтателя, человека весьма сентиментального21.
Из него почерпнуто немало сведений, имеющих прямое отношение к созданию Козьмы Пруткова, но есть там и такие рассуждения, вроде записи, сделанной 15 апреля 1892 года:
«Писарев говорил, что сапоги выше Шекспира, а Гоголь писал гр. Толстому, который жаловался ему на свои зубы, что душа выше зубов. Это говорилось и писалось некогда не только серьезно, но и горячо; а теперь эти изречения могут развеселить человека... Особливо афоризм: душа выше зубов — прелестен; и странно видеть, что его сказал Гоголь, а не Кузьма Прутков».
Но так уж устроен человек, что у него хватает юмора разглядеть смешное в чужих словах и тут же, забыв про Козьму Пруткова, завести в тетради раздел «Плоды размышлений и наблюдений», где, наряду с такими записями: «Казенные патриоты стремятся доказать, что русские есть низший сорт людей», «Мы родину любить сумели б, но не смеем», «Как гражданин не раб, так раб не гражданин», появляется без всякого намека на юмор нечто совершенно пруткозское:
«Незнание — стимул деятельности».
«К чему служит слепая кишка? Этот вопрос еще не разрешен наукою...»
«Плешивая женщина — просто невозможна. Впрочем, таких, к счастью, не видал».
«В Павловке дождливой осенью я смотрел, как в течение продолжительного времени больные мухи ползли постоянно снизу вверх по стеклу и, достигнув деревянной перекладины рамы окна, падали вниз. Так они начинали вновь свое дело с тем, чтобы упасть вниз. Так человек работает тщетно и бесцельно всю жизнь...»
«Зарождение мыслей, большей частью отвлеченных, во время ничегонеделанья».
И возникает подозрение — не извлекли ли остроумные братцы Жемчужниковы и Толстой кое-что из ранних заметок Алексея, не состряпали ли они из них некоторые афоризмы Козьмы Пруткова? Всякая человеческая нелепость все-таки человечнее литературной выдумки. Потом Алексей Жемчужников вместе с другими смеялся над афоризмами и... снова брался за свое.
Последние годы жизни Алексей Михайлович прожил размеренно. Часто гостил у дочери Ольги, которая была замужем за М. А, Боратынским. В их деревне Ильиновке дружил со старушками, племянницами поэта Боратынского и с их родственницей Елизаветой Антоновной Дельвиг, дочерью друга Пушкина. «Он никогда не скучал, потому что всегда был занят, и все его занимало»,— вспоминал о нем зять22.
Умер Алексей Михайлович на 88 году жизни в Тамбове. Это произошло 25 марта 1908 года, а еще 5 марта он сочинил стихотворение «Льву Николаевичу Толстому».
Твой разум — зеркало. Безмерное оно,
Склоненное к земле, природу отражает:
И ширь, и глубь, и высь, и травку, и зерно...
Весь быт земной оно в себе переживает...
5
Лев Михайлович Жемчужников пережил своих братьев. В 1908 году ему исполнилось восемьдесят лет. С некоторых пор он жил в Царском Селе.
Года за два до известия о смерти брата Лев Михайлович прочел в «Новом времени» сообщение о гибели Погорелец. Это имение когда-то принадлежало Алексею Константиновичу Толстому, а потом перешло во владение Льва Михайловича. Реакционное «Новое время» с явным злопыхательством писало о том, что какие-то «пришлые гастролеры» подняли окрестных крестьянина разгром усадьбы, а сами скрылись. В прокламации, будто бы найденной потом, предписывалось крестьянам разгромить помещичьи имения до 1 января 1906 года, так как в январе будет дележ земли, и те крестьяне, которые не примут участия в разгроме, не примут участия и в дележе.
«Крестьяне с. Погорельцы и окрестных деревень и сел,— сообщалось в газете,— к вечеру 22 декабря, несмотря на присутствие в имении Л. М. Жемчужникова шести драгун охраны, по набату, раздавшемуся одновременно в нескольких селах, собрались в усадьбе г. Жемчужникова и при помощи услужливо предложенного вожаками бензина и керосина подожгли со всех сторон усадьбу. Усадьба эта историческая. Погорельцы принадлежали гр. Разумовским, здесь гостила в 40-х годах XVIII столетия императрица Елисавета Петровна. В усадьбе был целый музей драгоценных коллекций и вещей. Сам Л. М. Жемчужников, известный сотрудник «Козьмы Пруткова», всю жизнь свою увеличивал эти коллекции и все свои средства убивал на украшение и обогащение своей усадьбы. В ней же находилась студия художника
В. Е. Маковского, который часто писал там свои картины. Говорят, в усадьбе было много картин его, были произведения Грёза, была переписка с выдающимися лицами почти за два столетия, переписка с гр. Алексеем Толстым... Все это погибло в огне вместе с усадьбой, от которой остались одни угли и кирпичи»23.
Впрочем, столь картинно изображенный реакционным «Новым временем» погром был одним из многих в России, охваченной классовой битвой. Если «Новое время» все же не солгало, рассказывая о тех, кто организовал сожжение усадьбы, то по их «почерку» можно предположить, что это скорее всего были эсеры.
Жемчужников всю жизнь исповедывал и провозглашал либеральные взгляды, которые давали пищу более радикальным умам, делавшим действенные выводы...
Лев Михайлович, осуждавший «тиранов», «жандармские лапы и полицейские взгляды негодяев», ни словом не обмолвился о гибели Погорелец, считая это, очевидно, справедливым выражением крестьянского гнева по поводу существовавших порядков.
Все чаще Лев Михайлович вспоминал свою молодость, братьев, женитьбу на крепостной крестьянке. Вспоминал свою радость, когда Ольга родила мальчика, их приезд в Петербург, встречи с Шевченко...
Как он тогда увлекся народным искусством! Всю жизнь он призывал к этому и других: «Когда-нибудь и мы начнем отыскивать нашу народность, когда время занесет ее песком и пеплом. Тогда будут платить деньги и трудиться, лишь бы добиться пол ноты от народной песни, найти обломок старой мельницы, лоскут полотенца или кусок божницы».
Он тогда с увлечением сотрудничал в созданном группой украинских интеллигентов журнале «Основа», писал статьи, гравировал... Он сам, вместе со слугой, сделал все листы к альбому «Живописная Украина», задуманному Шевченко. Мастерскую его тогда впервые посетил худенький, с тонкими чертами лица гардемарин Василий Верещагин, приведенный своим учителем Бейдеманом. Пейзажи, портретные зарисовки, изображения предметов народного быта были на офортах Льва Жемчужникова.
Сколько ходило в его мастерскую знаменитых впоследствии художников, какие горячие споры велись о народности в искусстве, как ругали они все Академию за копирование старых образцов, мертвечину, вырождение...
Лев Жемчужников гордился, что первым во весь голос заявил об этом в статье «Несколько замечаний по поводу последней выставки в С. Петербургской Академии художеств», напечатанной в «Основе» в феврале 1861 года.
Он критиковал окостенелость академической живописи, профессионально доказал, что рисунок академическая профессура понимает крайне упрощенно. Он призывал художников к живому изображению действительности: «Вы делаете рисунки и картины из народной жизни — начните же с живой любви к народу, да не словами, а всем, что в вас живет; плачьте, смейтесь, смейтесь цад его судьбой, как Федотов смеялся над своей; но, чтобы так живо любить народ, надо его изучать, узнать; тогда только произведения ваши будут верны и прекрасны».
Бейдеман и другие отнесли сто оттисков статьи в Академию и раздали ученикам. Весной Лев Михайлович переехал на дачу в Старый Петергоф, работал, ходил вместе с жившим по соседству Владимиром Васильевичем Стасовым купаться и по дороге много говорил с ним о народном орнаменте и искусстве.
А через два года брошенные им семена дали ростки — произошел знаменитый бунт учеников-дипломантов Академии. Во главе с Крамским они отказались писать выпускные работы и потребовали самостоятельного выбора сюжетов, а когда им отказали, покинули стены Академии и образовали Артель художников...
Лев Жемчужников рвался из города, но отец писал о крестьянских волнениях, во время которых солдаты захватили двоих крестьян из деревни Жемчужниковых Аршуковки. В тех, пензенских, краях, объявились самозванцы «князь Константин и граф Орлов», обещавшие настоящую волю, и народ верил им, хотя знал новоиспеченных «аристократов» с детства. «Не напоминает ли это Пугачева, которого, без сомненья, знали близкие ему люди», — рассуждал потом Лев.
Он все-таки поехал в Аршуковку, доставшуюся ему и брату Александру. Там уже все было спокойно, но дети заболели дифтеритом, и умер его первенец Юрочка...
Они с женой едва пережили это горе. Уехали в Москву. Он служил в правлении Московско-Рязанской железной дороги, а потом стал секретарем Московского художественного общества. Его друзьями были знаменитые художники, он близко сошелся с Павлом Михайловичем Третьяковым, когда тот еще только начал собирать картины для своей галереи, подаренной в 1892 году Москве. Он был первым из тех русских художников, которые зачастили в Лаврушенский переулок, где в сени старых лип и тополей сухопарый, редко улыбавшийся Павел Михайлович и его брат Сергей Михайлович Третьяков наблюдали за тем, как разгружают возы с товарами из их мануфактур. По вечерам они сиживали с Жемчужниковым в гостиной, слушали, как играет на рояле Вера Николаевна Третьякова, и неторопливо беседовали о живописи и живописцах. Третьяковы внимательно прислушивались к мнениям Жемчужникова, во многом формировавшим вкусы собирателей, направлявшим их поиски.
В старости Лев Михайлович все чаще садился за письменный стол. «Молодость живет надеждами, а старость — воспоминаниями» — такой эпиграф избрал он к своим мемуарам. И вспоминал он не только свою жизнь, друзей-художников, но и жизнь крепостной деревни, крестьянские волнения 1861 года...
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая Весна 1940 года. Иерусалимский квартал Тальпиот растет и ширится. Во всяком случае, такое впечатление складывается у Наоми, после длительного отсутствия в Иерусалиме. Она проезжает мимо небольших разбросанных каменных домиков, в которых проживают
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая 1 В ту зиму все с волнением ждали новогодний праздник.Чем-то закончится девятнадцатый век?Полыхает пламя колониальных войн. Французская армия ведет бои с партизанами Мадагаскара. Англия залила Судан кровью аборигенов, разожгла войну в Трансваале.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1.Несколько лет назад Степан Синельников хлебом называл круглый пышущий жаром каравай с румяной хрустящей корочкой. Такой хлеб мать выпекала в русской печи. Бывало, еще до дому не дошел, а уж учуял горячий ржаной дух. И сразу рот наполнялся слюной, а
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая Для Парфюмера — предыдущего четверостишия я не писал, Я не имел его в виду, кровавого убийцу, Он камня одного с дороги никогда не сдвинул и не приподнял, Он весь в грехе, в крови проклятого витийства. А через месяц весь оборванный он к замку
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая Зарождение «внутренней войны» в советской верхушке. Сталин проигрывает Троцкому. Революция в Германии. Командировка Сталина и Дзержинского для устранения «пермской катастрофы»В 1918 году в Красной армии 76 процентов командиров были царскими
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая 1 «О, как гаснут – по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные, с большими способностями к математике,
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Дорога в Москву Помещик граф Хвостов • Пребывание в Москве • Возвращение в Петербург • Хлопоты с моими записками •Литератор Н. С. Лесков • Напечатание в «Русской мысли» отрывка из моих записок • Мое переселение в Вяземский дом • Литератор
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «Да, сейчас мы увидимся… Но какая несуразность, какая нелепость, что вместе с ним Колицын! В его присутствии не может произойти серьезного разговора между нами!..»Он привычно вымыл кисти, счистил мастихином краски с палитры, накрыл тряпкой холст на
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ На заставе продолжался яростный бой. Утреннее солнце круглым раскаленным шаром повисло на востоке, и сквозь дым казалось, будто оно замерло на месте, чтобы освещать пограничников, их закопченное оружие, марлевые на головах повязки, окрашенные
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая В последних числах сентября 1841 года Иванов привез из Арричи десять этюдов, которые тут же принялся «приспособлять» к картине.Гоголя в Риме не было. Он отправился в Россию, думая издать первый том «Мертвых душ».В последнее время было заметно, что
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая Молодой человек с собакой Гун-Герль. Васильки на летном поле. «Частушка, в пятницу женимся!» Бегство, бегство и окончательное бегство После всего решили ехать в Кейп-Код на летние каникулы. Никита проводил нас и вернулся в Нью-Йорк.Мы остались на
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая У Водзиньских в это время происходили объяснения. Граф Винцент Водзиньский вернулся из Варшавы поздно вечером и, застав еще Марию за ужином, сказал, проходя к себе в спальню:– Завтра утром зайдешь ко мне пораньше! В пятом часу утра он проснулся и стал
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Впервые ей нечем было заполнить время.Раньше она всегда куда-нибудь торопилась. К поезду. К началу спектакля. К ранней утренней репетиции.Приходилось обедать наспех, чтобы хоть полчаса отдохнуть. Что-то надо было приладить в костюмах. Заглянуть в
Глава четырнадцатая
Глава четырнадцатая Когда я поправилась настолько, что могла передвигаться без посторонней помощи, я завершила свое лечение прогулкой в деревню пигмеев. Придя туда, я тотчас же заметила, что за период, прошедший со времени моего последнего визита, многие пигмеи приделали
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Вышли на улицу около семи, в ранних сумерках. Через два дома, возле театра, собиралась публика. Отборная, приодетая часть Москвы на три часа избавится от революции. Мало ей драмы в жизни, нужна на сцене. По узкому Арбату тянуло сырым сквозняком от