Глава шестая Колыбель русской химии
Глава шестая
Колыбель русской химии
Круг умственной деятельности того времени был вне правительства, совершенно отсталого, и вне народа, молчавшего в отчужденности, — он был в книге, в аудитории, в теоретическом споре и в ученом кабинете.
Герцен
Еще не утих шум, поднятый историческим синтезом анилина, осуществленным в химической лаборатории Казанского университета, как взоры всего ученого мира вновь обратились на самый восточный университет Европы: всего лишь через два года после открытия Зинина другой казанский химик, профессор Клаус, предъявил научной общественности результаты исследований нового, открытого им элемента — рутения.
Желая приготовить главнейшие соединения платиновых металлов для химического кабинета университета, Клаус в 1841 году добыл два фунта отходов платиновой руды и подверг их тщательному анализу, чтобы извлечь некоторое количество нужного ему дорогого металла.
В самом начале работы исследователь был удивлен богатством этих отходов: он извлек из них не только платину, но и другие платиновые элементы — иридий, родий, осмий и палладий. Еще больше заинтересовала его оставшаяся сверх того смесь различных металлов, в которой, как он предполагал, находился еще какой-то новый, неизвестный науке элемент.
Бесплодность попыток Озанна найти этот элемент не остановила Карла Карловича. Он не только выделил его, но и благородно оставил за ним название, данное Озанном.
Три года посвятил Клаус выделению нового элемента из платиновых остатков в чистом виде и дальнейшему изучению его свойств и отношений к другим элементам.
Изо дня в день наблюдал за работой соседа по лаборатории Николай Николаевич и преклонялся перед его экспериментаторским талантом. В открытии Клауса не играли никакой роли случай, удача, счастье, без чего в те времена не обходился ни один рассказ об открытиях, об изобретениях.
Ведь и синтез анилина, казалось всем, был счастливой случайностью. Задавшись мыслью изучить действие сероводорода на органические вещества, Николай Николаевич о синтезе анилина не думал и задачей своей не ставил.
Клаус, наоборот, действовал целеустремленно, решив выделить из смеси других неизвестный металл, присутствие которого в смеси он подозревал. Тут все дело было в искусстве экспериментатора. Работая с ничтожно малыми количествами вещества, Клаус прибегал к тончайшим приемам, изощренной технике. Пожалуй, проба на язык, к чему постоянно прибегал Клаус, удивляя Зинина, только и могла соответствовать приемам и тщательности, с какой вел свои исследования Карл Карлович.
Никогда еще трагическая борьба человеческого ума с природой, с неповоротливостью собственных мыслей, с неуклюжестью собственных рук не представала Николаю Николаевичу с такой ясностью, как в этом борении Клауса с сопротивлением материала.
Открытие нового химического элемента остается крупнейшим научным событием и в наши дни, когда на основе периодической системы Д. И. Менделеева можно предвидеть все свойства нового элемента, а на основании данных геохимии и физики — даже его местонахождение. До того же как был установлен периодический закон, открытие нового элемента являлось результатом исключительной наблюдательности исследователя, его аналитического таланта и невероятного трудолюбия, сопряженного с терпением и настойчивостью.
Карл Карлович справился со своей задачей блестящим образом. Ему удалось определить с большой точностью атомный вес нового элемента и дать превосходное по точности описание его отношения к различным химическим веществам. Описание Клауса совпадет с нынешним, сделанным в современных лабораторных условиях.
Весь этот труд, «продолжительный и даже вредный для здоровья», как замечает Клаус, был выполнен им в три года. 13 сентября 1844 года Петербургской академии наук было доложено об открытии Клаусом рутения; в том же году в Казани вышла его брошюра «Химическое исследование остатков уральской платиновой руды и нового металла рутения».
Сообщение об открытии нового элемента отметила печать всего мира.
Знаменитый шведский химик Якоб Берцелиус писал Карлу Карловичу в январе 1845 года:
«Примите мои искренние поздравления с превосходными открытиями и изящной их обработкой: благодаря им Ваше имя будет неизгладимо начертано в истории химии. В наше время очень принято, если кому-либо удалось сделать настоящее открытие, вести себя так, как будто вовсе не нужно упоминать о прежних работах и указаниях по тому же вопросу, в надежде, что ему не придется делить честь открытия с каким-либо предшественником. Это плохое обыкновение, и тем более плохое, что преследуемая им цель все же через некоторое время ускользает. Вы поступили совсем иначе. Вы упомянули о заслугах Озанна и выдвинули их, причем даже сохранили предложенное им название. Это такой благородный и честный поступок, что Вы навсегда вызвали во мне самое искреннее, глубокое почтение и сердечную симпатию, и я не сомневаюсь, что у всех друзей доброго и справедливого это встретит такой же отклик.
Я взял на себя смелость представить извлечение из Вашей статьи Академии наук, которая напечатает его в своем отчете об этом заседании. С глубочайшим уважением имею честь оставаться.
Преданный Вам Як. Берцелиус».
Карл Карлович показал письмо Зинину.
— А вознаградит ли Озанна ваш благородный поступок за горькую его ошибку? — прочтя письмо, грустно сказал Николай Николаевич и подумал о том, как много говорят люди о муках любви и ревности и как мало знают они о трагедиях науки, о счастье ее побед и о горестях поражений.
В этом он был, конечно, прав.
Несмотря на возраставшую популярность Казанского университета и мировую известность его химической лаборатории, число студентов, на памяти Зинина, возросло не более как вдвое. Дворянство, которому были все двери открыты, стремилось в военную службу и предпочитало специальные учебные заведения. Чиновники для получения чинов по службе проходили нарочно для того созданные особые, упрощенные курсы. Обеспеченные родители предпочитали частные пансионы, где их детей обучали, кроме наук, хорошим манерам и благовоспитанности. Стипендиаты должны были потом отбывать государственную службу как повинность.
Студенты, в сущности, ничем не были заинтересованы, поступая в университет, если судьба не наградила их идеальным стремлением к самой науке, что встречалось не часто. Бескорыстное влечение к чистому познанию, ради него самого, пробуждалось постепенно в стенах самого университета, на скамьях аудиторий под влиянием учителей. Таким учителем в полном и благородном смысле слова для Зинина был Лобачевский; таким учителем стал сам Зинин для множества молодых людей, прошедших через Казанский университет за те шесть лет, когда Николай Николаевич учил и действовал в его стенах.
«Не одни официальные слушатели и ученики Зинина были его учениками на деле, — свидетельствует А. М. Бутлеров. — Свою глубокую бескорыстную любовь и преданность всякому знанию он умел вселять во всех имевших случай быть с ним в общении, — а общение это было обширно, так как глубокий живой оригинальный ум Зинина, соединенный с необыкновенной беспритязательностью и приветливостью в обращении, всюду влек и к нему молодежь, преданную науке. Это делало Николая Николаевича центром, около которого группировались не одни химики, но и те, которые интересовались физиологией, сравнительной анатомией, зоологией и проч. К нему же зачастую шли за советом и врачи. Необыкновенная память, огромная начитанность всегда делали Николая Николаевича и тут драгоценным руководителем и наставником».
Даже будучи технологом лишь по должности, Николай Николаевич воспитал технолога по призванию, ставшего главою русских технологов. Это был Модест Яковлевич Киттары, один из первых учеников Зинина. По окончании курса по разряду естественных наук Киттары взял должность лаборанта, чтобы оставаться возле учителя. Как натуралист, он готовился к получению степени магистра зоологии. Работая над диссертацией по анатомии осетровых рыб, он постоянно обращался за советами к Николаю Николаевичу, который руководил раньше его химическими занятиями над сероцианистыми соединениями. Диссертация по этой теме доставила Киттары степень кандидата и золотую медаль. Теперь тот же профессор химии оказался и руководителем в совсем другой области естествознания! Советами Зинина Киттары пользовался и тогда, когда занимался докторской диссертацией, посвященной анатомии фаланги.
Разговоры на разнообразнейшие темы происходили между делом, на ходу, чаще всего, когда Николай Николаевич усаживался за свои исследования, а Киттары, как лаборант, помогал ему в работе.
Николай Николаевич после получения знаменитого «бензидама» и «нафталидама» получил «семинафталидам» и «семибензидам», а затем «бензаминовую» кислоту. Об этих новых открытиях сообщалось в «Бюллетенях Академии наук», и сообщения полностью или в извлечениях неизменно перепечатывались химическими журналами за границей. Понимая обширное значение своей реакции, Зинин продолжал расширять ее приложение, перейдя от нитрованных углеводородов к двунитрованным телам и к нитрованной кислоте. Продолжая идти тем же путем, он начал вовлекать в круг исследования бескислородные азотистые тела, и Киттары действием азотной кислоты обрабатывал крахмал для получения из него «ксилоидина».
Организационная работа Киттары в лаборатории, необыкновенная изобретательность в постановке заданных химических процессов привели Николая Николаевича к убеждению, что в лице лаборанта он имеет прирожденного технолога. Энциклопедические познания Зинина во всех областях естествознания помогали ему видеть или по крайней мере догадываться, где лучше всего для дела и счастливее для себя приложит руки ученик.
Киттары указал Николаю Николаевичу на сообщение о том, что Гофман, выделив бензол из каменноугольной смолы, организует заводское производство бензола. Дешевое сырье открывало широкие перспективы для «реакции Зинина», для производства анилина.
— До какой поры мы все свое будем отдавать в руки немцев? — гневно воскликнул учитель, глядя в большие, почти круглые глаза своего ученика. — У нас нет технологов, а пока их не будет, все, что мы ни сделаем в наших лабораториях, будет уходить на сторону к иностранцам… И вот ты, прирожденный технолог, делаешь диссертацию по зоологии, а я же тебе и помогаю! Вздуть нас обоих следует!
Насильственно возвращенный в Казань, Николай Николаевич считал дни и годы, которые должен здесь отбывать. Точно издеваясь над невольником, Мусин-Пушкин в 1845 году перешел попечителем в Петербург. Управляющим же Казанским учебным округом был временно назначен Лобачевский, и, будь у Николая Николаевича преемник по кафедре, он, кажется, и минуты не оставался бы в безрадостной Казани.
Выбор Николая Николаевича, павший на Киттары, оказался более чем удачным. Киттары в двадцать лет кончил университет, в двадцать два был магистром, в двадцать три начал читать технологию, заместив Зинина.
С перемещением на кафедру технологии, которая была его истинным призванием, популярность Киттары вышла далеко за пределы университета. Приобретенный в короткое время авторитет в делах техники, «практическая расторопность и находчивость» составили ему славу не только в Казани, где он руководил Казанской выставкой сельских произведений, организовал стеариновое производство, получившее впоследствии огромное развитие, но сделали его популярным и в кругах приволжских промышленников, которые постоянно обращались к нему как к советчику.
Николай Николаевич читал химию математикам, но химическую лабораторию его наполняли главным образом естественники и медики. Осенью 1844 года в университет поступили два брата Бекетовых — Николай и Андрей Николаевичи, сын профессора Вагнера Николай Петрович и быстро сдружившийся с ними Александр Михайлович Бутлеров.
Первым появился у Николая Николаевича Бутлеров.
Как естественник, Бутлеров обязан был слушать химию только у Клауса, но он аккуратно посещал и лекции Зинина по технической химии. В лаборатории он находился под руководством Клауса, но пользовался советами Зинина. С одинаковым интересом готовил он препараты сурьмы по указанию Клауса и производил перегонку «драконовой крови» по совету Зинина.
Вспоминая о своих первых шагах в научных занятиях, Бутлеров писал:
«Шестнадцатилетний студент-новичок, я в то время, естественно, увлекался наружной стороной химических явлений и с особенным интересом любовался красивыми красными пластинками азобензола, желтой игольчатой кристаллизацией азоксибензола и блестящими серебристыми чешуйками бензидина.
Николай Николаевич обратил на меня внимание и скоро познакомил с ходом своих работ и с различными телами бензойного и нафталинного рядов, с которыми он работал прежде».
Зорко следивший за каждым своим слушателем, за каждым вновь появляющимся в аудитории или лаборатории студентом, Николай Николаевич в наивном ученическом восхищении юноши цветом и кристаллами веществ увидел душевную его заинтересованность. Она обещала вырасти в страсть исследователя. Однако когда Бутлеров спросил Зинина после первого же посещения аудитории:
— Можно мне заниматься у вас?
Николай Николаевич отвечал небрежно и даже не очень приветливо:
— Ну конечно! Места на всех хватит, была бы охота.
Опытный педагог терпеть не мог выхваливать свой предмет, свою лабораторию перед другими. Он не уговаривал студентов любить химию, и не просто химию, а именно техническую химию.
Скоро студента, пришедшего из чужого разряда, Зинин стал предпочитать своим. Постепенно он знакомил Бутлерова со своими работами и с веществами, с которыми работал прежде.
Не ограничиваясь собственными исследованиями, Николай Николаевич интересовался всем тем, что делали другие. Нередко он занимался проверкой и повторением чужих опытов. Поручая их ученикам, он большую часть опыта успевал, однако, проделать собственными руками. Так, вместе с учителем приготовил Бутлеров ряд уже довольно многочисленных тогда, после открытия Вёлера, производных мочевой кислоты. Таким же порядком он приготовлял производные индиго, добывал яблочную, галловую, муравьиную, щавелевую и другие кислоты.
Наконец под руководством учителя проделал Бутлеров и знаменитую реакцию Зинина.

Н. Н. Зинин — студент университета.

Библиотека Казанского университета.
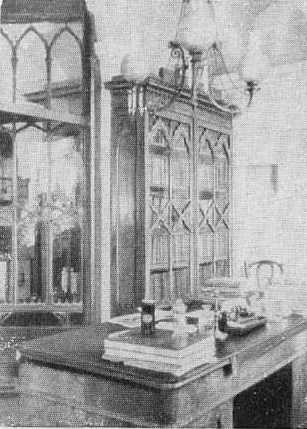
Химический кабинет Казанского университета.
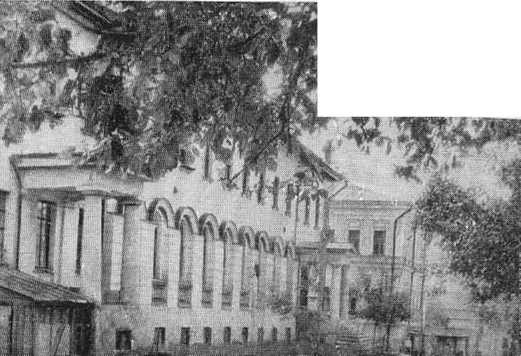
Корпус химического факультета. Слева — деревянная пристройка, заменявшая вытяжной шкаф.
«При этих разнообразных опытах, — вспоминает Бутлеров, — ученику приходилось волей-неволей знакомиться с различными отделами органической химии, и это знакомство напрашивалось само собой, облекаясь, так сказать, в плоть и кровь, потому что вещества из того или другого отдела в натуре проходили перед глазами. А неприлежным быть не приходилось, когда работалось вместе, заодно с профессором. Какой живой интерес к делу вселялся, таким образом, в учащегося, видно из того, что, не довольствуясь опытами в университетской лаборатории, я завел у себя и домашнее приготовление кое-каких препаратов. С торжеством бывало случалось приносить в лабораторию образцы домашнего производства: кофеина, изатина, аллоксантина и проч., нередко навлекая на себя их приготовлением упреки живших в одном доме со мной. Так умели наши наставники, и Николай Николаевич в особенности, возбуждать и поддерживать в учащихся научный интерес».
Нужно отдать справедливость и самому ученику. В Бутлерове было что-то заставляющее и других лекторов, обращаясь к аудитории, смотреть именно на него. Располагала его готовность слушать. У него никогда не появлялось красноты на скулах от духоты и внутреннего напряжения; его голубые глаза не теряли своего блеска к концу лекции; он не пересаживался на скамье, чтобы устроиться поудобнее; ясно было, что он не чувствует утомления в плечах, сухости в горле, желания встать и уйти. Это был хорошо воспитанный юноша в прямом смысле слова. Он был приветлив, услужлив, внимателен, вежлив. Он не просто уживался с людьми — он не мог жить без людей.
В природе и в жизни его влекло к себе все веселое, волнующее и волнующееся, яркое и живое. Он был необычайно подвижен, успевал посещать аудитории математического разряда почти так же аккуратно, как и своего.
Особую симпатию учителя Бутлеров завоевал тем, что выделялся среди сверстников физической силой и ловкостью. Он был тяжеловат и неуклюж, но в физических упражнениях и акробатике мало кто мог с ним соперничать. Стоило побывать в Казани какому-нибудь силачу или жонглеру, как через несколько дней Бутлеров уже показывал друзьям те же самые упражнения и приемы.
Николай Николаевич в перерывах занятий не прочь был полюбоваться и сам этими упражнениями.
Под руководством Зинина и Клауса Бутлеров вполне овладел искусством тонкого эксперимента, заразился от них глубокой любовью к химическим исследованиям, но системы теоретических представлений от своих учителей он получить не мог, так как сами руководители Бутлерова не сходились в теоретических взглядах. Клаус был горячим поклонником и последователем Берцелиуса. Он оказался последним из них, доказывая справедливость воззрений Берцелиуса и в пятидесятых годах, когда электрохимическая теория уже всеми была оставлена. Наоборот, Зинин склонен был принять воззрения французских химиков Лорана и Жерара.
Огюст Лоран и Шарль Жерар выступили против дуалистической теории Берцелиуса с новой, так называемой «унитарной» теорией, согласно которой все органические соединения получаются замещением водородных атомов в основных углеродоводородных ядрах другими элементами, например хлором, бромом, йодом, азотом и т. д. Положив свою теорию ядер в основу классификации органических соединений, Лоран провел резкое различие между молекулой, атомом и эквивалентом; молекулой он назвал мельчайшее количество вещества, нужное для образования соединения; атомом — мельчайшее количество элемента, встречающееся в сложных телах; эквивалентом — равнозначные массы аналогичных веществ.
Николай Николаевич был осторожен в выборе теоретических представлений, в изобилии распространявшихся в то время и противоречивших друг другу. Он не спешил внедрять ту или другую теорию в сознание учеников, пока не установился один общий взгляд на существо все еще темных химических процессов.
Быть может, это был наиболее правильный путь, ведущий к самостоятельным суждениям, к выработке собственных воззрений.
Теоретические достижения химии того времени ма-ло могли дать Бутлерову, а в дальнейшей своей научной деятельности он был бы стеснен теоретическими представлениями, почерпнутыми из университетских лекций. Не связанный же, как многие из его современников, косным, привычным мышлением, Бутлеров стал творцом новой теории, лежащей в основе современной органической химии.
Так же и другой ученик Зинина, Николай Николаевич Бекетов, стремясь проникнуть в сущность «химического средства», первым высказал мысль о зависимости силы сродства элементов от их атомного веса, будучи свободным от путаных представлений предшествовавших теоретиков.
Через научную деятельность и Бутлерова и Бекетова проходит мышление химиков-философов, и этой особенностью они были обязаны влиянию своего учителя. Оно было столь властным, что вслед за учителем, покинувшим Казань, последовали в Петербург и его ученики.
Как солнце планетами, Зинин был окружен своими учениками до последнего дня жизни. Не только непосредственными учениками, но и учениками учеников не был забыт в Казани Николай Николаевич Зинин.
В 1900 году, уже после смерти Зинина и Бутлерова, ученики Бутлерова, профессора химии А. М. Зайцев и В. В. Марковников подняли в совете университета вопрос об установке бюстов Зинина и Бутлерова в аудитории химической лаборатории. Указывалась при этом особая заслуга их, «дающаяся в удел только немногим избранным», — создание Казанской школы химиков.
«Эта беспримерная в нашем отечестве заслуга, — писал А. М. Зайцев, — по крайней мере по отношению к нашей специальности, составившая славу тех лабораторий, которые имели счастье находиться под их руководством, дает нам полное право называть Зинина и Бутлерова отцами русской химии. С гордостью мы должны сказать, что эта школа возникла и организовалась на почве нашего родного университета, и нужно также заметить, что и вне казанской службы Зинина и Бутлерова духовная связь с ними этой школы никогда не прекращалась: все нужды и все успехи нашей химической лаборатории всегда находили в их сердцах благодарный отклик, свой интерес и теплое отношение».
Успехи русской химии в самом восточном научном центре страны выдвинули Казанский университет в центр общественного внимания и положили начало его исторической известности, как «колыбели русской химии».
Окончательно мировую известность утвердили за Казанским университетом Бутлеров и его ближайшие ученики.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Колыбель мореходов
Колыбель мореходов После выхода фрегата «Мария Николаевна» из дока и смены части практикантов мы снова тронулись в путь. На этот раз мы должны были посетить Хорлы, Новороссийск и Батум, а на обратном пути зайти в Севастополь, принять там на борт экзаменационную комиссию и
От химии к агрохимии
От химии к агрохимии Нет худа без добра. Неурожай 1963 года подтолкнул отца к новым, я бы сказал, кардинальным переменам в сельскохозяйственной политике. 1963 год — рубеж окончательного перехода от экстенсивного земледелия к интенсивному.Пыльная буря — явление разовое, она
VIII. В ХИМИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОНЯТИЕ МОЛЕКУЛЫ
VIII. В ХИМИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОНЯТИЕ МОЛЕКУЛЫ Все оттенки чувств, от восторженности до негодования, мы найдем в письме Менделеева к Воскресенскому с международного конгресса химиков в Карлсруэ.В поисках объяснений очередных побед Менделеева на научном поприще иные его
Глава X КОЛЫБЕЛЬ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава X КОЛЫБЕЛЬ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ Когда Рафаэль впервые оказался во Флоренции, «Давид» Микеланджело уже гордо возвышался перед палаццо Веккио, где был установлен 8 сентября 1504 года. Эта дата отмечена в городских анналах как величайшее событие наступившего века, а
Колыбель между двух гробов
Колыбель между двух гробов В апреле 1518 года король Франции Франциск I отправился со всем своим двором в замок Амбуаз, дабы отпраздновать там два важнейших события: крещение своего первенца, дофина Франсуа, и свадьбу Мадлен де ла Тур д’Овернь, принцессы из дома Бурбонов, с
Глава 22 Д-Р КАУЭР, ПРОФЕССОР ХИМИИ
Глава 22 Д-Р КАУЭР, ПРОФЕССОР ХИМИИ Оперативная сводкаСмерть кралась за подводными лодками во всех семи морях света. Теперь конвои охраняли авианосцы с тридцатью — сорока самолетами на борту. Командирам подводных лодок, которые щадили свои корабли, свои жизни и жизни
Глава 1 Колыбель отечественного флота
Глава 1 Колыбель отечественного флота В октябре 1996 года исполнилось 300 лет со дня исторического решения, принятого Боярской думой под нажимом Петра I: «Морским судам быта». С этого момента берет свое начало история создания регулярного военного флота России.Это решение
Лауреаты Нобелевской премии в области химии
Лауреаты Нобелевской премии в области химии Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов на премию по химии могут следующие лица:1. члены Королевской Шведской академии наук;2. члены Нобелевских комитетов по физике и химии;3. лауреаты Нобелевских премий в
2. ЗАЧИНАТЕЛИ РУССКОЙ ХИМИИ
2. ЗАЧИНАТЕЛИ РУССКОЙ ХИМИИ Нет такой области науки, в которой русские ученые не сказали бы своего нового, а часто и решающего слова. Огромный вклад в мировую сокровищницу знаний внесли и русские химики, среди которых выдающееся место занимают Ломоносов, Бутлеров и
О. Кривопалов – из книги "Колыбель Чирчикского спецназа"
О. Кривопалов – из книги "Колыбель Чирчикского спецназа" В составе 177 ооСПН служили многие заслуженные и героические люди, хочется не забыть никого, но обо всех не расскажешь… А вот забыть капитана Бекоева Павла Викторовича, старших лейтенантов Севальнева Олега
ГЛАВА XXII Д-р Кауэр, профессор химии
ГЛАВА XXII Д-р Кауэр, профессор химии Оперативная сводка: Смерть кралась за подводными лодками во всех семи морях света. Теперь конвои охраняли авианосцы с тридцатью-сорока самолётами на борту. Командирам подводных лодок, которые щадили свои корабли, свои жизни и жизни
I «Сорренто! колыбель моих несчастных дней…»
I «Сорренто! колыбель моих несчастных дней…» Автор этой поэтической строки — не Торквато Тассо, а Константин Батюшков. И родился он не в Сорренто, а в Вологде. Это произошло 18 (29) мая 1787 года в семье надворного советника Николая Львовича Батюшкова и его супруги Александры
Глава пятнадцатая О ЛЮБВИ, МУЗЫКЕ И ХИМИИ
Глава пятнадцатая О ЛЮБВИ, МУЗЫКЕ И ХИМИИ Как голоса в многоголосом музыкальном произведении, переплетаются в жизни Бородина наука, искусство, любовь.Эти дни, когда он встретился с Екатериной Сергеевной, были не только знаменательным моментом в его личной жизни, но и
Колыбель поэзии
Колыбель поэзии Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Есенин «Персидские мотивы» Знаменитое приокское село. Крестьянский сын. Разлад в семье. В доме деда. Сказки бабушки. Друзья детства. Уличная жизнь. Первая «серьезная» обязанность. Крест и книга.