2
2
31 января 1814 года Воейков поехал в Петербург хлопотать о своей должности: он намеревался занять место профессора русского языка и русской словесности, освободившееся в Дерптском университете после гибели Андрея Кайсарова. Екатерина Афанасьевна не хотела, чтобы Воейков покидал Муратове ради Дерпта, и Жуковский, зная это, писал Тургеневу: «Прошу тебя употребить все усилия, чтобы ему не давали кафедры». Но хлопоты Тургенева зашли далеко, дать им обратный ход было невозможно. В марте Воейков приехал в Муратово уже профессором и сумел наладить и здешние свои дела: в марте же он был объявлен женихом Саши, свадьбу назначили на июль; в сентябре молодые, а с ними и Екатерина Афанасьевна с Машей, собирались отбыть в Дерпт. Жуковский узнал об этом в пути, остановившись по дороге из Орла у знакомых.
«Я поглядел на своего спутника, — пишет он Авдотье Петровне в Долбино, — вы его знаете: больная, одержимая подагрою Надежда, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает.
— Что скажешь, товарищ?
— Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету». Жуковский решил снова объясниться с Екатериной Афанасьевной.
— Я прошу вас отдать за меня Машу.
— Никак нельзя. Тебе закон христианский кажется предрассудком, а я чту установления церкви.
— Я вам не родня; закон, определяющий родство, не дал мне имени вашего брата.
— Я никогда не соглашусь на этот брак. Ведь не пойдете вы с Машей против моей воли?
— Нет. Машу вы знаете. А я, хоть я и уверен в том, что мы были бы счастливы, обещаю от всего отказаться, если это не принесет счастья и вам.
— Мне давеча Маша сказала то же.
— В ваших руках наша жизнь.
— Ты настроил Машу против меня.
— Неужели для вас важнее остаться правой, нежели дать нам счастье? Ведь Маша сказала вам, что любит меня.
— Все равно я не допущу беззакония.
— Иван Владимирович Лопухин вами уважаем. Мог ли бы он одобрить беззаконие?
— Лопухин — не мог бы.
— Но он согласен со мной!
— Если мнение Ивана Владимировича с твоим согласно, то это только переменит мое мнение об нем.
— Ваше сердце для меня ужасная загадка, — сказал Жуковский и вышел.
Он поехал в Чернь, потом — в Долбино. Авдотья Петровна, которой Жуковский передал эту сцену, немедленно написала Екатерине Афанасьевне отчаянное письмо, призывая ее согласиться на счастье Жуковского и Маши, а в искупление этого — пусть и выдуманного — греха она клялась оставить своих детей и уйти в монастырь… Екатерина Афанасьевна отвечала ей: «Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь; что это за предложение ты мне делаешь? Ты всё забыла: бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чем не думаешь кроме страсти Василия Андреевича и для удовлетворения ее ты все бросаешь». И сама вдруг грозит Авдотье Петровне тем же: «Я пойду в монастырь точно, и от раскаяния, что моей привязанностью и глупою доверенностью погубила Василия Андреевича. Это моя неосторожность всё сделала… Я всему этому виною, я допустила усиливаться страсти Василия Андреевича». Екатерина Афанасьевна изображает себя обманутой и несчастной: «Любовь моя к Василию Андреевичу так чиста, так непорочна, я заблуждалась и думала ему заменить матушку, батюшку, Елизавету Дементьевну и даже видела и в нем к себе истинную любовь брата, а это было всё одни искания для получения Машиной руки. Ежели б он видел мои мучения!»
… «Я теперь скитаюсь, как Каин с кровавым знаком на лбу, — писал Жуковский Тургеневу. — Если ничто не удастся, то надобно будет отсюда бежать, и всё-всё для меня переменится. Никакой план не представляется мне, и ни к какому не лежит сердце. Ведь это не будет план счастья, а только того, как бы дожить те годы, которые еще остались на мой удел. Самая печальная перспектива».
Письмо к Авдотье Петровне из Черни в Долбино еще мрачнее: «Теперешнее мое бытие для меня так тяжело, как самое ужасное бедствие. Для меня было бы величайшим наслаждением попасть в горячку, в чахотку или что-нибудь подобное».

А. А. ВОЕЙКОВА (ПРОТАСОВА).
Миниатюра.
Однако у Жуковского еще была надежда на Воейкова. Он не знал, что Воейков уже действует, но действует против него.
— Люблю Василия Андреевича как брата, — говорил Воейков, вздыхая, Екатерине Афанасьевне. — Мечется, мечется… Страдает. Уж как себя терзает — жаль смотреть! И ведь добро бы всерьез. А то всё — дым поэтический! Завтра же и сойдет. Машу мучает. Сколько слез вы, дорогая матушка, пролили… А завтра оглянется, пожмет плечами: из-за чего сыр-бор? Любви-то — нет!
Екатерина Афанасьевна в письмах к Авдотье Петровне стала говорить о том, что Маша Жуковского не любит, или любит, да «не так»; авось, рассчитывала она, это дойдет до Жуковского: «А за Машу я и теперь ручаюсь, что она не влюблена, а несчастлива тем, что знает в нее влюбленным человека, которого она с ребячества привыкла любить и ежели бы могла уверенной быть, что он желает себя победить и будет беречь свое здоровье, будет заниматься по-прежнему, она бы давно покойна была и никак никогда не желала бы этой свадьбы». Машу Екатерина Афанасьевна держала почти взаперти. Жуковский пытался приезжать в муратовский дом — то с Авдотьей Петровной, то с Плещеевым, но Екатерина Афанасьевна все внимание отдавала или Авдотье Петровне, или Плещееву, а на Жуковского почти и не смотрела. Воейков самодовольно, с видом хозяина, расхаживал по дому. Даже на лице милой Саши Жуковский почти не видел сочувствия к себе, но он понимал, что ей не до того: у нее свадьба вот-вот… «Легче быть одиноким в лесу с зверями, — думал Жуковский, — в тюрьме в цепях, нежели возле этой милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают!»
С Машей ему видеться и говорить почти не удавалось, но они нашли способ общения: в маленьких тетрадях («синенькие книжки» — как называл их Жуковский) они писали нечто вроде писем-дневников и тайно от всех передавали их друг другу. В июньской тетрадке Жуковский пишет, что его одолевает «пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости», что земная жизнь в последнее время была для него «смерть заживо». Он говорит Маше, что она стала ему «еще милее, еще святее и необходимее прежнего». Маша отвечает ему, что он должен приободриться, что любовь не должна угнетать его: «Я даже желала бы, чтобы ты меня любил менее». И Жуковский горячо откликается на ее попытку поддержать его: «Даю тебе слово, что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится… Прошу от тебя только одного: будь мне примером и верным товарищем в этой твердости… Будь моим утешителем, хранителем, спутником жизни!»

А. Ф. ВОЕЙКОВ.
Худ. Р. Александров.
Когда Протасовы поехали в Троицкое, Жуковский тайно, отставая на несколько станций, следовал за ними. «Я еду по вашим следам, — писал он в тетрадке для Маши. — Остановился в Куликовке в семнадцати верстах от Орла, там, где вы ночевали в последний раз. Сижу на том месте, где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя. Хозяйка мне рассказывала об вас, и я уверил ее, что я — жених, но что невеста моя не младшая, а старшая дочь той госпожи, которая у ней останавливалась». 29 июня в Губкине: «Лежу в сарае, в санях на сене. Читаю Виландова „Диогена Синопского“ и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял по кладбищу, — даже и срисовал его». 5 июля Жуковский делает запись в Орле, 9-го — в Котовке у Павла Ивановича Протасова, брата покойного мужа Екатерины Афанасьевны; тут узнал он, что Маша хворала, когда была здесь. «Ты опять больна и опять начинаешь скрываться! — пишет Жуковский. — Ты только хочешь носить маску любви ко мне — не сердись за это выражение! Где же любовь, когда нет никакой заботы о себе».
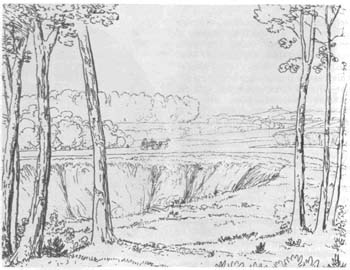
СЕЛО ДОЛБИНО. ОКРЕСТНОСТИ.
Рис. В. А. Жуковского.
В ответ на жалобы Жуковского по поводу предстоящей разлуки — отъезда Протасовых с Воейковыми в Дерпт — Маша говорит: «Базиль! Ты слишком огорчаешься разлукой! Скажи, много ли ты имеешь утешения теперь, будучи вместе?» Он снова жалуется на то, что не может ничего делать, что и стихи не пишутся. Маша отвечает: «Если бы ты знал, сколько меня упрекала совесть за это бездействие, в котором ты жил до сих пор! Я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отымает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего кроме слёз. Итак, занятия! непременно занятия!» Призыв Маши снова пробудил в Жуковском желание работать. Он сообщает ей свои планы: «Писать (и при этом правило — жить как пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков)… Слава моя будет чистая и достойная моего ангела, моей Маши». Маша убеждала его ехать в Петербург, думать о своем будущем. Она выражала уверенность, что года через два-три они все-таки соединятся. О своей матери она пишет: «Базиль, как мы счастливы в сравнении с нею!.. Она слишком чувствует сама, что она не права; доказательства ей не нужны, признаться ей тяжело… Я боюсь за ее здоровье». Екатерина Афанасьевна в это время начала страдать тяжелыми приступами головной боли.
2 июля собирались праздновать свадьбу Воейкова с Сашей, но когда всё рассчитали, оказалась нехватка в средствах. Жуковский, страстно желавший хоть чем-нибудь быть полезным семье Протасовых, немедленно продал за одиннадцать тысяч усадьбу в Холхе — свое последнее пристанище — и предложил деньги Екатерине Афанасьевне. Она было хотела что-то возразить, но он решительно объявил, что это его свадебный подарок Саше.
— Но где же ты будешь жить? — спросила Екатерина Афанасьевна с подозрением, не нарочно ли он устроил эту продажу, чтобы проникнуть в муратовский дом. — Да что теперь делать: занимай горницу во флигеле.
Венчание состоялось 14 июля в церкви соседнего села — Подзавалова. И вскоре Воейков вовсе перестал играть с Жуковским в дружбу и братство. Жуковский писал Маше: «Моя последняя надежда была на Воейкова. Милый друг, эта надежда пустая: он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли… Я не сомневаюсь в его дружбе, но теперешний тон его со мною не похож на прежний… Мы с ним живем под одной кровлею и как будто не знаем друг друга».
30 августа, в день своих именин, Воейков позволил себе грубую выходку против Жуковского. Никто не сделал ему за это замечания. Оскорбленный Жуковский покинул Муратово и написал Екатерине Афанасьевне: «Привязанность мою к Маше сохраню вечно: она для меня необходима; она всегда будет моим лучшим и самым благодетельным для меня чувством. Эта привязанность даст мне силу и бодрость пользоваться жизнью. С нею найду еще много хорошего в жизни… Я не мог с вами проститься. Это было бы тяжело. С вами, быть может, и скоро увижусь, но с вашею семьею, с Муратовом, с моим настоящим отечеством, — расстаюсь навсегда!»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК