4
4
«Жуковский отправляется сегодня с полком», — пишет Вяземский своей жене 17 августа 1812 года. Накануне они вместе были в Певческом трактире, где собралось много ополченцев; там было шумно, жарко, играли балалаечники, пели цыгане. Потом, уже на улице, встретили оживленного, говорливого Федора Иванова, он повез их к себе. Вяземский жаловался, что у него всё какие-то препятствия: написал генералу Милорадовичу — хотел к нему в адъютанты, ответа все нет, того и гляди, прождешь, и граф Мамонов[103] закончит составление своего конного полка. Жуковский советовал ему не медлить и идти к Мамонову.
От Иванова Жуковский заехал к Козлову, старому знакомцу, который в штабе Ростопчина занимался хлопотами по вооружению ополчения. От него — к Карамзину. Карамзин отправил свою семью в Ярославль, они увезли для сохранения полный экземпляр рукописи «Истории государства Российского». Еще один экземпляр он сдал в архив Коллегии иностранных дел. Третий — спрятал в Остафьеве. Сам он не знал, что предпринять. «Я рад сесть на своего серого коня, — писал он Дмитриеву, — и вместе с московскою удалою дружиною примкнуть к нашей армии». Но он по нездоровью уже не годился для военной службы. Так, до самого дня вступления французов в Москву, Карамзин метался по городу, провожая друзей и знакомых. С глубоким отчаянием он смотрел на покидаемую жителями столицу…

Ф. Ф. ИВАНОВ.
Гравюра А. Флорова.
1-й Пехотный полк Московского ополчения пошел только 19 августа. 20-го Карамзин писал Дмитриеву: «Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю». Русская армия двинулась к Можайску.
Жуковский, имевший чин поручика, шел пешком в общем строю своего полка. Думая о предстоящих сражениях, он спокойно и даже не без иронии оценивал свои боевые способности: «Из пистолета, слава богу, стрелять умею; немало мы в Мишенском перевели фатьяновских огурцов, с трех шагов, пожалуй, не промахнусь… А вот шпага! Придется припомнить пансионские уроки фехтования». С ним шел его новый слуга — калмык Андрей, нанятый им в Москве. «Вот этот, — думал Жуковский, — своим штыком может нагнать на неприятеля много страху: ловок!»
Расположились лагерем вблизи села Бородина. Солдаты развели костры. Для офицеров были разбиты палатки. Жуковский во всю ночь не сомкнул глаз: он волновался, часто выходил из палатки и оглядывал поле. Восемь лет спустя он так вспоминал ночь перед великой битвой:
Костры дымились, пламенея,
И кое-где перед огнем.
На ярком пламени чернея,
Стоял казак с своим конем,
Окутан буркою косматой;
Там острых копий ряд крылатый
В сияньи месяца сверкал;
Вблизи уланов ряд лежал;
Над ними их дремали кони,
Там грозные сверкали брони;
Там пушек заряженных строй
Стоял с готовыми громами;
Стрелки, припав к ним головами.
Дремали, и под их рукой
Фитиль курился роковой;
И в отдаленьи полосами,
Слиянны с дымом облаков,
Биваки дымные врагов
На крае горизонта рдели…
Случилось так, что полк Жуковского — неожиданно для него — не принял действенного участия в битве, он был оставлен в резерве, но тем не менее находился в поле действия неприятельских пуль и ядер, которые убили и ранили несколько десятков человек. Недаром Батюшков писал потом Жуковскому: «Ты на поле Бородинском pro patria[104] подставил одну из лучших голов на севере и доброе, прекрасное сердце. Слава богу! Пули мимо пролетели». В одном из позднейших писем Жуковский прекрасной прозой изобразил картину той же самой ночи и наступившего потом дня Бородинского сражения: «Две армии стали на этих полях одна перед другой; в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна Россия. Накануне сражения всё было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распростиралось над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение… Мы стояли в кустах на левом фланге,[105] на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; всё вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во всё продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись вперед и очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак, всё покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы не долго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темной ночью».

КОННЫЙ МОСКОВСКИЙ ОПОЛЧЕНЕЦ 1812 ГОДА.
Гравюра.
Русская армия, пройдя уже оставленную почти всеми жителями Москву, двинулась к Тарутину и начала не спеша готовиться к наступлению. Штаб главнокомандующего расположился в деревне Романове. Решение Кутузова оставить Москву вызвало переполох в Петербурге — он получил почти выговор от императора. Но старый фельдмаршал знал, что делал. Уже 30 октября 1812 года Наполеон прислал ему предложение о заключении мира, которое Кутузов отверг. «Бездействие» Кутузова привело к тому, что русская армия отдохнула и увеличилась, поднялся и боевой дух ее, а французская разлагалась морально и быстро таяла: в ней множились беспорядки и она гибла без сражений. А после боя под Тарутином французы покатились назад.

МОСКВА ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 ГОДА. ВИД НА ОБГОРЕВШИЙ ПАШКОВ ДОМ.
Рис. И. Джемса.
Вот что писал в эти дни Вяземскому, который участвовал в Бородинской битве, Александр Тургенев: «Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического; а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу… Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством Севера… Дела наши идут очень хорошо. Неприятель бежит, бросает орудия и зарядные ящики; мы его преследуем уже за Вязьмою. Последние донесения князя Кутузова очень утешительны».

М. И. КУТУЗОВ.
Гравюра с оригинала Д. Доу.
В Романове Жуковский встретил своих старых товарищей — бывших членов Дружеского литературного общества — братьев Андрея и Паисия Кайсаровых, которые служили при штабе Кутузова: Паисий, полковник, был адъютантом Кутузова, Андрей, майор, — директором походной штабной типографии, в которой печатались приказы, листовки и летучая газета «Россиянин». Кайсаровы помогли Жуковскому прикомандироваться к штабу.

ОРЕЛ. УГОЛОК УЛИЦЫ ГОРЬКОГО (БЫВШЕЙ НИЖНЕДВОРЯНСКОЙ)
В начале сентября Жуковский послан был в Орел нарочным к губернатору Петру Ивановичу Яковлеву. 10 сентября Маша, которая с матерью и сестрой жила в это время в орловском доме Плещеевых на Нижнедворянской улице,[106] записала в дневнике: «Вдруг наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губернатору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда не забудется… Было очень много гостей, все приходили его смотреть, он нас успокоил много насчет дурных слухов, которые у нас носились… Он приехал к губернатору, чтобы ему рассказать, что сюда в Орел привезут пять тысяч человек раненых; тридцать будет стоять у Плещеевых в доме и мне готовить для них корпию и бандажи».
Маша пишет, что гости «восхищались казацким кафтаном Василия Андреевича», приглашали его к себе.
В Орле он встретил и Авдотью Петровну Киреевскую с мужем — они тоже жили в доме Плещеевых. В Орле были Вендрихи — соседи Буниных по Мишенскому, Губарев — один из товарищей Жуковского по пансиону. Из московской знати тут спасались от французов Шереметевы, Щербатовы, кто-то из многочисленной фамилии Голицыных, какой-то Трубецкой, Сокольницкие, Боборыкины, Гедеоновы, Клугины и прочие. Все они не давали Жуковскому прохода, расспрашивали его о положении «на театре военных действий», и их можно было понять, так как слухи, часто странные и нелепые, были в Орле чуть ли не единственной информацией о войне.
18 сентября Маша отмечает в дневнике: «Привезли раненых солдат; эти несчастные гораздо жальче, чем вообразить возможно. Они терпят всякую нужду и даже надежды мало, чтоб им было хорошо когда-нибудь. Из 180, которых привезли, в одну ночь умерло 20! Невозможно вообразить без ужаса состояние тех, которые провели эту ночь в одной горнице с умершими. И всё это терпят они за нас!»
Сестры Протасовы вместе с матерью, Авдотья Киреевская с мужем — все принялись ухаживать за ранеными, которых разместили в доме.
23 сентября, как пишет Маша, привезли пленных «мародеров»: весь город собрался смотреть на их бесславный парад. Первую партию пленных сопровождал двоюродный брат Маши и Саши Александр Павлович Протасов. Большая часть французов шагала пешком, некоторых везли в телегах. Все они были в рванье, среди них было много раненых. Всего в Орел привезли 1175 французских солдат и 24 офицера, в том числе двух или трех генералов. «Мародеры» своим несчастным видом вызывали жалость. «Один офицер, — пишет Маша, — совсем без рубашки, а другой три месяца не переменял ее. Маменька послала им завтрак и рубашек». Пленных поселили в специально выстроенных сараях.
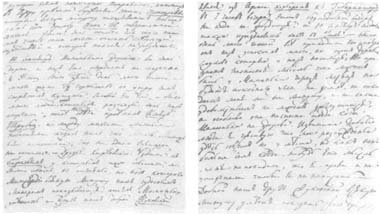
ДНЕВНИК М. А. ПРОТАСОВОЙ 1812 ГОДА, ВЕДЕННЫЙ В ОРЛЕ.
Автограф.
Жуковский целый месяц занимался в Орле устройством госпиталей, делал кое-какие закупки для армии, в частности — сукна. Иногда ему удавалось и отдохнуть — погулять с родными в парке у слияния Оки и Орлика, посидеть за чаем и неторопливой беседой на широком балконе плещеевского дома. Он успел даже съездить к Плещеевым в Чернь.
Екатерина Афанасьевна искренне заботилась о нем, старалась выказать ему свое расположение. И 10 октября сама сделала запись в Машиной дневнике: «День памятный в наших горестях: Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в армию».
…В Романове чуть ли не в первый день возвращения Жуковского из Орла Андрей Кайсаров сказал ему:
— Пусть тебе твой калмык оботрет лиру от пыли: еще помнит она, верно, звуки «Песни барда»?
— Ты прав, брат, — в тон ему ответил Жуковский. — Пора.

ОРЕЛ В НАЧАЛЕ XIX в.
Литография.
В свободное время он стал открывать свою черновую книгу — небольшой альбом в зеленом кожаном переплете и с медной застежкой — здесь он не только писал, но и рисовал. В ней пока заполнены были всего три листа. На четвертом появилось название нового стихотворения: «Кубок воина» — так Жуковский начал свою большую элегию-оду «Певец во стане русских воинов». И потом, двигаясь вместе с армией вслед за отступающими войсками Наполеона, Жуковский работал над этим произведением, прочитывая Кайсаровым и другим штабным офицерам очередные строфы.
Дух победы, вдохновенная уверенность в непобедимости русского народа окрыляли эти строки. Множество конкретных героев войны изобразил в них Жуковский, назвав их по именам: тут прежде всего Кутузов, а затем Витгенштейн, Коновницын, Ермолов, Раевский, Багратион, Платов, Фигнер, Давыдов, Сеславин, Кутайсов, Орлов и много других. «Певец» поднимает кубок и «чадам древних лет» — он словно видит летящие над шатрами военного лагеря тени Святослава, Дмитрия Донского, Петра Великого, Суворова… И может быть, самые сердечные слова певец обращает к родине:
Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные…

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ» С ЗАСТАВКОЙ, ГРАВИРОВАННОЙ М. ИВАНОВЫМ ПО РИС. И. ИВАНОВА.
Уже первые варианты стихотворения разошлись по армии в списках: оно не просто имело успех, оно захватывало, воодушевляло, воспламеняло в сердцах воинов мужество и тем самым помогало общему делу изгнания врага.
Двадцатилетний боевой офицер И. И. Лажечников[107] отметил в своих «Походных записках» 20 декабря 1812 года: «Часто в обществе военном читаем и разбираем „Певца во стане русских“, новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть… Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов!.. Довольно сказать, что „Певец во стане русских“ сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!»
Но не только стихи писал в этом походе Жуковский. Однажды квартирьеру главного штаба майору Ивану Никитичу Скобелеву[108] было поручено написать деловую бумагу. Скобелев, офицер, выслужившийся из солдат, был храбрый воин — при Бородине он потерял руку. Он был замечательный рассказчик, общительный и живой человек, но никогда не писал никаких бумаг. Он чуть не целую ночь просидел за столом, взмок от бесплодных усилий и, наконец, обратился к Жуковскому:
— Выручи, голубчик! Чего тебе стоит…
Жуковский охотно пришел ему на помощь и составил нужный текст. Скобелев отправился к фельдмаршалу, надеясь, что тем дело и кончится. Но Кутузову бумага понравилась настолько, что он тут же дал Скобелеву второе такое же поручение. Скобелев опять к Жуковскому… До самой Вильны писал поэт штабные бумаги, за которые Кутузов прозвал Скобелева «Златоустом». Но после сражения под Красным Жуковский заболел и, конечно, не мог больше поддерживать писательскую славу приятеля. Тот во всем признался Кутузову.
— Значит, не ты Златоуст, а Жуковский! — засмеялся Кутузов. — А тебя чуть ли не много назвать и Медноустом… Ступай, братец, за одно тобою недоволен, что ты прежде не сказал мне, что Златоуст-то твой товарищ. Мы бы его не упустили!

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ.
Худ. А. Тиранов.

И. Н. СКОБЕЛЕВ.
Гравюра.
…После сражения у села Красного, но еще до своей болезни, Жуковский написал стихотворение «К старцу Кутузову», названное им потом «Вождю победителей», которое Андрей Кайсаров напечатал листовкой в походной типографии. Кутузов не стал возражать против распространения этих стихов таким способом. Он понимал, что слово поэта может сильнее иного приказа воодушевить воинов.
Хвала, наш вождь! Едва дружины двинул —
Уж хищных рать стремглав бежит назад;
Их гонит страх; за ними мчится глад;
И щит и меч бросают с знаменами;
Везде пути покрыты их костями;
Их волны жрут; их губит огнь и хлад;
Вотще свой взор подъемлют ко спасенью…
Не узрят их отечески поля!
Обречены в добычу истребленью,
И будет гроб им русская земля!
Эту листовку можно было видеть и в шатре офицера, и в ранце грамотного солдата: стихи Жуковского еще более убеждали их в неизбежности гибели «супостата».
Плещеев написал Жуковскому об этом стихотворении: «Говоришь, что стихи твои писаны в чаду смрадной избы! — видно, Муза твоя — баба русская».
В зеленой книге появилось еще несколько стихотворений, в том числе — «N. N. При посылке портрета» и баллада «Ахилл», мысль которой вытекла из одной строфы «Певца во стане русских воинов», где говорится: «Старик трепещущей ногой влачится над могилой; сын брани мигом ношу в прах с могучих плеч свергает, и, бодр, на молнийных крылах в мир лучший улетает». Жуковский сделал к балладе примечание: «Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы, или умереть в молодости со славою, — он избрал последнее». Это рассказ о мужестве, которое сильнее судьбы: герой презирает смерть. Место действия баллады словно срисовано Жуковским с натуры где-нибудь на военных перепутьях:
Тихо всё… курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
Стражу стража близ шатров.
В декабре 1812 года, когда Жуковский лежал в лихорадке почти без сознания в военном госпитале в Вильне, в двух декабрьских номерах «Вестника Европы» печатался «Певец во стане русских воинов», который уже до того многим стал известен. Александр Тургенев в Петербурге готовил отдельное его издание. Композитор Дмитрий Бортнянский — управляющий придворной певческой капеллой — создал на эти стихи патриотическую хоровую песню, которая так же, как и само стихотворение, получила широкое распространение.
А Жуковский все еще лежал в госпитале, один, совершенно без денег: его слуга пропал без вести со всеми его вещами. Армия ушла дальше, и даже адъютант Кутузова не смог разыскать поэта, которого хотели призвать в главный штаб русской армии на должность «Златоуста». Друзья тоже потеряли Жуковского из виду: Вяземский и Александр Тургенев запрашивали друг друга о том, где он сейчас, а Тургенев даже послал из Петербурга в Вильну специального курьера на розыски Жуковского, но тот напал на след какого-то другого Жуковского, пехотного капитана, уехавшего из Вильны вместе с армией, — с тем курьер и вернулся.
Оправившись от болезни, Жуковский сообщил о себе в Главный штаб и получил оттуда известие, что он награжден чином штабс-капитана и орденом Святой Анны. По случаю болезни ему был разрешен бессрочный отпуск. Рассчитывая через месяц-полтора вернуться в армию, Жуковский через Калугу, Лихвин, Белев и Волхов поехал в Муратово: там был единственный для него дорогой человек в мире, любимая женщина, которая его ждала, которая вдохновила те строки его «Певца во стане», где говорится о любви:
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
«Твоя и за могилой!»
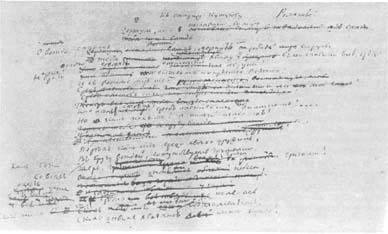
СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «К СТАРЦУ КУТУЗОВУ» (ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗВАННОЕ АВТОРОМ «ВОЖДЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»)
Последняя строка — сигнал для Маши: это были их слова, их девиз.
6 января 1813 года Жуковский приехал в занесенное снегом Муратово. Стоял солнечный, очень морозный день.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК