Гордиев узел
Гордиев узел
Дорога извивается, она отпрыгивает в сторону, чтобы снова упрямо всползти по ту сторону скалы из крошащегося камня. Еще не темно. Теплый летний вечер. Но время от времени легкое дуновение воздуха обдает пронизывающей сыростью. И белые клочья тумана цепляются за неровности горных склонов, рыже-бурых от дикого камня, от нарытой земли. Ржавые поросли соснового леса обломаны и словно обуглены. Эти горы с широкими и округленными вершинами похожи на сутулые старческие плечи.
Молодой человек смотрит на них. Окно открыто, и пламя рано зажженной свечи колеблется. Молодой человек смотрит вниз, где в долине, бездонной, будто пропасть, свинцовой туманной мутью клубится ночь.
Он смотрит вдаль: там, высоко, зубцы каменного гребня и отхлынувшая от каменной крутизны волна соснового леса — и над далекой вершиной еще догорает заря…
Долго глядит туда молодой человек. Затем садится к столу. Окно узко, как бойница, и у стола темно. Он придвигает свечу и пишет:
«Все мои желания, Мой Лучший, исполнились…»
А за окном ползет и густеет, все заволакивает туман…
Да, быстро это вышло! И года нет с тех пор, как он, странствующий студент, надел мундир прусского чиновника.
Счастье его, что он недолго отсидел на чиновничьем стуле в Берлине! Его перевели на шахты, в горы: «выслуживаться» — так это поняли в берлинских канцеляриях, к живому делу — так это расценил сам Гумбольдт.
И вот он живет в селении Штебен, вблизи Байрейта, в этих старых горах, где человек начал рыться с 1421 года. Двадцатитрехлетний обер-бергмейстер…
Он инспектирует рудники в трех горных округах — Найла, Вунзидель, Гольдкронах. Он посылает в Берлин статистико-экономические сводки. Он исследует месторождения полезных ископаемых. На нем лежит и чугунолитейное производство. Короче — он отвечает за все, что касается природных богатств, машин в шахтах и в цехах заводов, печей для выплавки чугуна и администрации всего горного дела.
Он занят еще солеварнями в Геробронне, фарфоровыми заводами в Брукберге, купоросным, квасцовым производством и серными фабриками в Грефентале.
Конечно, он изучает также историю своих гор, роется в огромных, тяжелых фолиантах, словно вынутых из библиотеки Фауста. На страницах, испещренных готической вязью, рябящей в глазах от жирных завитушек, он выискивает упоминания о давным-давно, чуть не со времени Тридцатилетней войны, заброшенных шахтах. «Это была ошибка моих предшественников — не пользоваться таким источником…»
Сколько же длится его рабочий день? Он не считает. Вероятно, уже в это время он твердо усваивает привычку — спать не более пяти часов в сутки.
«Тут думают, что у меня восемь ног и четыре руки», — пишет он.
Он хотел бы, чтобы так работали и другие. Но что сказать о них, о его коллегах? Да, это служаки. И они предпочитают… выслуживаться. Самое важное для них — почта из Берлина с известием о повышениях и наградных. «Нужно бросить бомбу среди этих людей, чтобы заставить их работать!»
Во всяком случае, обер-бергмейстер Гумбольдт добился многого. Есть свидетельства, что при Гумбольдте рудники стали приносить за один год столько, сколько они давали раньше за четырнадцать. Правда, это характеризует, помимо энергии Гумбольдта, также и ужасающее состояние горного дела в Пруссии.
«Все мои желания выполнены…»
Все ли?
Обер-бергмейстер отрывается от письма. Он снова смотрит в окно. Еле видна дорога — дорога, по которой вот уже триста пятьдесят лет возят руду из гор… И туман совсем закрыл горы. Наверху со всех сторон, на невидимых теперь склонах, огоньки: домишки горняков, людей, которых незачем заставлять работать — они и так выбиваются из сил. Огоньки их жалких лачуг словно парят в воздухе. Какая тишина! И в тишине — сырость земли, клейкий запах листьев и крик — птичий крик, пустынный, первобытный. Как будто стерты туманом триста пятьдесят лет, в течение которых покорял человек эти горы…
И странная тоска сладко сжимает сердце обер-бергмейстера. Она подкатывается и щиплет в горле. Он не знает, почему у него на глазах слезы.
«Штебен оказал такое влияние на весь строй моих мыслей, я создавал там такие большие планы, так прислушивался к голосу моих чувств, что я боюсь впечатления, которое он произведет на меня, если я его опять увижу. Я жил там, особенно зимой 1794 и осенью 1793 годов, в таком состоянии напряжения, что по вечерам не мог без слез смотреть на кое-где освещенные домики рудокопов на высотах, закутанные в туман. Такого места я больше никогда не найду по эту сторону моря!»
Так он вспомнил много лет спустя о ночах обер-бергмейстера.
Нет, желания исполнились еще не все…
Веймар и Иена недалеко. Там Гёте, брат Вильгельм и Шиллер с их женами-подругами. Само собой вышло так, что Вильгельм больше сошелся с Шиллером, а Александр с Гёте.
Гёте с жаром говорил о межчелюстной кости, найденной им у человека и в точности напоминающей межчелюстную кость животных; он читал свои «Метаморфозы растений»; сообщал, как движутся его занятия по оптике, — да, учению самоуверенного Ньютона, который пытался уничтожить свет Солнца, белый свет дня, разложить его на семь цветов, скоро будет нанесен смертельный удар!
Вулканистов и Ньютона Гёте ненавидел со страстностью, какой вовсе не вносил в литературные споры. «В эстетике, — так объяснял он это, — каждый может верить и чувствовать, как он хочет, но в науке фальшь и абсурд невыносимы».
Он высмеивал вулканистов в «Ксениях»:
Бедные скалы базальта! Вам надо огню подчиняться,
Хоть никто не видал, как породил вас огонь!
…Вот, наконец, опустили их снова в старую воду,
И потушила она этот пылающий спор…
Воззрения человека такого масштаба, как Гёте, не могли быть только неверными, неверными до конца; в них была своя последовательность. Оптика его тоже заключала глубокие и остроумные мысли; ошибочность ее проистекала от смешения физики с физиологией и психологией. Нептунизм Гёте был следствием основного, притом, бесспорно, замечательного пункта его натурфилософии, выраженного словами Фауста:
И чтоб росли, цвели природы чада,
Переворотов глупых ей не надо.
Сам Гёте говорил Леонгардту: «Я убежден, что при истолковании различных образований земли только тогда можно призывать на помощь перевороты, когда оказывается недостаточным объяснение посредством спокойных действий, наиболее свойственных природе».
Что он хотел сказать? Что природу следует объяснять из нее самой, а не вносить в нее насильственный, чудесный элемент. Чутье Гёте не обманывало.
Крайности вулканизма подготовили, нелепейшую теорию именно переворотов, «катастроф» (будто бы в прошлом постигавших земной шар, сметая живое население земли), — с помощью этой теории француз Кювье, а после д’Орбиньи и швейцаро-американец Агассиз «сокрушали» в XIX веке эволюционное учение; была превзойдена даже библия с ее единственным переворотом — всемирным потопом!
«Пусть знает потомство, что в нашем веке жил хоть один человек, который видел насквозь все нелепости плутонистов!»
Гёте видел их. Но перед нелепостями нептунистов он зажмуривал глаза. И не одна любовь к истине, но и опасливая боязнь революций — даже в природе (а ведь без скачков, без революций, без перерывов спокойной постепенности нет развития в природе!) — побуждала Гёте, министра великого герцога веймарского Карла Августа, восторгаться младенческим лепетом Вернера; Гёте не желал замечать, что геология, неотвратимо идущая вперед, оставила позади фрейбергского пророка.
Когда Александр зимой 1794 года приезжал в Иену, Гёте отправлялся с ним ранним утром в анатомическую аудиторию университета слушать Лодера, читавшего свой курс связок и суставов. Универсальный во всем, Гёте был универсален и в естествознании.
Часто к ним присоединялся Вильгельм, иногда и Шиллер, вспоминавший о своей профессии медика.
Вечерами неутомимый Гёте диктовал «схему сравнительного учения о костях».
Шиллер пригласил Гумбольдта участвовать в своем журнале, названном по имени богинь времени, охранительниц врат Олимпа, «Орами». Александр написал «Родосского гения». Это была аллегория, действие которой развертывалось в воображаемой древней Греции, а смысл заключался в популярном изложении Блюменбахова учения о жизненной силе, господствующей, пока она не отлетела от тела, над всеми физико-химическими силами организма.
Аллегория была напечатана и очень понравилась — она оказалась вполне во вкусе времени и в конце концов нисколько не хуже других произведений, наполнявших журналы.
Но размолвка с Шиллером надвигалась неминуемо. Слишком различны были пути фельдшерского сына, романтика-идеалиста, страстного поэта-проповедника, и уравновешенного натуралиста, чье детство прошло в Тегельском замке. Размолвка наступила через немногие годы — тогда, когда Гумбольдт больше не подписал бы ни одной строки своего «Родосского гения».
Эти годы стали важнейшими для молодого Гумбольдта. Кем он был до сих пор? Лучшие люди Германии разговаривали с ним почти как с равным, но разве в личных его заслугах тут дело! Правда, саксонский курфюрст прислал золотую медаль за «Подземную флору», а может быть, за «Афоризмы и доктрины», приложенные к ней; «доктрины» трактовали все о той же блюменбаховой «жизненной силе». Да нашелся шведский ботаник Валь, который присвоил имя Гумбольдта одному индийскому лавровому деревцу…
Но лучше других сам он, Гумбольдт, понимал, как немного все это стоит.
Он работал.
В это время начали отчетливо сказываться три характерные черты его способа работать, которым предстояло в поражающей форме проявиться уже скоро.
Первая черта — неистовая жадность к труду, к «деланию». Нет, здесь вовсе не было аристократа, не было белоручки. Был чернорабочий, три четверти суток не вылезавший из «упряжки». Он не «схватывал» походя, на лету, силой «чистой интуиции», как похвалялись натурфилософы, — он добывал сам, своими руками, как шахтер добывает руду, почти невообразимые груды фактов. Мы знаем: исполинской мерой приходится мерить то, что успел сделать Гумбольдт.
И это — вторая черта — при совершенно исключительной способности к обобщению и — черта третья — при широчайшей разносторонности, подлинной «всеобщности» его интересов!
Вот он отослал в Берлин свой очередной чиновничий доклад — на ста пятидесяти листах! И засел за карту, «показывающую связь всех соляных источников Германии». Это карта подземного мира, соляных потоков, текущих с юго-запада на северо-восток в гипсовых пластах под немецкой землей. Он прослеживает эти невидимые потоки, указывает, где бурить, где закладывать солеварни.
И собирается взяться еще за «толстый труд — геогностическую картину Германии».
Великое счастье — «раздвигать границы нашего познания»!
А повсюду, куда он ни едет по долгу службы горного чиновника, — в горных округах Пруссии, в Баварии, во франконских княжествах — видит он страшные условия работы горняков. И следом за фразой о «великом счастье» из-под пера его выливается: «Но гораздо человечнее радость изобрести что-либо, что могло бы облегчить труд рабочим людям…»
Чем же может облегчить подземный труд он, недавно увидевший эти шахты, сырые, темные, с дурной вентиляцией, где люди гибли от обвалов, от взрывов, задыхались от газа, умирали сотнями от болезней? Он, молодой обер-бергмейстер, делает, что может, предпринимает первые попытки хоть как-нибудь обезопасить этот каторжный труд. Он изобретает лампу, с которой можно работать в газовых шахтах, дыхательный аппарат и прибор антракометр, чтобы быстро определять, сколько углекислоты в воздухе шахт. До лампы англичанина Гемфри Дэви лампа Гумбольдта была лучшей. Пробуя ее, он свалился без чувств в пустом отдаленном квершлаге серного рудника. Его случайно нашли и вытащили полумертвого. Открыв глаза, он сразу посмотрел на лампу:
— Горит! Все еще горит!
Именно тогда, в это время громадного внешнего и внутреннего напряжения, время быстрого роста душевных сил, прояснилось Гумбольдту во всем необычайном смысле и само понятие «наука».
«Главным моим побуждением всегда было стремление обнять явления внешнего мира в их общей связи, природу, как целое». Это написано позднее, Но не зря стоит тут «всегда».
А в 1794 году он посылает Шиллеру замечательное письмо: «Естествознание, в частности, наука о растениях, в том виде, как ее трактовали до настоящего времени, когда ограничивались установлением различий между формами, не могло служить объектом размышления для созерцающего ума… Но вы чувствуете вместе со мной, что есть нечто высшее, что надо еще искать и найти… Аристотеля и Плиния побудило описывать природу присущее человеку эстетическое чувство… Эти древние авторы имели, несомненно, более широкие взгляды, чем наши убогие регистраторы природы…»
Письмо это еще не заставило насторожиться Шиллера. Страстные романтики и «философы природы» в их поисках скрытых связей и тайных уподоблений также стремились «обнять вселенную». Живая природа — та часть вселенной, где и проявлялся «дух» в собственном смысле, куда, следовательно, принадлежали и проявления «мыслящего духа» самих философов, весьма занимала их. Эстетическое чувство… но ведь не кто иной, как именно Шиллер, построил целую философию его!
Шиллер не разглядел в этом письме вехи на пути к такому пониманию природы и способов изучения ее, которое глубоко отличалось от его, шиллеровского.
А между тем в решающий для него штебенский период Гумбольдт стремительно двигался по этому пути.
Наука в конце концов едина — будет ли то исследование связи соляных источников или сути органической жизни, — потому что у науки один объект — мир. «Связи наук так тесны, что всем им, даже тем, которые считаются менее важными, следует быть прикрепленными к другим, как полип к скале…»
Вот тот новый смысл понятия «наука», который все яснее и яснее — почти до зримости — становился внятен Гумбольдту, «потому что невозможно правильно понять в целом всю природу, если мы сначала не изучим ее по частям».
Тут уже никакая натурфилософия была ни при чем. Начиналось совсем другое. И для блюменбаховой жизненной силы скоро тут вовсе не останется места.
«Размышления и новые исследования по физиологии и химии сильно поколебали мое прежнее верование в особые жизненные силы».
Новые физиологические и химические исследования, о которых говорит Гумбольдт, — это, конечно, исследования по животному электричеству и, главное, работы французских химиков Лавуазье, Бертолле, Фуркруа и других. С каким восторгом принял их Гумбольдт одним из первых в Германии! Вот откуда повеяло на него! Вот где смело берет он новые кирпичи для своего научного мировоззрения.
Раз он занимается биологией, он сразу же — и это характернее всего для Гумбольдта! — ставит основной вопрос, вопрос о сути целого.
«Что такое жизнь?»
Поразительные строки пишет он в 1796 году: «Я надеюсь скоро распутать гордиев узел жизненных процессов».
В «досуги» штебенского периода он предпринимает грандиозное исследование раздражимости мускульных и нервных волокон. Четыре тысячи опытов сделал тогда Гумбольдт.
Раздражимость, способность отвечать на внешние воздействия, раздражения, — одно из основных свойств жизни. Камень не отвечает на раздражения. Он крошится от ударов, едкие кислоты растворяют его. Он мертв. Что же такое раздражимость живых существ — это отдергивание ушибленной лапки, сужение зрачка на сильном свету? Что правит работой нервов, мускулов, осуществляющих акт ответа организма на принятое раздражение?
Отыскивая концы гордиева узла, Гумбольдт испыттывал множество веществ, усиливающих или тормозящих жизненный процесс, работу организма.
Одним из главных «усилителей» считали тогда кислород. И Гумбольдт изучает действие на живые существа всего, в чем только ни есть кислород. От животных переходит к растениям. Обмывает хлорной водой прорастающие семена. В те времена думали, что хлор — это соединение некоего элемента, таинственного «муриума», с кислородом. До сих пор в аптеках соляная кислота (HCl) называется acidum muriaticum.
Гумбольдт нашел, что семена, обработанные хлорной водой, прорастают гораздо скорее. Быстрее росли также горох и бобы в растворе металлических солей. Растения могут развиваться на различных субстанциях, о которых утверждают, что они «бесплодны». Вывод важный, вывод, нужный сельскому хозяйству. Только применять все эти находки Гумбольдта было негде и некому…
В 1791 году итальянец Гальвани опубликовал свои долголетние наблюдения над животным электричеством. Все заговорили о лягушачьих ножках, дергающихся на медном крюке во время грозы и посылающих ток, когда их касался металлический циркуль.
Уверенность, что «кислород и есть принцип действия жизненной силы» (письмо Гиртанеру), Гумбольдт дополнил убеждением, что животное электричество дает в руки еще один конец гордиева узла. Поэтому он на стороне Гальвани. В это время разгорелся жестокий спор между Гальвани и другим итальянцем, физиком Вольтой. Вольта считал, что электричество было не в мускулах лягушки, а возникло от соприкосновения разнородных металлов, из которых оказались случайно сделаны ножки циркуля Гальвани. И тело лягушки сыграло только роль влажной, слегка подкисленной среды — чувствительного показателя электричества, электроскопа.
Гумбольдт не может примириться с этой «плоской теорией» соприкосновения. Нет, именно в живом организме образуется и действует электрический ток!
Гумбольдту мало лягушек. Он ложится на живот, доктор Шаллерн делает ему две раны на спине и прикладывает серебро и цинк. Гумбольдт лежит каждый раз по часу, стоически рассказывает доктору о жжении, уколах, режущей боли, спрашивает про цвет вытекающей сукровицы и о том, как судорожно сокращаются посиневшие мускулы. На его спину кладут мертвых лягушек; они прыгают, их мертвые мускулы тоже сокращаются от электрического тока.
Если гордиев узел не был распутан этими опытами, самоотверженно проведенными более полутора веков назад молодым человеком, почти юношей, то в главном выводе он больше не колебался и никогда не станет колебаться. «В 1797 году в конце своего сочинения „О раздраженных мускулах и нервах и о химическом процессе жизни в животном и растительном мире“ я объявил, что вовсе не считаю доказанным существование жизненных сил. С того времени я не осмеливаюсь называть особыми силами то, что, может быть, происходит от совместного действия веществ, давно уже известных порознь».
Это материализм. В пору младенчества биологии Гумбольдт говорил о таком пути объяснения органических явлений, на котором и в наши дни иные ученые рассчитывают найти разгадку жизни. Оглянемся на эпоху Гумбольдта, на среду, окружавшую его, — и еще удивительнее покажется этот факт. Аристократ, современник «века немецкого идеализма», лично связанный со столпами его, «человек с любезной улыбкой», еще меньше любивший «дразнить гусей», чем Дарвин через шестьдесят лет, — совершенно спокойно, как о вполне очевидной вещи, говорит, что нет ничего чудесного, ничего «надматериального», ничего недоступного для исследования в живой природе, которую идеалисты в философии и в науке считали во все времена своей нерушимой опорой и вотчиной. И ничуть не колеблется в том — едва сложилось его научное мировоззрение, — в чем во всю свою жизнь не решится признаться бунтарь в науке Дарвин…
Шиллер не мог простить этой измены «Родосскому гению». Страстно и грозно обрушился он на отступника: Гумбольдт «никогда не создаст в науке ничего крупного…», «ни искры чистого объективного интереса…», «анализирующий рассудок, который пытается измерить природу, неизмеримую и недоступную, и с непонятной дерзостью думает вместить ее в рамки своих формул…»
Не разум, а только «рассудок»! На языке тогдашней немецкой идеалистической философии это было жестоко оскорбительное обвинение. Шиллер еще усилил его: «Голый рассудок-мясник, который бесстыдно хочет рассечь и измерить природу — без силы воображения, без сладостного биения сердца, без участия чувства…»
Гумбольдт не любил и старался избегать полемики. Но на этот раз не остался в долгу. Он остроумно осмеивал «кисельные чувства» и утверждал, будто Шиллер «облекает занятые у других мысли в несносную напыщенность».
Ведь кто-кто, а уж Шиллер-то должен был знать о несправедливости своих обвинений. И силой воображения, и сладостным биением сердца, и самым сильным чувством была богата та единственная в своем роде, та необычайная наука, которую создавал Гумбольдт. Материализм Гумбольдта-ученого не разрушал ни прелести, ни очарования природы. Он ничего не отнимал ни от романтики, ни от радости познания прекрасного, величественного мира, единого в своем бесконечном многообразии.
Потому что была еще четвертая характерная черта во всей работе натуралиста Гумбольдта — черта, которая придает его науке неповторимый облик: это эстетическое чувство, включенное в закон исследований, это ощущение красоты как важной стороны истины о мире!
Именно так шел Гумбольдт к самым высшим своим научным достижениям.
То замечательное письмо Шиллеру, письмо 1794 года, он закончил целой программой небывалой науки, настоящим обвалом идей:
«Всеобщая гармония форм, проблема — одна ли исходная форма растений представлена в тысяче переходов; распределение этих форм по земному шару; различные влияния — радости или меланхолии, вызываемые в чувствующем человеке растительным миром; контраст между мертвой, неподвижной массой скал, между кажущимися почти неорганическими стволами деревьев и оживленным растительным покровом, одевающим нежной плотью даже скелеты животных; история и география растений, или историческое изображение общего распределения растений по земному шару — это еще не разработанный раздел истории мироздания, нахождение древнейшей растительности в местах ее погребения (окаменелости, каменный уголь, торф и др.); постепенность заселения земного шара; передвижения растений, изолированно и общественно живущих, и их пути; карты распространения тех растений, которые следовали за некоторыми народами; всеобщая история земледелия; сравнение культурных растений с домашними животными, происхождение „тех и других; изменчивость растений… одичание одомашненных растений (в Америке, Персии); общая запутанность, вносимая в географию растений колонизациями — вот, мне кажется, предметы, достойные размышления и почти никем не затронутые. Я занимаюсь ими непрерывно…“
Это поражающий документ истории науки. Капиталистическая наука (не говоря о феодальной) никогда не сумела осуществить такой программы. Не образ ли науки будущего пророчески начертал Гумбольдт? В самом деле, высшее человеческое знание о мире — не должно ли оно быть добыто исследованием, впитавшим в себя, усвоившим и те черты, которые считал обязательными Гумбольдт? Черты, упущенные, забытые „регистраторами природы“, какими бы отличными специалистами в своих областях они ни были….
Вот тот самый Фуркруа, из плеяды новых французских химиков-экспериментаторов, энтузиаст и пропагандист методов их работы, Фуркруа, которым восхищался Гумбольдт, находил, что Гумбольдт „слишком поддается чувствам. Он витает в сфере эмоции…“»
Какое противоречие с отзывами Шиллера!
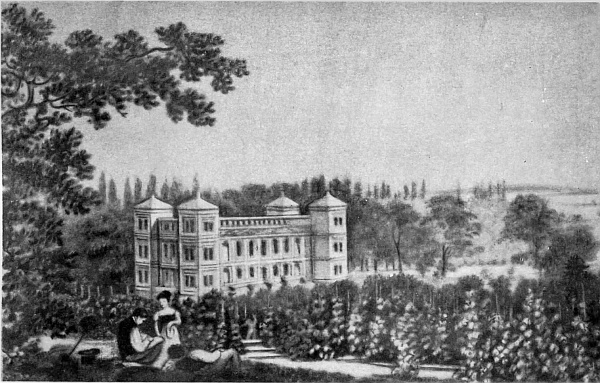
Замок Тегель.
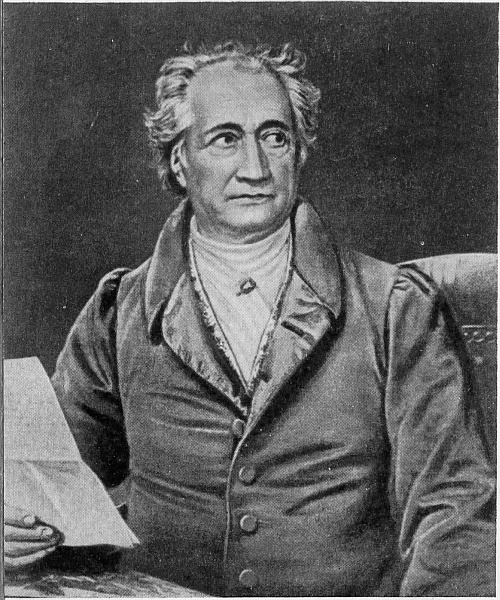
Гёте.

Шиллер.

Абрагам Готлоб Вернер.

Александр Гумбольдт (1806).
Фуркруа только пожал бы плечами, если бы его спросили, какое отношение к красоте имеет кислородная теория горения, яблочная кислота или новонайденный металл молибден…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
3. Гордиев узел
3. Гордиев узел Уж три дня стояли бок о бок советские и махновские полки.Люди рвались вперед, к югу, нервничали. Нервничал и Якир. То он выслушивал сообщение начальника штаба Гарькавого, которому беспрестанно звонили из бригад, то отлучался к прямому проводу для разговора
УЗЕЛ
УЗЕЛ Мы жили рядом. Два огромных дома, по тысяче квартир, наверно, каждый, не менее. И оба знамениты в столице этой брошенной и ныне считающейся центром областным. Нас разделял унылый переулок, как и дома, изрядно знаменитый одной из самых популярных бань. А для меня еще
ГЛАВА ШЕСТАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ — ГОРДИЕВ УЗЕЛ ПРОБЛЕМ
ГЛАВА ШЕСТАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ — ГОРДИЕВ УЗЕЛ ПРОБЛЕМ Среди учёных — зоологов, ботаников, экологов, — с которыми пришлось встречаться и вместе работать в Австралии, большинство не только заняты решением частных научных вопросов, но и глубоко озабочены общим состоянием
Глава пятьдесят восьмая Гордиев узел: март 1897 года
Глава пятьдесят восьмая Гордиев узел: март 1897 года Антон был нужен всем — Людмиле Озеровой, Елене Шавровой, Вере Комиссаржевской, Лидии Авиловой. А также Левитану. Он хотел, чтобы Антон обследовал его, чтобы Браз написал его портрет для Третьяковской галереи. Собираясь в
IX Чеченский узел
IX Чеченский узел В карьере политика периодически возникают ситуации, когда ему приходится идти наперекор движению масс или подставляться под удар. Иногда очевидные для избирателей вещи не являются однозначными, и надо найти в себе смелость, чтобы сказать людям правду
ЗАПУТАННЫЙ УЗЕЛ
ЗАПУТАННЫЙ УЗЕЛ Судя по стихам, которые Маяковский написал в это время и которые посвятил Лиле, да и по дошедшим до нас свидетельствам современников, отношения между ними складывались совсем не просто. Трудно, мучительно — если точнее. Никакого «брака втроем» — ни в
ПОЛЬСКИЙ УЗЕЛ
ПОЛЬСКИЙ УЗЕЛ Новый, 1920 год Артур Христианович Артузов встретил в своем кабинете на пятом этаже дома 2 на Лубянской площади уже ветераном Особого отдела ВЧК. Да–да, именно ветераном, потому как служил в отделе почти со дня его основания, хотя и прошел с той поры
Гордиев узел
Гордиев узел Все же лучше умереть от преступления другого (человека), чем от собственного страха. Руф Квинт Курций. История Александра Македонского После битвы при Гранике Александр с легкостью овладел многими азиатскими городами. Среди прочих власть македонского царя
УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ
УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ Если разговоры о "кронштадтской республике" все же содержали элемент иронии, то деятельность сепаратистских сил на окраинах бывшей империи всерьез грозила единству страны. С этой проблемой Временному правительству пришлось столкнуться и в Финляндии, и в
Узел композиции
Узел композиции По Красной площади, вдоль Верхних торговых рядов, шагал он неторопливо, тяжело, ни на кого не глядя, заложив за спину большие морщинистые руки. Из-под старой порыжевшей шляпы торчали клочья седых волос.Василий Иванович увидел его со спины и… тотчас узнал.
Глава 58 Гордиев узел март 1897 года
Глава 58 Гордиев узел март 1897 года Антон был нужен всем – Людмиле Озеровой, Елене Шавровой, Вере Комиссаржевской, Лидии Авиловой. А также Левитану. Он хотел, чтобы Антон обследовал его, чтобы Браз написал его портрет для Третьяковской галереи. Собираясь в Петербург, Антон
КАЛИНИНГРАДСКИЙ УЗЕЛ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ УЗЕЛ В поисках материалов по Николаю Григорьевиче Кравченко автор книги обратился в октябре 2011 года к представителю Совета ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ РФ в Калининградской области полковнику в отставке Сергею Ивановичу Захарову.
Глава 12 Кавказский узел
Глава 12 Кавказский узел Визит Верховного Утро в тот мартовский день выдалось пасмурным. Хотя событие предстояло, образно говоря, светлое — проводы первого десантного полка полковника Майорова. Часть достойно выполнила все поставленные задачи и возвращалась в пункт
Гордиев узел
Гордиев узел Дорога извивается, она отпрыгивает в сторону, чтобы снова упрямо всползти по ту сторону скалы из крошащегося камня. Еще не темно. Теплый летний вечер. Но время от времени легкое дуновение воздуха обдает пронизывающей сыростью. И белые клочья тумана цепляются
Тугой узел
Тугой узел Пот лил в три ручья, но Жабин, отдуваясь после крутых подъемов, семенил по тропе, не упуская из виду девчонку. «Откуда ее вынесло в такую жарищу? Может, остановить, заглянуть в корзинку?» И тут же усмехнулся про себя: «Не такая у тебя прыть, Корнилий. Рванет — и
Крымский узел (май 1994 г.)
Крымский узел (май 1994 г.) События последних лет, потрясающие мир в различных его частях, имеют ярко выраженную национальную, а точнее, межнациональную основу. Приводить примеры сказанному нет необходимости - их более чем достаточно. В бывшем СССР культивировался ложный