ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
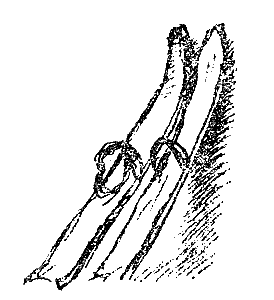
1.
По преданию, большая, вытянувшаяся по левому берегу речки Сергуловки деревня того же названия началась со двора татарина Камаева. Позднее около него стали вырубать лес и селиться русские. Вначале их было немного, и носили они разные фамилии. По в те далекие времена люди тоже не сидели на одном месте. Ездили по ближайшей округе то лошадь купить, то на ярмарке что-то продать. Когда спрашивали новых поселенцев, откуда они, отвечали: «От Камаева». Ну а если от Камаева, то и сами Камаевы. Так и случилось, что почти половину деревни с чисто русским и ласковым названием Сергуловка до революции занимали Камаевы, и здесь, на самом краю, за оврагом, стоял большой дом Ивана Даниловича.
Большой дом — большая и семья. Большая семья — большое и горе. Еще в молодости вник в смысл этих поговорок Иван Данилович и потому в жизни был стоек. Тряхнет в случае чего кудлатой головой, поскребет крепкий затылок, выпьет под соленый огурчик неизбывной русской водочки — и снова за дело. Девять гробов сколотил для детей. Перетерпел: и у других умирали. Такова жизнь крестьянская. Пока сын или дочь за юбку матери держатся, они не жильцы. Вот когда косить начнут, тогда еще можно строить на них какие-то планы. Девять детей похоронил, но ровно столько и выжили. И все, что парни, что девки, к любому делу горазды. Старшая, Анна, рядись не рядись, а двух мужиков стоит. Наталья тоже в девках не засидится. Перед такой работницей любой дом двери настежь откроет, И Марья бока не отлежит, в разговоре о работе не забудет. О парнях и толковище разводить нечего. Вот только Максим… Все, что надо, проворотит, и скорехонько, но к крестьянскому труду не прикипел. Михаил намного ли старше, а давно в коренниках ходит, Максиму же лишь бы попеть да поплясать, в лес за грибами и ягодами убраться. Там он первая рука, в лесу за ним и Анне не угнаться, разве что щебет какой-нибудь занятной пичужки услышит. Тут встанет как вкопанный, и хоть коси его. Что из него выйдет, одному богу известно…
Однако, пока Иван Данилович приглядывался и размышлял о неудавшемся, на его взгляд, сыне, Максим свою линию вывел. Едва заговорили в деревне о том, что он зачастил под окна ясноглазой, с тяжеленной русой косой Устиньи, едва поделилась этой новостью с мужем Ксения Яковлевна, Максим смиренно предстал перед родительскими очами и попросил заслать сватов.
— К кому это? — прищурился, будто не ожидал, Иван Данилович.
— Знаете же! Зачем спрашиваете?
— Вчера знал, а сегодня, может, у тебя другая на уме.
— Нет другой, — обиделся Максим.
— Гляди-ка, мать, у него губа не дура! Не зря по лесам шастал и в деревне красну ягодку нашел.
— Я и Устю в лесу рассмотрел, папаня, — довольный быстрым исходом дела, признался Максим.
Свадьбу сыграли песенную — дружки Максима постарались, — и обошлась она без пересудов и кривотолков. Даже у самых ядовитых деревенских кумушек не нашлось к чему придраться: «Пара, что и говорить, пара! Как хороший венок сплетен!»
В избу Ивана Даниловича Устинья вошла легкой поступью, с первых дней покорила главу семьи, быстро сошлась с новой матерью, братьями и сестрами мужа. С ее приходом будто светлее стало в доме, и каждому любо было посмотреть, как сноровисто печет невестка хлеб, доит корову, какими ловкими в ее руках становятся и коса, и лопата, и вилы. И Максим изменился, стал домоседом, не тянуло его ни в лес, ни к дружкам.
— Тоже в коренники выходит! — дивился Иван Данилович. — А я боялся, как бы их обоих в малиннике медведь не задрал.
Однако время шло, а люлька, в которой отлежали свое столько детей Ивана Даниловича и Ксении Яковлевны, пустовала. «Может, и к лучшему, — безрадостно тешил себя Иван Данилович. — Год ныне сирый, вот маленько оправимся, тогда и внучонку лучше будет. Так-то так, а если бездетной окажется Устинья? И такое иногда случается».
Ксения Яковлевна к бабке, понимающей толк, сбегала, невестку «полечиться» уговорила. Максим тоже хмурел, когда был не на глазах, но вида не подавал, а наедине с молодой женой похохатывал:
— Не тужи зря. Мы с тобой еще отца с матерью перегоним.
— Ну тебя. Скажешь тоже, — смущалась Устинья, а сердце млело и от заботы Максима, и от его ласки.
И пришло свое — упорхнула от Устиньи легкая походка.
— Как уточка ходишь! — ликовал Максим. — Вчера гляжу, что за колода мне обед тащит, переваливается с боку на бок? Ладонь ко лбу приложил, а это женушка ненаглядная. Да иди, иди поближе, не раздавлю.
— Тише ты!
— Тише? — не унимался Максим. — Да мне сам черт не страшен, мне…
— Макси-и-м! Черта-то к чему поминаешь?
В предпоследний день щедрого и надежного лета Устинья разрешилась от бремени.
— Санька будет! Александр Максимович. Мой на-след-ник! — ликовал Максим. — Бо-га-тырь! А орет-то как! В меня песенник пошел, в меня!
Дед притащил давно и хорошо обжитую зыбку, бабка окатила ее крутым кипятком, высушила, устлала старым одеялом и уложила Александра Максимовича.
— Вот тебе и хоромина до года, а там сменим. Да не верещи так, урос этакий. Устя, Устя, никак, проголодался? Подать тебе его али как?
Все бы и ладно, все бы и хорошо, но не успела невестка выкормить младенца, навалился на деревню тиф. Пометалась Устинья с неделю в горячечном бреду и затихла. Устинью снесли на кладбище, а Максим впал в горькую. Как начал с поминок, так и горел синим пламенем. Даже Санька ему не в радость. Изредка проведет рукой по светлой головенке и отвернется. Словно сердится на мальчонку, словно его винит в смерти Устиньи.
Долго ворочаются без сна дед с бабкой, тихо переговариваются меж собой. Прости его, матерь пресвятая богородица! Умиротвори душу, бедой омраченную!
Маленькие дети — горе, большие — вдвое! Вдвое ли?
В своей избе, в центре деревни, мать Устиньи — Марфу — одолевали другие думы. Попросить надо внучонка-то, попросить! У них эвон сколько и еще будут. Тот же Максим не утерпит, возьмет новую. Я бы уж доглядела за ним, побаловала, а там, глядишь, годочков через десять и работник в доме. Отдадут ли? Мальчонка-то больно хороший.
Весной, уже лужи пообсохли и грязь зачерствела, закудахтали по дворам выпущенные из стаек куры, собрала Марфа гостинец для внука, выглядела, когда в избе одна Ксения осталась, и пошла к сватье. Разговор, как принято, начала издалека. Похвалила чистоту во дворе, чай, для нее заваренный, об Устинье к месту слово вставила и прослезилась, потом только вымолвила:
— Дай Саньку мне! — И вздрогнула от своих слов — как истолкованы будут?
— Возьми, не чужой он тебе, — не поняла сватья.
— Знамо дело, не чужой! Глазоньки-то светлые, ясные — наши глазоньки! И волосенки! У маленькой Усти точь-в-точь такие были, мягкие и шелковистые!
Прижала к груди внука, услышала под заскорузлыми пальцами его сердечко, к запаху головенки принюхалась, и обожгло в груди, рванулось собственное сердце. Уткнулась в плечо Саньки и замолкла.
— Ты что это, сватья? — почувствовав недоброе, спросила Ксения.
— Та-а-к, — тихо всхлипнула Марфа. — Почудилось, будто Устю на руках держу. — И больше сдерживаться сил не хватило. — Отдай Саньку-т мне, Ксения! Христом богом прошу, отдай!
— Это как? — опешила сватья.
— А так! — снова бухнуло в груди и отдалось в голосе. — Не подержать на руках, а насовсем!
«Ой, неладно начала, траву не косила, а уже сушу!» — пронеслось в голове Марфы. Зачастила умоляюще, откуда и слова взялись: — На что он вам? Неуж у тебя без него дедов мало? За ним глаз да глаз нужен, я бы уж присмотрела за ним, мне бы он в память об Усте.
— Вот уж не из тучи гром, — схватилась за сердце и Ксения Яковлевна. — Ни с того ни с сего… У тебя тоже девки есть, наводишься еще с внуками…
— Дев-ки-и! — простонала Марфа. — Замуж выскочит — из дома упорхнут. А у тебя парнями пруд пруди. Вот унесу — и весь сказ, раз миром не хочешь!
Они уже кричали. Ксения взялась за рогач:
— Клади на место, а то!
— Попробуй тронь — лысой сделаю!
— Пока соберешься, я тебе ребра пересчитаю! Смотри, до чего довела парня! Криком исходит!
Марфа ошалело глянула на внука. Правда, ревет! И давно, поди! Прижала к себе, пнула дверь и метнулась на улицу.
— Застудишь мальчонку, застудишь, окаянная!
Истошный крик сватьи остановил Марфу на дороге.
— Не застужу, не бойсь! — процедила сквозь зубы, сорвала с себя пиджак убитого в гражданскую мужа, ввернула внука и побежала на свое подворье.
Вечером под любопытными взорами односельчан пошли всей семьей за Санькой. Бабка Марфа в переговоры вступила, но в избу войти не дозволила. Через дверь беседовали.
Сначала Иван Данилович увещевал, потом Михаил, рассудительный старшой, которого в Сергуловке с шестнадцати лет называли Михаилом Ивановичем, Анна и Наталья свое прокричали. Максим в сердцах пригрозил развалить избу — не помогло.
— Не отдам! — кричала через дверь Марфа. — Не отдам, и все. Рак пущай пятится назад, а я не буду. — А на угрозы Максима ответила: — Руши, руши, коли сына не жалко.
Максим ухнул по углу избы колом и пошел залипать горе. За ним поплелись и остальные.
Шустрые, не привыкшие уступать, Анна и Наталья хотели восстановить изначальное положение тем же приемом, которым воспользовалась бабка Марфа, но та была настороже: ворота держала на запоре и из дома не отлучалась. Пришлось собирать сельский сход. Пошумели и покричали на нем всласть — противники были у той и другой стороны, — но решили здраво: помимо бабок у Саньки есть родной отец и грех отнимать у него ребенка.
Санька был водворен в свою зыбку, в положенное время поднялся на ноги и начал кружить по избе, а потом и преодолевать ее порог. Зиму провел если не в сытости, то в тепле, весной первый раз увидел, как завязывается лист на деревьях, как черная земля становится зеленой, дождь увидел и осознал Санька, поля и синие леса за рекой, овраг перед домом, длинноствольные березы. Задерешь голову, чтобы посмотреть, что там у них в высоте делается, и едва на землю не падаешь.
Начало третьего десятилетия нового века было тяжелым: какой год ни возьми — то бескормица, то безродица. Бабке Ксении все чаще приходилось и торф в муку подмешивать, и лепешки из картофельной ботвы печь, и из лебеды да корней болотных всякие «разносолья» готовить. Чтобы как-то прокормить семью, дед Иван купил сушилку, и в ней все, от мала до велика, замешивали, сбивали, потом резали на небольшие брусочки и сушили белую глину. На безрыбье и рак рыба, нет извести и мела, так и глина хороша на побелку. Дед отвозил белоснежные брусочки в Тюмень и выменивал на разные съестные припасы, а порой, если удавалось часть товара сбыть за деньги, привозил домой и обновки.
Еще два лета позади остались, и еще шире открылся мир Саньке. Овраг излазил вдоль и поперек, на пруд с ребятами бегал и там барахтался в теплой воде, в деревне не раз бывал, завелись друзья-приятели. Целыми днями на улице Санька. — сам себе хозяин. Есть захочет, домой прибежит:
— Баб, дай молока!
Дунет кружку то парного, то студеного, из ямки, краюху хлеба умнет и снова под синее небо да белые облака, в траву-мураву да кустов заросли. Однако и дело знал Санька.
— Наш-то пострел везде поспел, — Хвалилась бабка Ксения. — Носится, носится, а пойдем глину работать, тут как тут: «И я блуски буду делать!» И попробуй отважь — уревется, урос такой. Посмеемся и дадим глины — на, режь. Не пойму, в кого такой и уродился — то ли в деда, то ли в Михаила? Рабо-отни-ик!
О Максиме помалкивала. Все еще чудил Максим горевал и жен менял. «Не могу под Устю подобран. Попадется — остановлюсь», — оправдывался.
В двадцать шестом, когда Саньке было четыре года, загуляла по округе эпидемия оспы. Болели ею и в семье Ивана Даниловича. Санька держался.
— Ладный подберезовик растет! И хворь его не берет, — говаривала Ксения Яковлевна.
— Типун тебе на язык, старая, — ворчал дед Иван. — Накликаешь беду на парня.
И будто в воду смотрел: все уже в деревне оклемались, в семье оздоровели, а Санька свалился. Да круто так, будто с обрыва в омут. Будь за ним уход материнский, у самого характер не такой вольный, может, и поднялся на ноги здоров-здоровешенек, но некому было посидеть у его изголовья, последить, чтобы не освобождал руки, — расцарапал лицо, останутся теперь на всю жизнь отметины. Это бы куда ни шло, не девка, проживет и с ними — видеть плохо стал внучонок. Пройдет, поди, образуется? Другие тоже первое время спотыкались, а отошло. Маленько-то видит, на улицу бегает.
На улицу он бегал и однажды с Анной под Новины увязался. Березник там ладный, жару много дает — хоть лен сушить, хоть баньку протопить.
Забрался на телегу, поехали, а в поле, когда солнышко сквозь тучи проклюнулось, обласкало землю и осветило ее ярко-ярко, закричал вдруг Санька:
— Тетка Анна, тетка Анна, на тебе пошто кофта белая?
Анна ахнула:
— Видишь?!
— Вижу! Вижу! Кофта белая, а юбка черная! Кофта белая, а юбка черная! — в буйном восторге орал Санька.
— Сохранил господь! Со-хра-ни-и-л!
Дома на радостях устроили проверку:
— Это какого цвета?
— А это?
Он то угадывал, то путал.
— Чего привязались к парню? — остановил экзаменующих дед Иван. — Не сразу Москва строилась, да он и цветов всех не знает.
— Знаю, знаю! — закричал обиженный внук и вздернул вверх белую головенку. — Солнышко за тучи ушло — не видите? Темно стало.
— Ишь ты! Он и нас учит! — И решили хором: — Будет Санька видеть! Будет!
Поди, и сбылось бы радостное пророчество, если бы оплошки не дали. У Натальи родился первенец. Навестить надо дочь, поздравить ее и новорожденного. Бабка Ксения кашу сготовила, пироги напекла и сладкие куличи. Один в спешке на пол плюхнулся, гостиничный вид потерял, и, чтобы не пропадало добро, решили отдать кулич внуку — дома останется, пусть поест вдоволь. Он постарался, крошек от лакомства не оставил и заболел возвратной оспой. Оттого, сказали знающие люди, что нельзя после выздоровления много сладкого есть. Потом еще один «кулич» получился. Свадьбу Марии играли, бабка всю ночь с помощницами пекли, жарили и парили, днем гостей, званых и незваных, полная изба набралась, душно в ней, жарко. Санька на своем месте, на полатях, находился, а там и совсем как на полке в бане. Выскочил на улицу, хватанул снежку про запас, чтобы жар снова не донял, и простыл. Месяц провалялся и поднялся уже совсем темным.
— Довели мальчонку! Был бы у меня, зрячим остался, — горевала в своей избе не примирившаяся со сватами бабка Марфа. — Куда он теперь, как жить будет? Ладно, если господь бог скоро приберет, а если нет, тогда как? Находится с сумой, ох и находится!..
2.
— Курица, а Курица! Айда на лыжах кататься!
— Счас. Ремень приколотить надо.
Курица — это он. Двое Санек Камаевых на улице. Одного, чтобы не путать, прозвали Курицей, другого — Киселем. Иванов Камаемых тоже двое. Один — Шершень, второй — Червончик. Гришке Камаеву только повезло: нет у него тезок и потому он просто Гришка.
Лыжи смастерил сам, коньки — тоже. И западенки — птичек ловить — своего изготовления. Только не держит их Санька — жалко. Поймает и выпустит: лети и не попадайся больше!
Несется с горы ватага Камаевых! Гора длинная, пологая. Хорошо с нее на лыжах скатываться! Санька впереди. Если кто на пути попадется, ему крикнут. Первое время обманывали: «Курица, мужик едет!» Санька падал, друзья хохотали, но шутки шутить отучил быстро. Крепкие кулаки в таком деле хорошо помогают.
Так и рос со своими сверстниками и радовался жизни, не сознавая, что она его обделила: сиротой стали называть, когда еще не понимал значения этого слова, а потом оно стало привычным и не задевало; глаза потерял, еще не научившись переживать, несмышленышем, приноровился к новому состоянию незаметно и принял его как должное.
Отец в конце концов женился по-настоящему, обзавелся еще одним сыном, а к крестьянскому труду так и не прибился. Милиционером одно время работал, потом закончил курсы, стал счетоводом и вышел бы со временем в бухгалтеры — успехи показывал отменные, — но перепил однажды зимой, схватил скоротечную чахотку и умер.
Отца Санька знал плохо и встречался с ним редко. Бабка Ксения заменяла ему мать, дед Иван за хлопотами и заботами на внука внимания обращал мало, но и не обижал, никогда не бил и не ругал. Жить было можно. Плохо и тоскливо стало Саньке лишь в тот год, когда друзья пошли в школу. Целыми днями один-одинешенек Санька, и одолевают его тяжелые думы. Он не такой, как все, ему даже учиться нельзя, и останется он неграмотным. Брал у ребят книжки, водил пальцами по страницам. Шелестят они под руками, как-то непривычно пахнут, но ни о чем не говорят, а друзья шпарят по ним наперегонки, и получаются у них то забавные рассказы, то стихотворения. Может, и ему можно научиться?
— Баб, а баб, — просил Ксению Яковлевну, — отведи меня в школу, хочу учительницу послушать.
— Нельзя, внучек. Там глазоньки нужны, ты мешать будешь, — сглатывала горький комок Ксения Яковлевна. — Пойди лучше на улку, поиграй. Денек тихий и теплый выдался. Поди, милый.
— Я ребят подожду, чего я один там буду делать? — грубил Санька, залезал на полати и тихо, чтобы никто не услышал, плакал.
Года через два после смерти отца бабка Ксения сказала:
— Завтра рождество. Разбужу тебя пораньше, и пойдешь поздравлять людей, просить подаяние. Молитву надо бы читать, да не научила я тебя… Обойдется, поди, тебе и без нее подадут.
Санька не знал, что просить подаяние стыдно, и с радостью согласился: сообразил, что лишний раз можно зайти к соседке Дарье, которая изредка угощала его горохом. Еле дождался утра, встал раным-ранехонько и побежал. Зашел в избу, постоял у порога и, набравшись смелости, сказал:
— Сегодня рождество, тетка Дарья. Дай мне гороха.
Женщина засмеялась и насыпала полный карман лакомства. Санька припустил домой.
— Ты что так быстро? — удивилась бабка Ксения.
— А я уже поздравил. Мне тетка Дарья вон сколько гороха дала!
Не того ждала от него бабка, но снова послать внука по дворам язык не повернулся. «Поди, и к лучшему. Поди, господь бог не повел его позорить семью! Разговоров бы было — не обобраться!»
Деревенская «вольница» оборвалась круто: Саньке шел двенадцатый, когда дали знать из сельсовета, чтобы привезли его в районо. Всю дорогу он тарахтел, спрашивал тетку Анну, мимо каких деревень и мест проезжают, а потом затих: почему-то стало страшно. Говорили в районо, что в Шадринске открывается школа слепых, там научат Саньку грамоте и учиться он может долго на всем готовом, пока десять классов не закончит.
Дома сразу же побежал к ребятам:
— Я тоже буду учиться!
— Болтай больше.
— Не знаешь — не спорь. Есть книги с точечками, по ним и без глаз читать можно.
— А писать?
— Писать тоже точками.
— Мели, Емеля.
— Я тебе помелю, я тебе!
«Уговорил» приятелей, и разговор принял практическую сторону:
— Шадринск — город большущий, Саня, так ты там не робей и никого не бойся, а то скажут: приехал деревенский парень, слепой парень — и забьют тебя, Санька.
— Не забьют, — не очень уверенно отвечал он.
А дома раздумался: ехать далеко, потеряется он в городе, заблудится, а то и правда забьют охальные и злые городские ребята. Тоскливо стало от этих мыслей, но делу уже был дан ход: на последние деньги купили теплую байковую гимнастерку, брюки, новые валенки — первые за всю жизнь обновы, — и Санька будто дважды кряду в бане помылся. Так необычно, так вкусно пахли новые вещи, что он и спать бы в них забрался, если разрешили.
Старинные ходики отсчитывали последние часы января нового, тысяча девятьсот тридцать третьего года. Ходики были безотказные. Не обошелся в детстве Санька Камаев без традиционной ребячьей рогатки. Но метко стрелять из нее мог только на звук, и ходики часто служили ему отличной мишенью. Сколько раз влеплял в них гальками, а они лишь крякнут, чуть замедлят ход, отчего замрет на секунду сердце — нарушил, поди? — и снова зачакают.
Поздно вечером тетя Анна и дядя Иван запрягли в кошеву мерина, все посидели в тягостном молчании перед дорогой, расцеловали Саньку, укутали в тулуп, обложили со всех сторон сеном — мороз на дворе стоял лютый — и повезли на станцию. Санька крепился, всем говорил спасибо, всех благодарил, а в горле щипало, голос хрипел, и хотелось плакать.
Поезд пришел на станцию под утро, и всю ночь пугали, тревожили людской гомон, хлопанье дверей, непривычные запахи. Потом что-то загрохотало и зашипело за окнами, пахнуло дымом и гарью. Все бросились к выходу. На негнущихся ногах поплелся за теткой Анной и он.
Город, большой каменный дом школы, кровати, простыни, непривычные запахи от стен, новой одежды, даже от пищи подавили ранее нигде не бывавшего Саньку, захлестнули потоком впечатлений. С неделю просидел он в углу диким зверьком, и в голове было одно: привезли его в Шадринск нарочно, чтобы избавиться от лишнего рта, и больше никогда не возьмут отсюда.
Трудно, со срывами привыкал Санька к новой жизни. По ночам без конца снилась Сергуловка, дед с бабкой, друзья-приятели, но в конце концов тоска по дому, устоявшемуся укладу жизни отступила перед толстым брайлевским букварем, уроками, домашними заданиями и новыми обязанностями, в число которых входили и занятия физкультурой. Они проходили в большом зале. Он был очень высоким, этот зал. Не раз Санька и другие ребята взбирались друг на друга, чтобы пощупать потолок, и не могли до него дотянуться. Есть ли он? Должен быть, иначе давно перемерзли бы все. Успокоились после того, как сумели достать до потолка палкой…
Через полгода, в жаркий июньский полдень, радостная от встречи с племянником Анна везла Саньку со станции на каникулы. Ехать надо было через всю Сергуловку, из конца в конец, и Анна без устали рассказывала встречным, что племянник едет из города, учится там хорошо и даже в пионеры вступил. И все охали и ахали, рассматривали белую рубашку Саньки и алый галстук на ней, непривычно коротко, под полубокс, подстриженные волосы и светлую челочку.
На другой день Сергуловку облетела новая весть: Саня Камаев натирает зубы каким-то белым порошком, и для этого у него есть специальная щетка! И не наврала Анна: читает такую толстую книгу, какой не найдешь во всей Сергуловке. Считает же до ста и даже больше — как семечки щелкает!
Захлопала калитка, заскрипела дверь в избу деда Ивана. Приятели и взрослые приходили и, поговорив о том о сем, просили: «Сань, покажи, как ты зубы чистишь. А читаешь?» Недоуменно качали головами и удивлялись, что в школе слепых учат тому же, чему и в сергуловской. Саня по три-четыре раза в день чистил зубы, от корки до корки прочитал прихваченный с собой учебник для второго класса, однако радости от удивления и восторгов односельчан не было. Первое время безвылазно сидел в ранее казавшейся просторной, а теперь тесной и маленькой избе деда. Потом понемногу привык к деревенской жизни, на вопросы отвечал, что ему хорошо дома, что он всему рад, а сам считал дни, оставшиеся до первого сентября, и тянуло его в Шадринск, в школу, где всегда людно и весело и где все такие же, как он.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава вторая
Глава вторая Я очень смутно припоминаю свои занятия литературой в тот период. Не думаю, что даже тогда я воспринимала себя как писателя bonа fide. Кое-что я писала, да — книжки, рассказы. Их печатали, и я стала привыкать к тому, что могу рассчитывать на это как на надежный
Глава вторая
Глава вторая Итак, время шло, и происходящее вокруг стало представляться уже не кошмаром, а чем-то обыденным, казалось, что так было всегда. Обычным, в сущности, стало даже ожидание того, что тебя могут скоро убить, что убить могут людей, которых ты любишь больше всего на
Глава вторая
Глава вторая Один театральный вечер — премьера «Свидетеля обвинения» — особенно запечатлелся в моей памяти. С уверенностью могy сказать, что это единственная премьера, доставившая мне удовольствие.Обычно премьеры мучительны, их трудно вынести. Ходишь туда только по
Глава вторая
Глава вторая Дурно устроен календарь, – в нем мало праздников. Стивенсон Вот это годилось бы для рассказа!Грин резко обернулся, рассмеялся, разорвал карточку. Поймал себя на том, что следит за собою: оборачивается, рвет карточку. Сильно тоскует. Смотрит на шпиль
Глава вторая
Глава вторая Раздается звонок дверного колокольчика. Фрида открыла дверь. «Хозяин приехал!» — закричала она. Все стихло в доме. Артур обвел стены потускневшими серыми глазами. Рядом с ним стояла незнакомая женщина. Фрида, захваченная врасплох, взяла в руки чемодан и
Глава вторая
Глава вторая Мы развелись, но жили вместе с Машей еще несколько месяцев. Я еще больше замкнулась в себе, с Машей была немногословна, но зато мы меньше ругались. Мы по-прежнему вместе проводили время, и нас всё также все приглашали к себе в гости вроде как семейной парой. Нас
Глава вторая
Глава вторая Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли
Глава вторая
Глава вторая Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.Пасик – еланка и орешник – место буерачное и
Глава вторая
Глава вторая – Не тоскуй, касаточка, – говорил Епишка Анне. – Все перемелется в муку. Пускай говорят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожаловаться.– Ох, Епишка, хорошо только
Глава вторая
Глава вторая 1Времена меняются. Некоторые песни, прежде популярные, уходят. Дело не в их уровне, порой весьма достойном. Устарела их суть. Есть такие песни и среди тех, которые исполнял Бернес. К счастью, это вещи в его репертуаре второстепенные. Но звучит, как и звучала, его
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ …если Петербург есть посредник между Европою и Россиею, то Москва есть посредник между Петербургом и Россиею. В. Белинский АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАСЬЯНС День начался как обычно. За дверью прошаркал дежурный надзиратель Трофим Лукич, которого учащиеся
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ Федотов вместе со своим однокашником Своевым прибыл в Петербург 3 января 1834 года. На месте выполнили все положенное: представились командиру полка генерал-майору Офросимову, нанесли неофициальные (то есть без кивера и без обычного «здравия желаю») визиты
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ … и я знаю, что когда–нибудь где–то мы с Джоном всегда будем вместе. Синтия Леннон Твист, 1982 1Синтия Пауэл посвятила себя Джону со страстью религиозной фанатички. Человеку, более уверенному в себе, такое внимание могло бы быть в тягость, но Джон наслаждался.
ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…»
ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…» Страхиня-Бан Нушич к началу войны получил аттестат зрелости. Юноша, как и отец, был небольшого роста, крепкий, темпераментный. По возрасту его еще не брали в армию. Но в первые же дни войны он решил записаться в добровольческую роту,