Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля

«Ты знаешь мою проклятую беспамятливость. Подробности не удерживаются в моей голове. Между тем подробности так бывают прекрасны. Читая вещи, написанные много лет назад, я радовался, как ребенок. И с волнением жду твоих заметок о нашей прошлой жизни и событиях, послуживших поводом для стихов…»
Опять заела клавиша в машинке. Он поправил ее, задумался.
Действительно, странно устроена его голова. Из всего детства удержала лишь несколько картин. Да и то он не мог бы сказать наверняка, было это с ним самим или с кем-то другим, а он только слышал рассказы об этом. Словно черная пропасть легла между ним, нынешним, и тем мальчиком, который с бьющимся от радости сердцем степенно шагал вместе с дедом по темным улицам Ускюдара. Дед в феске, поверх халата шуба с собольим шалевым воротником. Еле-еле пробивается сквозь деревянные решетки свет из окон домов, нависающих над улицей вторыми этажами. Раскачивается впереди над головой евнуха, освещающего дорогу, разноцветный фонарь, выхватывая из темноты лужи, стволы деревьев. Башмаки вязнут в грязи, а мальчику не терпится — скорей, скорей, может, там уже начали, хотя он знает, что без деда не начнут.
Каким испытаньем детского терпенья был весь этот первый день рамазана! И не оттого, что нужно было соблюдать пост. Взрослые действительно не ели, не пили с рассвета до захода солнца. Но дед не велел мучить детей: два раза в день им выдавали в хареме — на женской половине — по чашке густого белого йогурта, кусочку козьего сыра, по нескольку маслин и жесткой лепешке, хотя ему уже было восемь и пора было приучаться к посту.
Нетерпенье снедало детей по другому поводу. За неделю до рамазана в окне табачной лавки появлялись раскрашенные фигурки из картона, над ними — арабскими буквами — имя актера, название пьесы и пожелание благополучия и счастья всем правоверным по случаю священного месяца рамазан.
Наконец наступал долгожданный день — теперь жди заката. Вечером молитва в два раза длинней, чем обычно, ну просто лопнуть можно. Кончалась, однако, и молитва, и в дверях появлялся вернувшийся из мечети дед. Закусив, они отправлялись в кофейню.
Так и подмывало пуститься бегом. Но он знал, что нужно соблюдать серьезность — ведь он шел туда, где собирались обычно лишь взрослые мужчины.
Завидев пашу, все приветствовали его, приложив ладонь ко лбу, а затем почтительно складывали руки на животе.
Для детей отводились два первых ряда. Усевшись на табуретке, он проверял, не сбилась ли набок маленькая нарядная феска с кисточкой, и больше уже не спускал глаз с экрана. Обрамленный яркими коврами экран был освещен, но еще неподвижен. Цветные орнаменты окружали изображение галеры. Блики восковых свечей за экраном играли на веслах, казалось, галера движется и вот-вот увезет с собой зрителей.
Служка разносил взрослым кофе, стеклянные наргиле. Пристроив сверху два ярких уголька, вручал деду длинную трубку — марпуч с тщательно прокипяченным мундштуком. Дым с бульканьем проходил сквозь воду в прозрачном кальяне, голова деда пряталась в сизом облаке.
Детям подавали сладкие шербеты в чашках, рахат-лукум. Они жевали, прихлебывая из чашек, но глаз от экрана не отводили. Наконец под стук барабанов галера уплывала, и раздавалась любовная песня. Это означало, что вот-вот появится на экране один из двух главных героев теневого театра — благовоспитанный, учтивый и велеречивый мещанин во дворянстве Хадживад. В остроконечной шапке, в кафтане и с огромным кисетом на поясе, он, распевая, доходил до середины экрана. Останавливался, испускал мистический вопль, а затем читал длинную газель, в которой мир сравнивался с экраном, а все сущее с зыбкими тенями. Этих стихов, исполненных грустной мистики, которым с почтением внимал Назым-паша, его внук, конечно, не понимал и с нетерпением ждал, когда начнет действовать его любимец, лукавый, придурковатый и мудрый Карагёз — Черный глаз.
Но прежде еще нужно было выслушать рифмованную речь Хадживада, благодарившего создателя за милость к теням, и его обращение с бесконечными реверансами и вежливыми отступлениями к Карагёзу, который был его соседом по кварталу. Хадживад соскучился по беседе с образованным человеком, который знает арабский и персидский языки, разбирается в науках и поэзии, — короче, с благородным и приятным человеком.
Карагёз до поры смирно сидел у себя в углу, сонно поддакивая комплиментам соседа. Но вот терпенье его истощалось; распахнув створки окна, он высовывался на улицу. Какой поток издевок, брани и насмешек выливался на голову Хадживада, разозлившего Карагёза своей болтовней!
Но гнев Карагёза быстро проходил, и они принимались судачить обо всех событиях, происшедших в квартале, в престольном граде Стамбуле, во всей империи повелителя правоверных.
Здравый смысл помогал Карагёзу быстро расправиться с велеречивой респектабельностью Хадживада и высмеять благочестивое толкование, которое тот давал всем событиям в мире теней. Остроты Карагёза подчас бывали весьма рискованными для детских ушей, равно как и для ушей султанских шпиков, хотя и вызывали громкий хохот в рядах взрослых зрителей.
Но вот звучит новая мелодия, оповещая о появлении нового героя. Это Челеби — знатный щеголь, папенькин сынок, богатый повеса.
Тут, собственно, и начинается пьеса. По мановению руки единственного актера один за другим являются на экране все новые и новые персонажи: Зенне — женщина; Тирьяки — курильщик опиума, копия Хадживада, но разочаровавшегося в жизни; Папаша Химмет — деревенский дровосек из Каста-мону; Садовник-албанец, бродячий Фокусник-еврей, Араб в бурнусе, Френк — европеец в шляпе, пройдоха и коммерсант, Заика, Гундосый, Акробаты. И наконец, Дели Бекир с сосудом вина в одной руке и кривой янычарской саблей в другой. Это лихой вымогатель и грозный хулиган-кюльханбей, одним своим появлением наводящий страх на всех, кроме Карагёза, и силой восстанавливающий в квартале мертвое спокойствие. Какая бы ни разыгрывалась Пьеса: сказание о Ферхаде, который должен прорубить Железную Гору и пустить воду в город, чтоб соединиться с красавицей Ширин, или трагикомический фарс, повествующий о похождениях заезжих мегер, которые заманивают доверчивых кавалеров, чтобы выгнать их на улицу в чем мать родила, — зрители всегда узнавали под разными именами хорошо известных им типов.
Актер теневого театра, двигавший с помощью палочек раскрашенные фигурки из верблюжьей кожи, наделял их всегда одними и теми же чертами. Происходило дело в горах или на загородной прогулке, в лавке или на площади, место действия, по сути, всегда было одно — стамбульский квартал. Именно здесь, в квартале, протекала жизнь горожанина Османской империи.
Это был свой замкнутый мир. В каждом квартале были свои кофейни, своя школа, свои фонтаны, где бедняки брали воду, своя команда пожарников, свои повивальные бабки, свои знахари и богадельни, свои водовозы и юродивые, свои богомольцы и вольнодумцы, богачи и бедняки, нищие и аристократы и, наконец, свой староста. Своя стая бродячих собак охраняла квартал от нашествия сородичей с других улиц. Стражники блюли общественный порядок, оповещая по ночам о своей неусыпности свистками, а днем постукиванием палки о камни мостовой.
Собственно говоря, квартал был религиозной общиной, объединявшейся вокруг мечети, где пастырь правоверных — имам — читал проповеди на злобу дня и по случаю религиозных праздников, объявлял и растолковывал фетвы — указы главы мусульманского духовенства империи шейх-уль-ислама. Квартал принимал участие в сиротах, заботился о приданом для бедных невест и о мужьях для перезрелых, собирал вспомоществования и увещевал провинившихся.
Но тот же квартал превращался в ад для тех, кто нарушал патриархальный кодекс чести и морали. Женщина, заподозренная в сомнительном поведении, выслеживалась всем кварталом, и, если подозрения подтверждались, ее в сопровождении глумящейся толпы вместе с поклонником всем кварталом доставляли в полицейский участок.
Высшим светским авторитетом был паша — проживавший в квартале высший гражданский или военный сановник. Его связи в придворных сферах, его состояние и положение делали мнение паши непререкаемым. Но он также был связан патриархальной моралью и для поддержания своего веса обязан был принимать участие в делах квартала и деньгами, советами и заступничеством перед сильными мира сего.
Типы и характеры, отношения и быт городского квартала — вот что изображали тени на экране.
Карагёз воплощал здравый смысл простолюдина.
Вот он разгуливает по экрану, распевая песни в честь рамазана. В руке у него фонарь, как это и предусмотрено султанским фирманом, возбранявшим честным обывателям появляться без оного на улицах после наступления темноты, дабы можно было их отличить от жуликов. Но свечи в фонаре нет. Она Карагёзу не по карману, а в султанском фирмане не сказано, что в фонаре непременно должна гореть свеча.
Мистические газели, открывавшие представление, нагоняли скуку — восьмилетний внук Назыма-паши их не понимал. Иное дело хитрости Карагёза, типы стамбульского квартала — то был его собственный мир с тех пор, как он стал себя сознавать.
Хикмет-бей жил с семьей в квартале Гёзтепе. Тут Назым-младший пошел в школу. Каждое утро школьный служка — калфа — обходил дома учеников. Постепенно увеличиваясь в числе, процессия шествовала по улицам квартала. Впереди калфа нес на длинном шесте торбочки самых маленьких, сумки с кораном, пюпитрами, завтраками. Как-то утром, толкаясь, шумя, осыпая камнями кошек и собак и в то же время сохраняя невозмутимо отсутствующее выражение лица на случай, если калфа вдруг обернется, они, как обычно, подходили к школе. И вдруг все глаза устремились в одну сторону — по тротуару вразвалку шел лихой кюльханбей Дели Осман. Говорили, что никто в целом Стамбуле не мог найти на него управы. Одет Дели Осман был щегольски: серая дымчатая феска с длинной кисточкой, кафтан из волнистой материи, отороченный лиловым бархатом, жилет с черным шитьем и двумя рядами блестящих пуговиц, брюки в обтяжку, а от колен расклешенные, как юбка, и остроносые туфли на каблучке.
Внуку Назыма-паши ничего не стоило мгновенно опознать в нем того самого Дели Бекира, что нагонял ужас на героев теневого театра, хотя в руках у Османа не было ни янычарской сабли, ни бутылки с вином.
…Дели Османа наверняка уже не было в живых — таким, как он, тридцать лет головы не сносить. Впрочем, и прежнего патриархального квартала тоже больше нет. Он канул в вечность вместе с султанами и везирами, вместе со всей Османской империей. И потянул за собой тени на экране. Нет больше на свете и театра Карагёз.
Пожалуй, пропасть, отделявшая внука паши, который в тот рамазанский вечер сидел вместе с дедом в кофейне, от нынешнего Назыма Хикмета, пролегла не в памяти, а в жизни. Да полно, была ли вообще та жизнь? Случилось ли это все с ним самим или с кем-то другим, или он вычитал это в книгах?
Вот Валя, он все помнит: что сам видел, что слышал и от кого. И так точно, что диву даешься. Валя, вместе с ним они учились в школе Гёзтепе, вместе поступили в один и тот же класс лицея Галатасарай, вместе на одном и том же пароходике возвращались по пятницам в Ускюдар, глядя на шлепающие по воде плицы. Вместе удрали в Анатолию, вместе учительствовали в Болу, писали стихи в одной и той же тетради — строка моя, строка — твоя. Вместе учились в Москве… Тот самый Валя Нуреддин, газетчик и автор детективных романов, с которым были связаны его самые лучшие дни. Это о нем в тридцать лет Назым написал, что «продает он эти дни за десять медных грошей, за пару модных сапог, за грошовое счастье, блаженную чепуху». И уверял, что не злится больше на него, ибо он ему теперь даже не враг.
Он ему действительно не враг. И все же он тогда был на него зол. Нет, не зол, оскорблен за него самого, за Валю…
Кенар залился свистом. Сидя на шестке в деревянной клетке у самой оконной решетки, птица надрывалась. Умолкала. Склонив набок голову, поглядывала на него черной пуговкой глаза. И снова заходилась.
Этого кенаря Рашид купил на свой первый заработок. Он все еще сидел в тюрьме, но, воспользовавшись законом о труде, вот уже полтора месяца под охраной жандармов ходит работать в город…
Зря он тогда был зол на Валю — каждый выбирает себе по силам. Это только в двадцать лет кажется, что силы и время неисчерпаемы. В сорок ясно знаешь пределы. Тощий, полуголодный, со слабыми легкими, сын бейрутского губернатора Валя Нуреддин! В двадцать лет у него хватало сил нести целый день на своей спине его, тяжелого, молодого, по анатолийским дорогам. А в тридцать уже недостало сил делать то, что сам считал справедливым. Нет, он не перебежал на сторону врага. Но и самим собой остаться не смог.
Вроде ехали они в одном поезде, и Валя отстал…
В одном поезде они ехали в 1922 году из Тифлиса в Москву. Лето выдалось на редкость знойное. Русские поезда на другие не похожи. Ночью спинка сиденья поднимается, и на втором этаже можно улечься спать. Да и с третьей, вещевой полки можно снять чемоданы — она широкая, как кровать. Огромная страна, вагоны рассчитаны на многодневный путь. Но в те годы спальных мест в поездах не было.
Их стиснули в купе со всех сторон. Со вторых полок свесились у них перед носом вонючие носки, чувяки. На багажной полке разместились тоже по двое, по трое. И в проходе стояли, как в трамвае.
Путешествие продолжалось одиннадцать суток. Вся страна — огромная Россия стронулась с места.
Их было пятеро турок.
Самый старший — профессор Ахмед Джевад. Лет под пятьдесят ему тогда было, не меньше. Но темперамент! Разноцветный был человек профессор Ахмед. Студентом примкнул к «младотуркам», готовившим свержение султана. Арестовали… Сослали в Триполитанию, в страшную Физанскую крепость. Он оттуда бежал, как — один аллах знает! Оказался в Европе. После «младотурецкой» революции 1908 года руководил кооперативным движением. И писал книжки для молодежи — «турки превыше всего».
К концу мировой войны, узнав, что в России свергли царя, отправился на Кавказ торговать этими книжками и коврами. Часть ковров и книжки конфисковали большевики. Профессор познакомился с турецкими коммунистами, бывшими пленными, с их главой Мустафой Субхи. И вступил в только что организовавшуюся компартию.
Что бы ни делал этот человек — торговал и проповедовал, готовился к революции или писал книги, он весь целиком отдавался делу и верил в него, как фанатики верят в аллаха. Но быстро сменял одну веру на другую.
В Батуме, в шикарном номере гостиницы «Франция», профессор соорудил себе постель из упаковочных ящиков. Положил на них молитвенный коврик и так спал. Готовился к лишениям: «Если на старости лет привыкну к комфорту, трудно будет снова привыкать к тюремным нарам».
Назым с Валей посмеивались над профессорскими чудачествами и блаженствовали на его кроватях — пружинные матрацы, пуховые одеяла. Лафа!
И вот теперь, в поезде, огладив бородку, профессор склонил голову набок, чтоб не мешали свесившиеся с верхней полки ноги, и, подмигнув Назыму, заметил:
— Ну что бы я теперь делал здесь, если бы успел в Батуме разнежиться!
Рядом с Назымом сидели Шевкет Сюрейя и его молодая жена Лееман — они познакомились и поженились в Батуме. Шевкет Сюрейя, блестящий молодой человек, приехал в Батум с головой, набитой идеями пантюркизма. Собирался нести свет братьям тюркам — татарам, азербайджанцам, казахам. Возродить империю, объединив все эти народы — от Средней Азии до Босфора. Но в Батуме тоже стал коммунистом. По крайней мере считал себя таковым.
Эта четверка двадцатилетних молодых стамбульцев составляла «социальную семью» профессора Ахмеда Джевада. Ему она и была обязана тем, что ехала теперь в Москву.
В Московском институте востоковедения потребовался преподаватель турецкого языка. Уполномоченный ЦК по Кавказу Серго Орджоникидзе предложил эту должность профессору. Тот согласился при условии, что в Москву поедет вся его «социальная семья»: ребятам надо учиться. Так они получили направление в Коммунистический университет народов Востока.
Казалось, в вагоне больше нет ни местечка. Но новая волна пассажиров нашла его — в коридорах, в тамбурах.
Назым высунулся в окно.
— И на крыши лезут… Может, нам тоже попробовать?
Профессор запротестовал. Вот выедем на русскую равнину, тогда и пробуйте, а то, чего доброго, убьетесь в туннеле или скатитесь в пропасть.
На одной из станций вылезли через окно. Впереди расстилалась ровная как скатерть степь.
— Мы будем у вас над головой. Не беспокойтесь!
Взобрались на крышу. В тогдашней России этот способ путешествовать назывался «горьковским» — в память о горьковских босяках, а может быть, его собственных скитаниях по России.
На крыше тоже было не просторно. Едва нашли место. Ложиться следовало не вдоль вагона, а поперек, иначе во сне можно скатиться. В Ростов приехали прокопченные, черные. У Назыма только белки сверкали.
В Ростове пересадка. Пока ждали поезда, исчез чемодан у Лееман. Глаз не спускали с вещей: многоопытный профессор — он знал десять языков и свободно говорил по-русски — предупредил, что Ростов славится в России ворами, вроде Неаполя в Италии или Пирея в Греции. Как им удалось стянуть чемодан, непонятно!.. Кто-то из попутчиков объяснил. У ростовских жуликов своя, мол, техника: носят пустой чемодан без дна. Ставят его на ваш, зажимают специальным устройством и у всех на глазах идут себе с вашим чемоданчиком, как со своим. Виноват, конечно, был Назым. Затеял спор о роли вождя в революции. Так увлеклись, что и не заметили, как исчез чемодан.
То, что они увидели за Ростовом, никто из них, наверное, не забудет до самой смерти. Поезд остановился на какой-то станции. Из-за штакетника, окружавшего перрон, глядели странные, марсианского вида существа: землистые, зеленоватые лица, животы, раздутые словно шары, а одежда — бог ты мой! — точно узники из камеры голых. Но тогда он еще их не видел. Глаза запавшие, расширенные — один сплошной зрачок.
Кто-то бросил на перрон арбузные корки. И десятки людей перелезли через забор, кинулись поднимать их, вырывали друг у друга из рук. То были голодающие Поволжья.
Засуха поразила юг России — словно сам господь бог сговорился с буржуями уничтожить безбожную революцию. Земля лежала твердая, растрескавшаяся — в трещины входила ладонь целиком.
…Весной 1942 года он впервые увидел, как голодные люди едят траву. Спокойно, не стыдясь и не жалуясь, словно скотина, заключенные из камеры голых, стоя на четвереньках, щипали траву на тюремном дворе… А там, под Ростовом, и травы не было.
Он не мог понять, почему сотни, тысячи голодных не бросились к поезду. Ведь он шел из сытых районов Кавказа, у каждого пассажира были корзинки, сумы с провизией, а у Ахмеда Джевада даже целый ящик сахара — профессор был не только многоопытен, но и оборотист. Что удержало голодных — дисциплина, страх? Но ведь никакой охраны в поезде не было. Или голод довел их до полного отупения?..
Он опомнился, лишь когда поезд отошел от перрона. Как мог профессор сидеть на ящике с сахаром и не отдать хоть часть своего запаса этим живым мертвецам!
Ахмед Джевад возражал: сахар, дескать, в таких количествах никого не спас бы, а он отвечает за свою «социальную семью». Логика говорила за него. Но было здесь что-то важнее логики…
В Москве Назым услышал историю, которую, как легенду, рассказывали товарищи, побывавшие в Финляндии. В 1917 году Ленин скрывался в Хельсинки под чужой фамилией. Как-то на улице он вдруг увидел, что экипаж вот-вот раздавит девочку. Ильич бросился на мостовую, выхватил ее из-под колес. Собралась толпа. Полицейский, поздравив спасителя, попросил его вместе со свидетелями проследовать в участок.
С трудом удалось избежать провала. Один из товарищей стал выговаривать: «Какой, дескать, был смысл рисковать? Погибни девочка, революция не пострадала бы, а гибель вождя могла причинить непоправимый вред».
— Вы полагаете, если руководитель партии потеряет уважение к себе, революция не пострадает? — воскликнул Ленин.
Уважение к себе. Может быть, в этом все дело?.. Валя пишет, что был недавно в гостях у профессора Ахмеда Джевада. Он вернулся в Турцию. Стал депутатом меджлиса. Работал в Обществе турецкого языка, основанном Ататюрком. Написал несколько работ по турецкой грамматике. Сейчас вышел на пенсию, живет в старом деревянном доме на азиатской стороне Босфора. Вспоминал с Валей прежние годы, и слезы текли по морщинистым, дряблым щекам профессора. Кого он оплакивал? Назыма, сидевшего в бурсской тюрьме, или себя самого, каким он был и каким не смог остаться, чтобы сохранить уважение к себе?..
Кенар Мемо давно умолк. Перебрал клювом все перышки в крыльях. И надулся.
Назым отвернулся. Перечитал письмо.
Уважение к поэзии — вот что помогло ему сохранить уважение к себе, что разделило их с Валей.
Снова застучала машинка. Старенькая, разбитая. Буква «о» плохо пробивается.
«Поговорим теперь о поэзии, о том, что ты думаешь о ней. Если употреблять так называемые возвышенные сравнения, то стать поэтом то же самое, что пуститься в колоссальное предприятие, в невиданное путешествие. Успехом завершиться оно может лишь для того, кто обладает длинным, очень длинным дыханием, на все сто убежден в правоте своих идей, любит, не зная границ и пределов, умеет сражаться и быть рассудительным, трудолюбив, как муравей, и обладает кругозором орла. Легко было стать поэтом во Франции XIX века. И очень трудно в Италии в эпоху Возрождения… Мир и наша страна переживают сейчас возрождение. Потому-то и ремесло поэта ныне так тяжело…»
И память — одна из самых тяжких гирь. Как это сказано у Яхьи Кемаля: «Мы, запрятавшись в зыбку забвенья земли, созерцаем с улыбкой творенья земли…» Память, конечно, нужна — поэт должен знать все, что было, все, что сделано до него. Но, садясь писать, нужно уметь об этом забыть. Зерно, чтобы дать росток, должно умереть.
Памятью обладает множество поэтов, а уменьем забывать, к сожалению, единицы. Между тем забвенье нужно в поэзии не меньше, чем память. Взять того же Яхью Кемаля. Старик всю жизнь смотрел на мир из памяти о прошлом. А мог бы стать не просто большим — великим поэтом, если б не прятался в зыбке забвенья, а умел терять, как большинство умеет приобретать… Учитель Яхья!..
Яхья Кемаль входил в класс быстрым шагом и, не дослушав рапорт дежурного курсанта, махал рукой — садитесь, дескать, садитесь. Раскладывал на столике книги с закладками — закладками этими, впрочем, он редко пользовался, память у него была феноменальная. Наступала пауза. Яхья Кемаль собирался с мыслями, как бы входил в атмосферу того времени, о котором собирался рассказывать, словно актер — в роль.
Если не брать в расчет феску с длинной кисточкой, его можно было бы признать за парижанина. Он одевался по последней европейской моде и не сменил костюма на униформу, когда ему присвоили чин бинбаши — майора. Хоть преподавал он в военно-морском училище, но был человек штатский — отказался от чина, лишь бы не нацеплять мундира.
Странное все-таки это было училище на острове Хейбели. Курица и лейтенант Кенан гоняли их часами, чтобы добиться оттяжки носка в прусском гусином шаге. А Яхья Кемаль, преподаватель истории, посвящал в тонкости французского символизма, хоть Франция вела войну с Империей, и мог часами комментировать одну строку султана турецкой лирики поэта Бакы.
Яхье Кемалю было тогда лет тридцать пять. В глазах его таилась меланхолическая грусть: мир, окружавший его, был невесел, стоило ли суетиться, чего-то добиваться, когда все шло прахом — Империя рушилась, и люди были уже не те, что некогда. За изысканными манерами сквозила застенчивость робкой души, ограждающей свои мечтания, игру настроений от грубого вторжения действительности. Быть может, только здесь, за кафедрой, он чувствовал себя свободно — речь шла о поэзии прошлого.
Яхья Кемаль долго жил в Париже. Говорил по-французски, как на родном языке. Он, наверно, мог бы стать французским поэтом, как стал его учитель, грек по рождению Жан Мореас. Французская литература усыновила много блудных талантов Европы. Но Яхья Кемаль вернулся в Стамбул.
Его наставник Жан Мореас считал Францию наследницей древнего Рима, пытался в стихах возродить классические традиции. Яхья Кемаль мечтал о возрождении золотой поры Османской империи. Лишь в прошлом видел он опору, способную остановить нынешний распад: не забыть прошлое, а воскресить его. Там, в прошлом, была героика, европейские крепости склоняли головы к копытам султанской конницы, там были янычарская преданность, искренняя вера.
Яхья Кемаль писал стихи арузом. Эта система стихосложения, господствовавшая в придворной поэзии, досталась туркам в наследство от арабов и персов. Она была основана на чередовании долгих и кратких гласных. Но в турецком языке гласные не различаются по долготе.
Предшественники Яхьи Кемаля да и многие его современники насыщали поэтому свои стихи арабскими и персидскими словами. Этого требовали и аруз и высокий стиль. Турецкая лексика считалась недостойной поэтической речи.
Яхья Кемаль был выдающимся мастером. Изощренный в выборе слова, он доказал, что можно писать арузом и по-турецки. Он был, пожалуй, последним настоящим поэтом классической традиции. Но как поэт истинный, он приоткрывал для турецкой поэзии и новые пути. Он стал одним из тех поэтов, благодаря которым турецкая поэзия овладела разными системами стихосложения.
С некоторых пор Назым из Салоник стал замечать на себе внимательный взгляд учителя. Яхья Кемаль явно благоволил к нему.
У этого круглолицего четырнадцатилетнего мальчика было совсем не детское воображение. В своих ответах он наделял исторические фигуры живым характером, словно речь шла не о людях, умерших столетия назад, а о ком-то из знакомых.
К тому же Яхья Кемаль хорошо знал его деда — поэта Назыма-пашу. Бывал и в доме Хикмета-бея.
Как-то он пригласил Назыма к себе, благо тоже жил на азиатской стороне Босфора. Выпили по чашечке кофе. Яхья Кемаль показал Назыму свою библиотеку. Там были интересные вещи — древние рукописные сборники стихов — диваны, миниатюры.
Сели за шахматы. Поэт с тонкой улыбкой сравнил сраженье пешек на доске с баталией. Назым разволновался, стал рассуждать о героической защите Дарданелл от англичан: при Дарданеллах погиб его любимый дядя Мехмед Али. И, увлекшись, проиграл партию.
— Сознайтесь, дорогой, вы пишете стихи. Прочтите что-нибудь!
Назым глянул на учителя не то с радостью, не то с сомнением. Как он был похож на свою мать! Особенно верхней частью лица. Глаза — синие-синие, совсем как у Джелиле-ханым. Эта женщина поразила Яхью Кемаля своей красотой, быть может, не меньше, чем свободой, с которой высказывала свое мнение среди мужчин, в присутствии мужа.
Когда через два года Джелиле-ханым разошлась с мужем, Яхья Кемаль стал частым гостем в доме. Он даже сделал было ей предложение.
Назым, узнав об этом, пришел в ярость. Он обожал мать, ревновал ее к целому свету.
Яхья Кемаль, испуганный неожиданным гневом ученика, даже перебрался в другой район, снял комнату в особняке Сервета-паши, лишь бы не попадаться на глаза Назыму.
Женитьба не состоялась по другой причине. Не желая надевать мундира, поэт отказался от майорского звания. А на учительское жалованье семьи не прокормить. Так по крайней мере написал Яхья Кемаль Джелиле-ханым, покорнейше прося у нее прощенья.
Джелиле-ханым уехала совершенствоваться в живописи во Францию, а Яхья Кемаль до конца дней остался холостяком. Но все это случилось поздней.
…Назым читал стихи о кошке. Он сравнивал ее шаг с мягкостью пуха, быстроту — с выстрелом.
Яхья Кемаль смотрел в окно, на паруса яхт, выплывавшие из-за полуострова Мода, на идущие по Босфору пароходы.
— Скажите, вы не могли бы показать мне эту кошку? — вдруг спросил он.
Назыму стало неловко — с чего это ему взбрело в голову читать прославленному поэту этакие пустяки? Но было уже поздно.
Через несколько дней он принес кошку своей сестры Самие, послужившую ему источником вдохновения. То было жалкое, облезлое созданье с надорванным ухом и свалявшейся шерстью.
— Великолепно! — воскликнул Яхья Кемаль. — Ваше воображение достойно самого Бакы. Если вы не возражаете, я буду с вами заниматься особо…
Вскоре в одном из лучших литературных журналов, «Ени меджмуа», появилось стихотворение Назыма. Он сочинил его, гуляя в кипарисовой роще на кладбище Караджаахмед, неподалеку от дома.
С кипарисом связано представление о смерти. Не только на кладбище — у одинокой могилы в горах или при дороге принято сажать это дерево, как минарет устремленное в небо. Впрочем, может быть, наоборот, минареты стали строить, подражая кипарису.
Я услыхал под кипарисом стон.
Неужто здесь рыдают люди тоже?
Иль одинокий ветер, это он
Погибшую любовь оплакивал, быть может?
Я так надеялся, что хоть в объятьях тьмы
Влюбленные глаза с улыбкою смежают.
Неужто те, кто умер от любви,
И здесь, под кипарисами, рыдают?
Злые языки утверждали, что стихотворение написал Яхья Кемаль, но, желая доставить удовольствие Джелиле-ханым, подписал именем ее сына. Откуда было знать злым языкам, что у мальчика был к тому времени кое-какой поэтический опыт?..
…Во время очередного пожара, когда Назыму было лет семь, огонь подошел к их кварталу. Пожары в начале века были в Стамбуле страшным бедствием. Занявшись в одном квартале, огонь угрожал целым районам. Дома были сплошь деревянные, противопожарные средства состояли из помп — их с криком и гиканьем бегом несли на плечах к месту пожара квартальные команды. Метались ошалевшие люди — плачущие женщины и дети, старики с вылезшими из орбит глазами. Стражники, квартальные, пожарники, водовозы таскали воду в кожаных бурдюках, с трудом пробираясь через толпы погорельцев, зевак и любителей легкой поживы. Визжали собаки. Слуги, расстелив мокрые ковры на крышах особняков, чтобы падавшие с неба горящие головни не подожгли кровли, беспрерывно творили молитву.
При виде этой картины Назым прокричал: «Шумит, гремит, горит, горит!»
Стремглав ворвался в комнату тетушки Сары-ханым.
Шумит, гремит, горит, горит!
Хватает красными руками
Старух и маленьких детей
Огонь, грабитель и злодей!
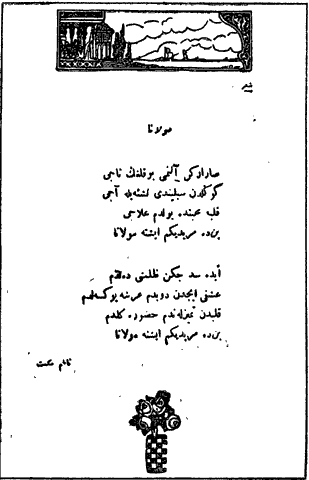
Стихотворение Назыма Хикмета «Мевляна» в сборнике Дж. Сахира, 1919 г.
С той поры стоило Назыму разволноваться — он был легко возбудим, говорил во весь голос, вскакивал, бегал по комнате, размахивая руками, — домашние подтрунивали:
— Шумит, гремит, горит, горит!..
…Но, даже зная его детские опыты, все же трудно поверить, что четырнадцатилетний мальчик мог всерьез испытывать чувства, выраженные в стихотворении «Кипарисы». Старческая грусть и разочарованность выдавали влиянье Яхьи Кемаля.
Сплетники, отлично разбираясь, кто в кого влюблен, мало понимали, однако, в поэзии. Стихотворение было написано силлабическим размером, свойственным народной поэзии. Яхья Кемаль им не писал. Его поэтический взгляд всю жизнь был прикован к великолепию классической поры турецкой поэзии.
То было великое наследие. Но зерно должно умереть, чтобы дать плоды.
Забыть то, что нуждается в забвении, уметь терять и не жалеть о том — лучшее у нас всегда впереди, — для этого мало быть большим стихотворцем. Нужно еще иметь мужество и силу.
Забвенье тоже революционная сила. Память, приобретения часто становятся кандалами на ногах.
…«И все же, дорогой мой Валя, очень горько было узнать, что Яхья Кемаль неизлечимо болен. Я лично в том, что касается техники и построения строки, — многим ему обязан…»
Отступление
В 1950 году тяжело больной Назым Хикмет объявил в тюрьме голодовку. У него не оставалось иной возможности отстаивать справедливость, как снова поставить на карту свою жизнь. Власти перевезли его из Бурсы в Стамбул, в тюремный госпиталь.
В Стамбуле стояла весна. Отцветал миндаль. Яркое солнце било в зарешеченные окна ветхого, почерневшего от времени деревянного дома. Рассохшаяся дверь со скрипом отворилась, и на ступеньки, ощупывая дорогу палкой, вышла старая женщина. Некогда прекрасные глаза ее заволакивала надвигающаяся слепота. Медленно направилась она к пристани, села на пароход и переправилась на европейский берег Босфора.
Ее поджидали здесь двое мужчин. Один, пожилой, держал под мышкой кусок фанеры, другой, помоложе, — длинную палку. Только что окончился рабочий день, на улицах было полно народу.
Пожилой взял палку, насадил на нее, как на древко, фанерный лист. Старая женщина высвободила из-под платка руку, взяла плакат и оперлась на него.
«Несправедливо осужденный мой сын Назым Хикмет объявил голодовку. Я присоединяюсь к нему. Кто хочет спасти нас, подписывайтесь под петицией».
Джелиле-ханым, это была она, вышла спасать сына.
Ее пример имел неожиданный отклик. Десятки женщин — преподавательницы, врачи, студентки, даже светские дамы — стали обходить дом за домом, стучаться в квартиры всех сколько-нибудь известных художников, журналистов, писателей, политических и общественных деятелей, собирая подписи под требованием освободить Назыма Хикмета. Постучали они и в дом Яхьи Кемаля.
Тому было уже под семьдесят. За эти годы он не раз был депутатом. Побывал послом в Польше, Испании, Пакистане. На конкурсе, организованном правящей партией, был признан лучшим поэтом Турции. Короче говоря, его слово значило много.
Назым был сыном женщины, которую он когда-то любил. Мало того, Назым был его учеником.
Как-то в тридцать шестом году они встретились на улице Бабыали, где помещаются редакции всех стамбульских газет и журналов, издательства и книготорговые склады.
Назым только что опубликовал «Поэму о Бедреддине Симави», где впервые обратился к османскому средневековью. Но не для того, чтобы воспеть величие Империи, а чтобы воскресить еретика, повешенного пятьсот лет назад по повелению султана Мехмеда Челеби, воскресить тысячи его последователей, распятых, посаженных на кол за то, что они восстали против султана и его вассалов, создали свое государство, осмелились утверждать всеобщее равенство людей и религий, обобществили земли и имущества.
Радовал взор пестрый узор Бурсы шелков на тахте.
Блистали лазурью, как сад голубой, изразцы
из кютахской глазури.
Вина в кувшинах из серебра были.
Горы добра были.
Брата родного Мусу тетивой задушив,
братскою кровью в тазу золотом омовенье свершив,
владыкой султан Челеби Мехмед был.
Но в стране, где правят Османы,
ветер бесплодием веял, песней смерти, предвестником бед был,
тот, кто пахал и сеял, разут и раздет был,
вотчиной бея — глаз его свет был,
пот его лба — богача зиамет[11] был.
Стон безземельных людей и безлюдной земли тяжким,
как бред, был.
Это была совсем иная Империя, чем та, которую воспевал Яхья Кемаль. Но стихи привели его в восторг. Назым написал часть поэмы арузом, притом таким размером, который был неизвестен учителю и, очевидно, восходил к седой старине.
— Где ты отыскал этот размер? — спросил Яхья Кемаль.
— Не отыскивал. Сам изобрел — стилизовал под стариков, — ответил Назым.
Яхья Кемаль не поверил, решил, что ученик не хочет раскрыть секрета. Это была их последняя встреча.
…Через два года после смерти Назыма Хикмета мы вместе с башкирским поэтом Мустаем Каримом пришли в дом № 12 по улице Джем в Стамбуле, в гости к Вале Нуреддину. Он был болен раком легких, едва оправился после операции. Вспоминал Москву двадцатых годов, Страстную площадь, Университет народов Востока. Полузабытые русские слова «костер», «приказ», «собрание», «ячейка» всплывали в его памяти отголосками тех далеких лет.
Он был нам рад. Но вдруг делался сосредоточенно-рассеянным — глаза за стеклами очков глядели куда-то внутрь себя. Жизнь подходила к концу. И, оглядываясь на свою молодость, он словно вел с самим собой какой-то очень важный для себя разговор.
На стене висела картина, нарисованная на стекле Назымом Хикметом в бурсской тюрьме: забранное решеткой оконце, за оконцем угол тюремной стены и, словно кусок тряпки, небо, а на подоконнике круглый горшок с цветком на слабой, изогнутой ножке. «Гвоздика надежды», которую поэт растил долгие тринадцать тюремных лет.
Назым Хикмет пришел сюда, в эту квартиру, к Вале Нуреддину прямо из тюрьмы. Здесь, в этом самом квартале, четырнадцатилетним мальчиком читал Яхье Кемалю стихи о кошке.
Вспоминает Валя Нуреддин
— Яхья Кемаль был для нас, юношей, непререкаемым авторитетом, — говорил Валя Нуреддин. — «Яхья Кемаль сказал то-то и то-то… Яхья Кемаль говорит то-то и то-то». Маэстро сочувствовал национально-освободительному движению, которое началось в Анатолии. Но считал, что в стихах не место политической злобе дня. При всем уважении к нему Назым, обуреваемый в ту пору чувством оскорбленной национальной гордости, не мог с ним согласиться. Да и не таков был характер у Назыма — слово у него непременно влекло за собой дело. Когда Яхья Кемаль был послом в Испании, я сотрудничал в газете «Акшам». По заданию газеты я долгое время провел в Париже. Здесь я получил письмо от Яхьи Кемаля — он приглашал к себе в Испанию. В Мадриде, в отеле, где я остановился, полиция произвела у меня обыск, конфисковала все бумаги — как же, я ведь учился когда-то в Москве! С трудом удалось Яхье Кемалю выручить мои рукописи… Он был чрезвычайно мнителен. Ему казалось, что на родине у него масса врагов и что стоит ему вернуться, как его сотрут в порошок. «Что будет, если я не вернусь?» — спрашивал он то и дело. Я пытался успокоить учителя. Послал в газету несколько статей о нем, его творчестве, о его работе в Испании. Маэстро счел меня чуть ли не героем…
Валя Нуреддин отошел к столу. Порылся в папках, достал фотографию Яхьи Кемаля. Подпись на обороте гласила: «Вале Нуреддину в знак восхищения его человечностью, благородством, просвещенностью и беспримерным вкусом. Яхья Кемаль».
Глядя на нас из-под толстых стекол, Валя Нуреддин строго продолжал:
— Маэстро зря приписал мне столько достоинств, я ими не обладаю… В 1950 году я попросил передать ему: пусть он не приходит на мои похороны, а я не приду на его. Я имел на это право, данное мне долголетней дружбой и нашими отношениями в Испании… Яхья Кемаль отказался подписать требование об освобождении Назыма, под которым поставили свои подписи многие журналисты, писатели, профессора, не знавшие Назыма лично. И не потому, что в отличие от них Яхья Кемаль не желал освобождения Назыма. Он поддался общей атмосфере позорных идейных преследований…
…Яхья Кемаль похоронен на европейском берегу Босфора в Румели-Хисаре. Каменный столбик венчает надгробие из белоснежного мрамора. Тишина. Нечасто заглядывают сюда посетители. Ветер чуть колышет листву вечнозеленых лавров.
И идут по Босфору суда: рыбацкие шлюпы, огромные океанские лайнеры, танкеры.
Один из них, подходя к Стамбулу, здесь, в самом узком месте Босфора, дает протяжный гудок. На высоком серо-стальном борту ясно видно его имя: «Назым Хикмет».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 4 ЯПОНИЯ СМОТРИТ НА СЕВЕР И ЮГ
Глава 4 ЯПОНИЯ СМОТРИТ НА СЕВЕР И ЮГ На следующее утро мне убедительно напомнили о силе японской полиции и о моей изолированности в Дзуси. Это произошло очень рано, около половины седьмого утра. В мою спальню ворвалась девушка Лето, она была явно возбуждена, хотя и
«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар…»
«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар…» Через три дня после взятия города, 23 февраля 1920 года, Леоновы, согласно приказу Временного комитета, явились на регистрацию бывших белых офицеров и военных чиновников. Девятнадцатилетнего Леонида отпустили, а Максим
Глава 2. Дуг Талер «В которой бывший менеджер “Motley Crue” со всей ответственностью и точностью вспоминает хронику жестокой мести, которую большая шестерёнка обрушила на наших героев»
Глава 2. Дуг Талер «В которой бывший менеджер “Motley Crue” со всей ответственностью и точностью вспоминает хронику жестокой мести, которую большая шестерёнка обрушила на наших героев» Ронни Джэймс Дио (Ronnie James Dio) изменил мою жизнь дважды. В первый раз, когда я закончил
Глава 11. Скотт Хамфри «Короткая беседа, в которой столь обсуждаемый продюсер высказывается от своего имени»
Глава 11. Скотт Хамфри «Короткая беседа, в которой столь обсуждаемый продюсер высказывается от своего имени» Каковы были твои первые впечатления от работы с группой?Они, знаешь ли, очень уникальные люди. Сначала было круто работать с ними, потому что это всегда было
«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар…»
«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар…» Через три дня после взятия города, 23 февраля 1920 года, Леоновы, согласно приказу Временного Комитета, явились на регистрацию бывших белых офицеров и военных чиновников. Девятнадцатилетнего Леонида отпустили, а Максим
ГЛАВА IV, в которой дано представление о том, насколько в управлении государством необходима прозорливость
ГЛАВА IV, в которой дано представление о том, насколько в управлении государством необходима прозорливость Ничто так необходимо для управления государством, как прозорливость, ибо с её помощью можно легко предотвратить многие бедствия, избавиться от которых, когда они
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции Сиреневые сумерки стерли очертания теней. За окном на голом, как
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре В то утро он с трудом дождался, когда откроют двери камер. И бросился со всех
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум Желтое, налитое соками близкой осени утро предвещало томительно-душный, тягучий
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви
Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви В Зеленой Бурсе, провинциальном городке в центре благословенного края, есть на что посмотреть приезжему человеку. Зеленым зовут этот город не потому лишь, что весь он стоит в зелени — оливковые и
Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля
Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля Ночь. Тополя во дворе уже голые. Ветер стих. Но тени ветвей, переплетаясь с тенями решеток, еще колышутся на белом потолке, и от этого изученные до отвращения
Глава последняя. Заключенный выходит из тюрьмы
Глава последняя. Заключенный выходит из тюрьмы Все ближе разлука, для всех — непременная. Прощай же, земля моя! Здравствуй, вселенная! Назым Хикмет В этот раз он не поднимался почти три месяца. И снова мать даровала ему жизнь.Она приехала в Бурсу в октябре 1949 года. И
Первая дружба с мальчиком: «Я им очарован! Я готов целовать землю, по которой он ходил»
Первая дружба с мальчиком: «Я им очарован! Я готов целовать землю, по которой он ходил» В старшем классе учился мальчик Кристофер Морком. Впервые Алан его заметил еще в 1927 году и поразился тому, что Кристофер был невероятно низкорослым для своего возраста. Знакомство
О фотографии Глава V, в которой Грейс смотрит на мир глазами счастливого фотолюбителя
О фотографии Глава V, в которой Грейс смотрит на мир глазами счастливого фотолюбителя В семидесятые годы поездки для сотрудников модных журналов были настоящей роскошью. Я их обожала. Когда я жила в Уэльсе, у меня не было возможности путешествовать, и окружающий мир я