8 СМЯТЕНИЕ В УМАХ ОТЕЧЕСТВА
8
СМЯТЕНИЕ В УМАХ ОТЕЧЕСТВА
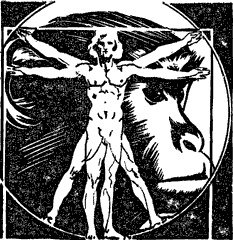
Небывалый шквал насмешек, издевок, ненависти, восторга, профессиональной зависти бушевал вокруг «Происхождения видов», а Дарвин был далеко, в сонной глуши Илкли, на лечебных водах. Он не откликнулся ни единым словом, да и не в его обычае было отвечать на удары. С течением лет кротость его стала легендарной. Светлоокий, сказочно пышнобородый мудрец, осененный покоем всеведения, исполненный непостижимой отрешенности, — это миф, подсказанный словоохотливому веку романтической кистью портретиста да затянувшимся молчанием газет. Даже после смерти Дарвина иные из его биографов, не считаясь с такими свидетельствами, как изданные письма, упорно воссоздавали его облик по преданиям и по содеянному. «У великого мыслителя, — пишет Дж. Т. Беттани, — заботливого главы семейства, отягощенного бременем новых дум и наблюдений и постоянным совершенствованием своего заветного труда, не было ни досуга для полемики, ни склонности к ней». К полемике, пожалуй, не было, зато почти ко всем иным видам противоборства — была.
Дарвин отличался и большой чувствительностью, и изрядным интересом к мнениям других. Похвала его окрыляла, хула повергала в сомнение и подавленность либо обрекала на муки негодования и бессонницы. Образность языка выдает силу его чувства. Так, когда один из ученых собратьев бросил его на растерзание богословам, он шутливо пожалел себя, изливаясь Гукеру: «Нет, сам он ни в коем случае не предаст меня сожжению, он только приготовит дрова и научит черных псов, как меня поймать».
Превыше всего Дарвин был человек увлеченный — спортсмен, человеколюб, собиратель редкостных и удивительных жуков. Одним из увлечений его были факты; страсть к фактам, побуждая к действию могучий ум и неугомонную настойчивость, переросла в страсть к истине. Об отрешенности Дарвина можно скорей говорить, имея в виду его профессию, а не его темперамент. Сэмюэл Батлер был в какой-то мере прав, характеризуя его. Гораздо более прямой и открытый по натуре, Дарвин тем не менее действительно походил на Гладстона, сочетая в себе довольно-таки изощренный эгоизм и относительную невзыскательность. Ни Дарвин, ни Гладстон, какими мы их знаем, не были хладнокровными наблюдателями, которые видят все со стороны и ничего не прощают. Сущность Дарвина больше определяется самозабвенной преданностью, а не отрешенностью, теплотой, а не холодным прозрением.
По правде говоря, он уже не один месяц думал о том, как будет принята его книга. Он видел перед собой пример Ляйелла. Подобно Ляйеллу, он избегал прямой полемики и в своих высказываниях был верен английскому искусству сдержанности и корректности. Однако его книга в отличие от книги Ляйелла была потрясением основ. У него были причины опасаться самого решительного противодействия. В целом его борьба имела гораздо более личный характер, проводилась и тщательней и искусней — любопытное сочетание хладнокровного обдумывания и невольных уловок. Он заранее решил, что его труду ничто не угрожает, если удастся привлечь на свою сторону трех судей: Ляйелла, Гукера и Гексли. Трудно было сделать более точный выбор. И не в том дело, что это, как часто утверждают, были три величайших авторитета, каждый в своей области, связанной с проблемой видов (любому из них не уступил бы в известности тот же Оуэн), а в том, что это были люди гуманные, честные и дальновидные — прирожденные вожди, способные, однажды поверив во что-то, обратить в свою веру и других. К ноябрю 1859 года Дарвин сумел убедить Гукера и заставил Ляйелла сделать большой шаг на его коротком пути к эволюции. Это были победы не только научного, но и личного порядка. Нельзя забывать, что Дарвин был человек большого обаяния, с удивительной способностью увлекать других собственными делами и идеями.
Оставался Гексли. Случай был, надо сказать, тонкий. Дарвин понимал, как умен, ловок и бесстрашен этот молодой человек. Такой может быть опасным врагом, но еще более опасным союзником.
Каково было в то время его отношение к вопросу о видах? Трудно объяснить, отчего не все даровитые ученые стали к середине XIX века приверженцами эволюции; трудней, чем сказать, отчего несколько ученых стали ее приверженцами. Конечно, никому не хочется признать, что ледник движется, пока он сам не может показать наглядно, как это происходит. Но почему Гексли, с его огромными познаниями, его быстрым прозорливым умом, дерзкой мыслью и презрением к традициям, — почему он не занялся этой великой проблемой? Самый блестящий из его трудов был нацелен прямо на нее. Он ведь тоже читал и Ламарка, и Чеймберса, и Ляйелла. На самом деле позиция его была характерна. Он отказался от своей веры в божественное сотворение мира, но эволюцию принять не мог. Обсуждая этот вопрос со Спенсером, он настаивал, что нет достаточных доказательств эволюции. Ни одна теория не может удовлетворительно объяснить все явления. А потому он до поры до времени укрылся в t?tige Skepsis[98], по Гёте, и ждал, как будут разворачиваться события, но с таким чувством, что, может быть, в конце концов истина окажется все же в эволюции.
Эта неопределенность и раздвоенность во взглядах живо ощущается в неопубликованном его письме, написанном 25 июня 1853 года сэру Чарлзу Ляйеллу. «Наличие строгих и определенных границ между видами, родами и более крупными группами, — пишет он, — в моем представлении вполне вяжется с теорией трансмутаций. Иными словами, я полагаю, что превращения могут совершаться без переходов». Дальше он поясняет, что имеет в виду аналогию с химическими соединениями, которые внезапно и существенно меняют свойства, когда прибавляется или отнимается один-единственный атом. Вслед за этим он переходит к дотошному рассмотрению данных и, не обнаружив в них убедительных доказательств, ставит вопрос, имеющий самое прямое отношение как к эволюции, так и вообще к позиции ученого в науке: «Сколько понадобилось бы Вам доказательств, чтобы поверить, что было время, когда камни падали снизу вверх?..»
«А между тем, — продолжает он, — эта трудность ничто в сравнении с теми, которые нужно побороть, чтобы поверить, что сложные, живые существа сами себя создали (ибо именно к этому на языке науки сводится творческий акт) из неорганической материи».
Его заключение дальновидно и вместе с тем осторожно.
«Я никоим образом не предполагаю ни что гипотеза о трансмутации доказана, ни что-либо иное в этом духе, — но я рассматриваю ее как могучее орудие исследования… Надо только довериться ей, а она уж выведет нас куда-нибудь, меж тем как другая точка зрения ничем не отличается от перепевов на тему последних причин…
Я хотел бы также настойчиво обратить Ваше внимание на то, что это крайне важный шаг в развитии униформизма, и, сделав его, мы пришли бы гармонии между палеонтологией и геологией земной поверхности».
Так отчего же Гексли сам не последовал собственным превосходным советам? Очевидно, он был вовсе не так благожелательно настроен к эволюции, как ему казалось. Он чрезвычайно враждебно отнёсся к чеймберсовским «Следам естественной истории творения», написал на них единственный отзыв, который сам признал слишком резким, а «Начала» Ляйелла, несмотря на только что приведенное здесь письмо, по-видимому, не произвели на него особого впечатления, хотя последовательные изменения в геологии показаны в этой книге с тем вниманием к фактам и тем здравомыслием, какими он в особенности восхищался. Перечитывая «Начала» почти тридцать лет спустя, Гексли поразился, обнаружив, до чего все в них наводит на мысль о дарвинизме. Когда человек недюжинных способностей не замечает очевидного, это обычно имеет глубокие корни. Ярым противником эволюции был его учитель Джонс, оказавший на него такое влияние в молодые годы. Тот же Джонс привил своему юному ученику собственную склонность смотреть на вещи скептически, и у Гексли, с его высокими нравственными устоями, эта склонность переродилась в нечто близкое к духовному аскетизму. С пуританской суровостью противился он обольщениям и соблазнам новых идей, хотя был к ним весьма неравнодушен. Воздерживаться от домыслов, стоять лишь на том, что абсолютно доказано, браться за самые скромные, самые будничные задачи — в этом был не только здравый смысл, но и высокий нравственный идеал. Быть может, не кого иного, как своего друга Гексли, имел в виду Дарвин, когда спустя много лет писал:
«Я не очень подвержен скептицизму — подобное настроение ума, как я склонен судить, вредит успехам науки. Для ученого желательна известная доля скептицизма, дабы избежать напрасной потери времени, но мне нередко встречались люди, которых это удержало от опытов или наблюдений, способных принести косвенную или прямую пользу».
Возможно, дело не только в том, что Гексли холодно относился к идеям широкого масштаба, — ему еще было недосуг ими заняться. Он тратил больше времени на то, чтобы «не отставать от них», нежели на то, чтобы их вынашивать. К тому же он уже столько наслушался споров о видах — и таких беспочвенных споров, что предмет этот, по его собственным словам, донельзя ему наскучил. Деятельным, знающим людям вроде Гексли нередко скучны назревшие и гигантские проблемы; их должны решать терпеливые, смиренные люди вроде Дарвина.
Возможно также, что идея эволюционных сдвигов, заключающая в себе тенденцию смазывать очертания и разрушать четкие границы, была несозвучна резкой определенности мышления Гексли. Не случайно его так воодушевила идея архетипа в сравнительной анатомии. В сущности, по складу ума в нем было нечто родственное не только Платону, но и мыслителям XVIII века. Это заметно в его пристрастии к Беркли[99]и Юму[100], его пронизанном духом отрицания здравомыслии, его бескровном и малоподвижном рационализме, его обыкновении объяснять явления живой природы аналогиями, почерпнутыми из механики.
История его приобщения к эволюции — это, во всяком случае частично, история его крепнущей дружбы с Дарвином. Никогда, ни в ранние, ни в зрелые годы, он не был простым почитателем чужих доблестей, но всегда оставался независим, всегда настроен критически… Оценивая безжалостным глазом честолюбивого новичка наиболее выдающихся биологов, он в 1851 году писал: «Из Дарвина могло бы получиться нечто значительное, но лишь при хорошем здоровье». Позднее, но тоже в 50-х годах, они сошлись ближе, и Гексли несколько поколебался в своих убеждениях. «Когда на той неделе у Дарвина собрались Гексли, Гукер и Уолластон[101], — писал Ляйелл в 1856 году сэру Чарлзу Бенбери, — они (все четверо) скрестили копья из-за видов и зашли, мне кажется, дальше, чем каждый решился бы по зрелом размышлении».
По-видимому, Дарвин старался не столько просветить, сколько подготовить Гексли. Он понимал, что, если будет слишком откровенно делиться с ним своими идеями, молодой коллега способен затеять вокруг них безудержную полемику, прежде чем можно будет ввести в дело «Происхождение видов» с его броней непробиваемых фактов и тяжелыми орудиями веских доводов. Конечно, 1 июля 1858 года Гексли присутствовал на заседании Линнеевского общества, где были доложены две знаменитые работы, но и тогда волнение его было отчасти поверхностным. «Уоллес дал толчок, и Дарвин, кажется, разошелся не на шутку, — писал он в сентябре Гукеру, — я рад слышать, что мы наконец по-настоящему познакомимся с его взглядами. Предвижу свершение великой революции».
Но если идеи Дарвина не удивили Гексли, книга Дарвина потрясла его до глубины души. Кстати, она поразила даже Ляйелла и Гукера, хотя они-то, можно сказать, наблюдали, как она создавалась изо дня в день. Мысль об отборе изменений в ходе борьбы за существование была общим местом викторианской философии, едва ли способным показаться блистательной находкой умному человеку в разговоре или кратком обобщении. В «Происхождении» же эта мысль обрела величие благодаря беспредельной изобретательности, мужеству или даже отчаянной отваге, и сверхъестественной целеустремленности, с какой она применяется к огромному количеству фактов и проблем; ибо величие самого Дарвина отчасти в том и состояло, что он — по-своему осторожно, по-своему прозаично — сумел безоговорочно и до конца принять свою участь первооткрывателя. Гексли отложил книгу в сторону со смешанным чувством благоговения и досады.
— Не додуматься до этого — какая же неимоверная глупость с моей стороны! — вскричал он.
А между тем «это» объясняло почти что все. Оно предоставляло ту самую рабочую гипотезу, которой не хватало Гексли. «С тех пор как девять лет тому назад я прочел статьи Карла Бэра[102], — писал он Дарвину, — ни одна работа по естественной истории не производила на меня такого громадного впечатления». С течением лет Дарвин вырос в его глазах еще больше. Вот уже Бэра сменил Гарвей, Коперник, а там и Исаак Ньютон…
Как только у Гексли спала с глаз пелена скептицизма и он покончил с немногими заблуждениями бюффоновского или ламарковского толка, он с обычной для него быстротой схватил сущность новых идей и новых фактов, сразу увидев такие проблемы и такие их следствия, которые вряд ли когда-нибудь приходили в голову самому Дарвину. Даже не прочитав еще «Происхождения», он понял, что теория естественного отбора будет неполной без теории, объясняющей причины изменчивости. Все еще размышляя над «превращениями без переходов», он, как впоследствии де Фриз, почувствовал, что со многими трудностями, такими, скажем, как отсутствие переходных форм, будет легче справиться, если в основу эволюции положить не столько мелкие изменения, сколько крупные и внезапные — короче говоря, мутации. В чем-то предвосхищая Менделя, он видел также, что мутациям, как и вообще явлениям наследственности, можно найти объяснение, исходя из представлений о дискретных единичных факторах. Он осознал и то, к чему Дарвин пришел лишь позднее: эволюция не обязательно подразумевает прогресс; развивая это положение в одной из ранних своих лекций, «О постоянных типах», он до того еще, как «Происхождение» было напечатано, уже ответил на одно из возможных возражений. С другой стороны, он настойчиво утверждал, что искусственный отбор не доказывает существования отбора естественного. Строго говоря, Дарвин не доказал, что естественный отбор действительно происходит — скорей, что он должен происходить. Великая заслуга его, по мнению Гексли, состояла в том, что он дал простую и удобную рабочую гипотезу для решения важнейших проблем биологической науки, причем такую гипотезу, которая не нарушала ляйелловского принципа униформизма. Беспристрастным наблюдателям следовало подвергнуть ее самому серьезному рассмотрению с позиций «деятельного скепсиса».
Но, несмотря на весь свой скепсис, Гексли быстро развил бурную деятельность. Уже в 1858 году он начал проявлять признаки воинственности, выдавая эволюцию на пробу в лекционных залах и заключая свои письма зловещими постскриптумами. Когда «Происхождение» вышло в свет, он сразу же понял, какая вокруг него разыграется битва. «Надеюсь, — писал он Дарвину, — Вы ни в коем случае не позволите себе негодовать или огорчаться из-за всех наветов и передержек, какие, если я только не ошибаюсь, теперь на Вас посыплются». И в конце письма прибавил: «Я уже точу свои когти и клюв, чтобы быть наготове». За полгода до этого подобное заявление могло встревожить Дарвина не меньше, чем встревожило бы его противников, но теперь, после той травли, которой он подвергся, даже в этом беззлобном человеке закипал гнев.
Да, Англия перезрела как осенний плод, и все-таки к «Происхождению» она была ужасающе неподготовлена. Оно повергло умы отечества в смятение, как призрак Банко — Макбета. «Происхождение» с неизбежностью протягивало нить аналогии от природы к человеку и сделалось своего рода антибиблией. И подобно тому как библия столько лет считалась трактатом по биологии и геологии, так «Происхождение» сделалось трактатом религиозным и этическим, а со временем также политическим и социологическим. Сами ученые не знали, как на него отвечать — то ли с позиций науки, то ли с позиций богословия, — и нередко в совершенном неистовстве высказывали самые непоследовательные и противоречивые суждения. Редко случалось научному бесстрастию подвергаться столь суровому испытанию и столь бесславно из него выходить. То вдруг какой-нибудь зоолог объявлял, что готов прочесть эту книгу, но ни за что ей не поверит. То восторженный этнограф кричал, что в ней нельзя изменить ни одного слова, но ни единого нельзя и принять. «Ляйелл, — писал Гукер, — положительно не в силах от нее оторваться». И однако, тот же Ляйелл жалобно упрашивал Дарвина ввести в книгу хоть самую капельку промысла божьего, хоть «крупицу пророческой благодати». Юэл писал, что эта книга слишком внушительна, чтобы критиковать ее поверхностно, однако не разрешил, чтобы хоть один ее экземпляр хранился в библиотеке оксфордского Тринити-колледжа. Великий математик сэр Джон Гершель[103] был уязвлен не столько безбожием, таящимся в самой основе естественного отбора, сколько мелочной неряшливостью, которая приписывается им матери-природе. «Не закон, а сплошное вкривь да вкось», — грозно изрек он, нагнав страху на оторопевшего Дарвина. X. К. Уотсон[104]написал Дарвину, что он произвел величайший переворот в биологии XIX века, и в то же время огорчил его, прислав пожелтевший оттиск в подтверждение того, что сам высказывал очень похожие мысли уже много лет назад. Ф. Э. Грей считал, что «Происхождение» — это тот же Ламарк, и ничего больше, и решительно не мог понять, чего ради подняли столько шума.
«Происхождение видов», как уже говорилось, побудило кой-кого из самых маститых ученых удариться в чистейшее богословие, хотя, где тут кончалось религиозное рвение и начиналась профессиональная зависть, подчас определить нелегко. Многие возражения происходили от неверного представления о том, что такое теоретический метод. Естественный отбор нельзя увидеть в действии. А раз так, он-де не более как пустое измышление. Впрочем, в более специфическом смысле камнем преткновения был сам естественный отбор. Казалось, что он подменяет разумный порядок и целесообразность в природе случайностью или, как представлялось некоторым, чисто механическим процессом. Строго ограничив свои богословские суждения рамками примечаний, Гершель в своей «Физической географии Земли» заявил, что ему лично нисколько не претит мысль о том, что посредством научных законов вселенский разум объективно и безлико творит свое дело. Но ни вселенский разум, ни такое осмысленное устройство, каким является органический мир, никоим образом нельзя рассматривать как порождение случая. Да, естественный отбор — остроумная гипотеза, но, разумеется, к ней нельзя относиться серьезно. В ней упущен изначальный и решающий фактор. Американец Аза Грей, горячий и искренний дарвинист, придерживался того взгляда, что естественный отбор вовсе не означает господства случайности, а, напротив, есть воплощение слепой необходимости, совершенно несовместимой с теизмом, если только не считать, что сами изменения протекают по предначертанному руслу.
Дарвин в своих письмах парировал эти нападки с величайшим терпением, показав, между прочим, что, когда того требуют обстоятельства, он не отступит и перед метафизикой. Естественный отбор нельзя увидеть в действии? Конечно. Закон тяготения тоже нельзя. Его выводят из результатов. Досталось от Дарвина и астроному Гершелю, которому понадобилось так много промысла божьего в биологии и так мало в астрономии. Впрочем, Гершель вообще брюзга. Когда Аза Грей с надеждой заговорил о том, не могут ли изменения направляться кем-то стоящим над миром, Дарвин был само сочувствие, сама готовность понять. Но что поделаешь, когда очевидно, что чем больше в изменчивости божественного промысла, тем менее правдоподобен естественный отбор. Мало того, изучение домашних животных убедило его, что изменения совершаются без всякого предначертания свыше. Ну какой интерес богу потакать людям в такой блажи, как выведение голубя-дутыша или голубя-турмана? Когда нужно было отстоять целостность собственных принципов, Дарвин не медлил, но и не спешил углубляться в область богословия. Он был очень рад, если кто-нибудь из лиц духовного звания подтверждал теизм его книги, но сам не склонен был этого делать.
В эпоху, когда о религии толковал каждый, когда атеисты не уступали в догматизме церковникам, а агностики писали толстые труды о своем неведении, Дарвин до конца дней не изменял тактичной и благоразумной сдержанности. Он боялся оскорбить сокровенные чувства верующих и считал, что его религиозные взгляды — это его личное дело, как для других викторианцев — их собственность. Когда на него слишком уж наседали, он нервно ссылался на то, что слишком нездоров, слишком занят, слишком стар, наконец, чтобы размышлять о религиозных вопросах, или отговаривался тем, что это не его область, что он над такими вещами глубоко не задумывался и ничего достойного внимания сказать не может. Но, понятное дело, когда столько людей вокруг него так много об этом говорили, он не мог не задумываться на сей счет хотя бы чуточку, а может быть, и очень основательно. Под конец жизни он высказался откровенно в «Автобиографии».
Как обычно, он рассматривал предмет исследования — в данном случае самого себя — в развитии. Его религия истаяла перед лицом науки; это была борьба «на выдержку», такая постепенная, что он, по собственным словам, «даже не огорчился», когда все было кончено, и вряд ли заметил, что гром уже прогремел. Вскоре после возвращения в Англию, все еще колеблясь меж эволюционной и богословской биологией, он обнаружил — и, несомненно, с изумлением, — что стал совершенным скептиком в отношении апокалипсиса. Его представления о прогрессе, об эволюции — и как следствие его гуманизм — сыграли тут решающую роль. Он увидел, что священные книги и мифология составляют непременную часть эволюции каждого народа. «Ветхому завету можно доверять не более, чем священным книгам индусов», не только оттого, что «мировая история в нем явно искажена», но и оттого, что «бог наделен чувствами мстительного тирана». Он отвергал христианские чудеса, потому что они были слишком похожи на чудеса в преданиях других народов, основывались на сомнительных и противоречивых свидетельствах и шли вразрез с униформизмом, усвоенным им от Ляйелла. Он отрицал также божественность Иисуса и сомневался в превосходстве христианской этики. «Прекрасна мораль Нового завета, и все же едва ли можно отрицать, что совершенство ее до известной степени связано с тем толкованием, какое мы ныне даем метафорам и аллегориям». Определенно, Дарвин до мозга костей проникся духом прогресса. Френсису Гальтону[105] в письме, не помеченном датой (но, очевидно, относящемся к 1879 году), он писал: «От общепринятых религиозных верований я отказался почти самостоятельно, в результате собственных размышлений».
Еще много лет потом он как бы в силу привычки держался расплывчатого теизма. Однако естественный отбор довершил то, что было начато эволюцией. Вопрос стоял таким образом, что надо было сделать выбор между случайностью и предначертанием, точней, между методом естественного отбора, с одной стороны, и его результатами — с другой. Если делать упор на том, что достигнуто, вселенная — физическая, эстетическая и нравственная колыбель человека — предстанет перед нами столь стройной и изумительной, что нельзя не усмотреть в ней творение разума, подобного нашему. Если же делать упор на случайных изменениях и борьбе за существование, тогда она представится нам не слишком счастливым итогом определенного стечения обстоятельств. Но ведь ясно, рассуждал Дарвин, что метод наложил свой темный отпечаток на достигнутое. И потому так же ясно, что вселенная не может быть осуществлением чьего бы то ни было замысла, если, конечно, не допустить, что жук-пилильщик задуман нарочно и исключительно затем, чтобы пожирать живых личинок, а кишечный глист — для того, чтобы селиться в кишечнике своей жертвы. Под конец Дарвин ставит неизбежный для гуманиста вопрос: чего больше в мире — страданий или счастья? И придумывает оптимистический ответ. В борьбе за существование приятное всегда побудительная сила и путеводная звезда успеха, меж тем как неприятности — а они сами по себе в ограниченных дозах небесполезны, — оказывают вредное, угнетающее действие, если испытывать их слишком долго. Следовательно, в ходе естественного отбора предпочтение отдается приятному. Однако себя он не убедил. Частных случаев неуспеха встречается бесконечно больше, чем частных случаев успеха. В сущности, если под неуспехом разуметь смерть, он всеобъемлющ. В конечном счете Дарвин всякий раз возвращался к «страданиям миллионов животных на протяжении почти нескончаемого времени».
И опять-таки ни законы природы, ни наличие у человека подсознания не указывают на непременное присутствие вселенского разума. Закон тяготения действует и на Луне, однако безжизненная пустыня не есть свидетельство существования животворящего промысла. Дикари, как показал Тэйлор, твердо держатся самых немыслимых суеверий, однако их верования не есть свидетельство существования этого немыслимого мира. Точно так же верования цивилизованного человека не доказывают существования мира, созданного кем-то ему на благо.
По-видимому, Дарвин сознавал и то, что привычный религиозный идеал, поколебленный в качестве духовной догмы, способен вновь утвердиться в качестве догмы мирской. Рассудив, что запасы солнечной энергии ограничены и постоянно расходуются, лорд Кельвин, точно некий страховой оценщик в масштабе мироздания, начал в 60-х годах подсчитывать вероятную продолжительность жизни Солнца. Когда-нибудь Земля станет холодна и мертва, как Луна. «Подумать только, — восклицает Дарвин в одном из писем 1865 года, — столько миллионов лет развития, столько прекрасных, просвещенных людей на каждом континенте, — и вот чем все кончится, и не будет нового начала, пока опять наша солнечная система не обратится в раскаленный газ». Выразив те же чувства в «Автобиографии», он заключает: «Тем, кто в полной мере признает бессмертие человеческой души, гибель нашего мира покажется не такой ужасной».
Серьезных попыток разрешить дилемму «предопределение или случайность» Дарвин не делал. Как знать, не существуют ли иные возможности, которые ум человеческий — сам-то в лучшем случае лишь несколько усовершенствованная разновидность мыслительных способностей менее высокоорганизованных животных — охватить не в состоянии. Человек волен строить догадки о разуме создателя, но с таким же успехом, как собака — о разуме человека. По сути дела, конечно, Чарлз никогда не ощущал сильной потребности веровать. У него в отличие от Ньюмена вера никогда не была итогом обдуманного выбора. Он не выбирал, он эволюционировал. Пожалуй, первым шагом к неверию было для него религиозное образование, полученное в Кембридже. Пейли открыл ему, как радостно постигать сущность явлений материального мира, и научил его, что право судить должно основываться на разумных доводах и фактах действительности. От предопределения, таким образом, он пришел к фактам и очень скоро стал чувствовать себя куда свободней с фактами, чем с господом богом кембриджских богословов. Когда же требовалось пускаться в рассуждения о таких предметах, как конечное и бесконечное, свобода воли и необходимость, материя и дух, Чарлз быстро приходил к «безнадежной неразберихе». Неспособность разбираться в отвлеченных материях сделала из него человека новой эпохи. Действительность была для него процессом, который непрерывно производит все более высокие ценности во вселенной, со всех сторон окруженной гигантскими вопросительными знаками. Какое-то время, быть может, ему было не совсем по себе от этих вопросительных знаков, они вечно маячили перед глазами, но он сосредоточил все свое внимание на работе, и постепенно вопросительные знаки отступили в благодетельный и полезный для дела туман. Медленно, почти безболезненно Чарлз превратился в агностика.
Вот какие взгляды со множеством изъявлений замешательства и огорчения поведал Дарвин в подробных письмах Аза Грею.
Один Грей способен был выжать из Дарвина столько богословских рассуждений. «Не делайте поспешных выводов насчет Аза Грея, — говорил Дарвин Ляйеллу. — Кажется, это один из самых-самых мыслящих и толковых авторов, каких я читал. Мою книгу он знает не хуже меня самого». «Очень сложная натура, — писал он в другой раз. — Юрист, поэт, естественник и богослов, все вместе».
Грей был превосходно оснащен для того, чтобы возглавить крестовый поход во имя эволюции в Соединенных Штатах. Крупнейший ботаник Америки, он с готовностью поддерживал обширнейшую переписку и среди младшего поколения американских ученых пользовался беспримерным авторитетом. Плодовитый автор живых, интересных учебников, он был одной из самых видных фигур в области всеобщего образования. Профессор Гарварда, человек обаятельный и непосредственный, с добрым, живым лицом, он оказывал огромное влияние на духовную жизнь важнейшего культурного центра в Америке. Ведущий ученый с серьезным и очень личным отношением к религии, он внушал доверие той части американских либералов, которая придерживалась оптимистической убежденности, что наука и религия могут прийти к полюбовному согласию. Человек высоких идеалов, изучавший цветы с героической самоотверженностью и беззаветным увлечением, какие его соотечественники обыкновенно вкладывали в более прибыльные занятия, он умел хранить величавую беспристрастность, но, однажды составив себе суждение, становился яростным его защитником, а когда по-настоящему пробуждался к действию, был почти как Гексли опасен и ловок в искусстве метать стрелы и расставлять сети полемики. Эволюция дала ему возможность действовать, ибо «Происхождение видов» раскололо Гарвард, как и весь мир, на два лагеря. Последовал ряд захватывающих публичных дискуссий, в ходе которых он одержал убедительную победу над знаменитым геологом Агассисом[106]. Именно в эти годы, сразу же после того как появилось «Происхождение видов», Аза Грей вошел в избранный круг тех, кто пользовался доверенностью Учителя и помогал ему ценными советами.
Дарвин говорил друзьям, что ждет большего не от профессиональных ученых, «которые слишком прочно усвоили, что вид — нечто данное раз и навсегда», а от людей непосвященных, но мыслящих. Что ж, непосвященные и правда проявили интерес: первое издание разошлось в один день.
Газетчики и обозреватели мгновенно ухватились за очевидный вывод: Дарвин превознес слепую случайность, а значит, и божественное провидение. Он подтвердил право сильного, и, стало быть, Наполеон был прав. Он открыл бескрайние перспективы прогресса, основанного на демократическом принципе плодотворной конкуренции.
Среди духовенства нашлись либералы, готовые принять новые идеи. Так, давний сторонник эволюции Кингсли[107], истово убежденный, что она в конечном счете предполагает облагороженное наукой понимание бога, объявил, что но задумается последовать за «коварным, как лис, злодеем-аргументом» в любую топь и чащобу, в какую бы тот его ни завел. Однако подавляющее большинство его собратьев напустилось на «Происхождение» с ярой злобой собственников, состоянию которых грозит непоправимый урон. Истрепанные в спорах ярлыки — «безрассудство», «безбожие», «безумие» — окончательно протерлись до дыр.
Но, пожалуй, самый страшный и болезненный удар нанес человек, который был и священником и ученым. Его нанес бывший учитель Дарвина, профессор геологии преподобный Адам Седжвик, тот самый, кто некогда предсказал ему блестящую научную будущность. Громя «Происхождение» как публично, в печати, так и в частном письме к автору, приславшему ему экземпляр книги, Седжвик утверждал, что «у природы, помимо физической стороны, есть сторона нравственная, или метафизическая. Тот, кто отрицает это, глубоко погряз в трясине неразумия». Не считаясь с существованием причинности, каковая есть воля божья, Дарвин продемонстрировал лишь обманчивое подобие индукции, которое не может привести к верным заключениям. Естественный отбор — не более как «второстепенное следствие», бутафорская грызня, исход которой предопределен свыше. Полностью опровергнув последние причины, Дарвин обнаружил «безнравственность в подходе к предмету» и сделал все, чтобы довести человечество до такой «глубины падения», какой оно еще не знало. Особенно возмутил Седжвика «торжествующе-уверенный тон» в конце книги, где Дарвин обращается к «грядущему поколению». Впрочем, над другими местами он чуть живот не надорвал от хохота.
Верный себе, Дарвин решил, что письмо Седжвика как-то несуразно написано, вот и все. Чарлз не хуже любого другого способен был видеть конечные последствия той или иной теории; но, вообще говоря, от метафизических идей ему становилось не по себе, а от чуждых ему метафизических идей он попросту заболевал. Мозг его имел полезное свойство отталкивать от себя то, что доставляет неприятность и в то же время не относится прямо к изучаемой проблеме. «Чем больше я думаю, тем больше недоумеваю», — не один постылый душе Дарвина религиозный диспут заканчивается в его письмах этими словами. Лишь обстоятельно обсудив письмо Седжвика с Ляйеллом, он признал, что, «вероятно, оно и в самом деле много определенней, чем я полагал». И несмотря на это, отказался признать справедливость критики. Теперь, когда его теория нашла воплощение в книге и предстала перед миром, он вдруг почувствовал свою кровную связь не только с явной научной ее сутью, но и со скрытым философским подтекстом. Сверхъестественное нарушало изысканную соразмерность его идей. Божество сделалось гносеологической помехой.
Иногда критика носила огорчительно личный характер:
«Вот вам славная шутка: X. К. Уотсон (который, как я полагаю и надеюсь, будет рецензировать новое издание „Происхождения видов“) говорит, что в первых четырех абзацах введения слова „я“, „мне“ и „мой“ повторяются сорок три раза! Я, кстати сказать, это гнусное обстоятельство смутно ощущал. Уотсон говорит, что его можно объяснить френологически. По-видимому, если выражаться без обиняков, это означает, что такого самодовольного эгоиста, как я, еще не видывал свет; возможно, так оно и есть. Интересно знать, предаст ли он гласности эту милую подробность; все вводные слова, которые так любит Уолластон, перед нею положительно меркнут.
Искренне Ваш, милый мой Гукер,
Ч. Дарвин.
P. S. Эту прелестную шуточку дальше пускать не стоит; она, пожалуй, слишком уж ядовита».
Тем временем он с неослабевающим усердием продолжал нажимать на все пружины. Среди видных ученых Европы и Америки едва ли найдешь такого, кому он не послал в дар свою книгу с письмом. И здесь вполне проявилось его умение обезоруживать тех, кто создан вселять трепет и поучать, умение, может статься, усвоенное им еще с малых лет в попытках умилостивить своего отца. Послания к самым непримиримым начинались словами: «Дорогой мой Фоконер» и кончались так: «Остаюсь, мой дорогой Фоконер, душевно и искренне Ваш — Чарлз Дарвин». А в середине высказывались предположения в таком духе: «Господи, до чего же Вы рассвирепеете, если удосужитесь прочесть мое сочинение, как кровожадно будете мечтать о том, чтобы зажарить меня живьем!» И вслед за тем он прибавлял: «Но если только случится, что оно хоть самую малость Вас поколеблет…» Он был серьезен и почтителен с Агассисом, медоточив с Декандолем. Он ободрял Гукера, подзадоривал Гексли, спорил с Ляйеллом, добивался поправок от Генсло. Он признался Карпентеру[108], как многим обязан его «Сравнительной физиологии», осторожно прощупал его и, убедившись в его благосклонности, уговорил написать о «Происхождении видов» статью. Статья появилась, и в высшей степени лестная, однако до безоговорочного признания дело не дошло. Дарвин остался доволен, но не удержался, чтобы не пожаловаться Ляйеллу: «Он соглашается с тем, что все птицы происходят от одного предка, а все рыбы и пресмыкающиеся, вероятно, от другого. Только последний кусок ему не по зубам. Что у всех позвоночных тоже один прародитель — с этим ему согласиться трудно».
Тем, кто был ему близок и симпатичен, Дарвин рассказывал, как он утомлен и болен; несмелым и сомневающимся ставил в пример тех великих, кто уже перешел на его сторону; несмелым и уважительным внушал, что все осуждения богословов прежде всего падут лишь на него, как на главного зачинщика, и ворчливо подшучивал над безмолвными страданиями женской половины своей родни. Ему непременно хотелось знать от всех, что думают все прочие: «Боюсь, что поколебать Бентама нет надежды. Станет ли он читать мою книгу? Есть ли она у него? Если нет, я послал бы ему экземпляр». Анонимов он распознавал безошибочно: «Я совершенно уверен… что статья в „Анналах“ принадлежит Уолластону; больше никто на свете не стал бы пускать в ход такое количество вводных слов». Об одном ученом, рабе своих постоянных и упорных сомнений, он пишет: «Этот человек… попадет в тот круг ада, который, по словам Данте, предназначен для тех, кто ни с богом, ни с чертом».
Ляйелл, Гукер и Гексли продолжали оказывать ему неоценимые услуги. Гукер написал свое прекрасное введение к «Flora Tasmaniae»[109] — исповедь, в которой он признается, что уверовал в эволюцию. Ляйелл, сведущий по адвокатской части, давал советы, как лучше выступить в защиту «Происхождения», объявил о своем единомыслии с его автором и стал подумывать о том, как бы применить опасные новые принципы к такой опасной теме, как человек. Гексли во всем блеске своих талантов принялся торопить историю окончательно признать дарвиновские идеи. Он подкарауливал грозных противников и, ухватив за пуговицу, принимался подавлять их своей эрудицией и находчивостью. Он читал лекции, залпами выпускал искрометные рецензии — особенно выделялась одна: анонимное чудо ясности и меткой фразы, которая вызвала сенсацию в научном мире и привела в неописуемый восторг Дарвина. «Кто бы это мог написать?» — лукаво осведомляется Дарвин у того, кто это написал. Кем бы ни был этот неизвестный, нет сомнений, что он по-настоящему понимает сущность естественного отбора. А кроме того, знает и незаслуженно высоко ценит книгу об усоногих раках. Это «естествоиспытатель до мозга костей», к тому же он цитирует Гёте в оригинале и отличается бесподобным чувством языка. Единственный в Англии человек, способный написать такую статью, — это Гексли, «сослуживший нашему делу огромную службу».
Впрочем, как ни велика была радость Дарвина по поводу статьи, не менее велико было его разочарование по поводу доклада, который Гексли сделал 10 февраля 1860 года в Королевском институте. Со всеми своими болячками и немощами он снарядился в Лондон ради того, чтобы послушать, как естественный отбор будет изложен с силой и четкостью, на которую способен один Гексли. Вместо этого он услышал красивые слова о победоносном шествии истины в науке и его отправной точке — «Происхождении видов». Он слушал и старался убедить себя, что доклад хорош, но потом чувство досады взяло верх. «Право же, обидно было, — писал он Гукеру, — что он тратит время, поясняя понятие о видах на примере лошади и повторяя старый опыт сэра Дж. Холла с мрамором».
С течением времени, однако, Гексли показал себя как критик, которым может быть доволен даже автор. Надо сказать, что отношение его к «Происхождению видов» было парадоксально. Он не пробовал, подобно Спенсеру, распространить эволюцию на область философии или, подобно Бейджоту, применять идею естественного отбора к другим областям знания. Он направлял главные свои усилия не на то, чтобы расширить биологические исследования Дарвина, хотя и тут он сделал немалый вклад. Он старался добиться другого: ясно определить, что такое в конечном счете этический идеал; утвердиться по отношению к эволюционистам, равно как и к их неприятелям, в роли беспристрастного провозвестника научного метода, объективного глашатая объективности, подвергать Дарвина критике, когда это необходимо, и защищать во всем прочем. Естественно, он видел, что в критике и Дарвин и наука нуждаются не слишком, а вот в защите — весьма. Нельзя возвести объективность в степень образовательной и политической программы, превратить ее в религию, в мерило этики, даже в боевой клич, не принеся при этом известную жертву объективности.
Итак, маститые антидарвинисты понемногу сползали в темные подвалы анахронизма и непригодности, а тем временем со всех сторон, как грибы, вырастали новые поборники света. Самым приметным среди них был молодой немецкий зоолог Эрнст Геккель, чья «чрезвычайно ценная и превосходно написанная монография о радиоляриях» не укрылась от внимания Гексли. Он послал автору сердечное письмо с горячей похвалой и уместным случаю подношением: образцами барбадосских отложений и глубоководного морского ила. Между ними завязалась прочная дружба.
Для успеха дарвинизма за границей дружба Гексли и Геккеля имела такое же значение, как дружба Дарвина и Аза Грея. По складу ума Геккель напоминал одну из тех сверхплотных и легко вспыхивающих звезд, в каких всегда таится угроза взрыва. Постоянно, был риск, что он взлетит и со страшным космическим треском рассыплется светозарными брызгами сразу по всем направлениям: политическому, научному, философскому. Религиозный по природе и по воспитанию, он в бурях 1848 года утратил веру и вместе с ней свой политический консерватизм. Какое-то время он давал выход скоплению взрывоопасной энергии, с блистательным красноречием громя смиренных послушников и верховных жрецов реакции. Это длилось до тех пор, пока дарвинизм не наделил его плодотворной верой и новой миссией в той области биологии, какой он занимался! На научном конгрессе 1863 года он сильно способствовал продвижению идей эволюции в Германии своим докладом о «Происхождении видов», сопоставив естественный отбор с «естественным» законом прогресса, остановить который «не в силах ни оружие тиранов, ни проклятия священников». Интеллектуальную войну с немецкими врагами эволюции Геккель вел с такою Schrecklichkeit[110], что английские его союзники бледнели от ужаса. По всей видимости, однако, сами они от того не пострадали. Как считает знаток истории дарвинизма в Германии Эрнст Краузе, Геккель «принял на себя… весь огонь ненависти и ожесточения, которые возбудила в известных кругах эволюция», так что «в самом скором времени в Германии пошла мода ругать одного Геккеля, а Дарвина выставлять за образец предусмотрительности и выдержки».
Одна из важных заслуг Гексли состояла в том, что он вывел человека науки на передний край культурной жизни Европы. Борьба между эволюцией и церковью открыла ему блестящие возможности; живым чутьем человека действия Гексли понял, что минута настала, и ринулся в бой. Церковнику, невежественному и предубежденному защитнику устаревших суеверий, он противопоставил ученого, бескорыстного исследователя, который при почти сатанинском безбожии и сверхчеловеческой отрешенности все же, по призванию своему и служению, предан правде в науке, честности на поле боя, а также — поскольку правда есть сила, а честность в понимании XIX века есть сострадание — прогрессу на благо человека в обеих этих областях. Выступая как-то в те дни с докладом в защиту «Происхождения», Гексли страстно осудил идею воли господней как мнимой первопричины всех явлений в природе. Один за другим сметает ее рубежи наступление науки, а она упорно, вопреки рассудку, появляется вйовь и вновь далеко за прежней линией обороны.
«Однако тем, кто, повторяя прекрасные слова Ньютона, проводит жизнь на берегу великого океана истины, подбирая по камешку там и тут; кто день за днем наблюдает медлительное, но неуклонное его течение, несущее в своем лоне тысячи сокровищ, которыми облагораживает и украшает свою жизнь человек, — тем смехотворно было бы, не будь это так печально, видеть, как торжественно восходит на престол очередной халиф на час и повелевает течению остановиться, и угрожает преградить его благотворный путь».
Он говорил о том, какую славную роль может избрать его страна.
«Сыграет ли Англия эту роль? Это зависит от того, как вы, люди Англии, будете обращаться с наукой. Лелейте ее, чтите, неукоснительно и беззаветно следуйте ее методам во всех отраслях человеческих знаний, — и будущее нашего народа превзойдет величием его прошлое. Но внемлите тем, кто желал бы заткнуть ей рот, сломить ее, — и боюсь, что дети наши увидят, как слава Англии, точно король Артур, канет в мглу, и слишком поздно будет тогда вторить горестному причитанию Джиневры:
Мой долг был — полюбить его, великого:
То было бы на благо мне! — но я не знала,
То счастьем было бы моим! — но я не ведала.[111]»
Это говорит подлинный проповедник. И речи его — по крайней мере, у многих — вызывали те же чувства к новой вере и ее священнослужителям, какие рождают речи пастыря в душах прихожан.
Как протекала бы полемика об эволюции, не будь на свете Гексли? Бесспорно, что рано или поздно «Происхождение» точно так же оказало бы глубокое влияние на науку и религию. Бесспорно, что все равно почти так же прославилось бы имя Дарвина. Слово «агностик», наверное, придумал бы Лесли Стивен[112], а популяризаторов природоведения возглавил бы Джон Тиндаль. Но никогда науке не добиться бы такого сиятельного почета среди политиков и деловых людей, не занять такого видного места в учебных программах конца XIX века. Менее стремительной, менее полной и, уж конечно, менее драматичной была бы общая ее победа над старыми устоями. То, что могло бы и обещало стать унылой войной на измор, Гексли обратил в захватывающее сражение. Он породил легенду, героями которой стали он сам и Дарвин, он основал новую жреческую касту и чуть не сделал Англию оплотом науки.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
3. Политическая борьба и смятение чувств (1850–1851)
3. Политическая борьба и смятение чувств (1850–1851) Гюго был одним из тех редкостных людей, которые всегда стремятся к свободе, как к источнику всякого блага. Ален Годы 1850 и 1851-й — для Гюго время острых политических схваток и душевных волнений. После разрыва с Елисейским
СМЯТЕНИЕ
СМЯТЕНИЕ – Это нечто очень странное, что я теперь переживаю, — сказал Владимир Степанович, давнишний мой приятель, беря на ходу стул и подсаживаясь ко мне. Мы были с ним так близко знакомы и так несомненно дружны, что могли говорить друг с другом каждый о себе, приучились
Смятение неглубокой души
Смятение неглубокой души Веню Файна уже третий раз вызывали в Лефортово.– Мне прислали повестку, и ровно в три я был там. Кстати, я встретил Брайловского, – рассказывал он у лестницы в хоральную синагогу.– Вас один и тот же следователь допрашивал?– Меня допрашивал
Смятение
Смятение На следущий день после пресс-конференции в Плаза я чувствовала себя усталой и разбитой: день накануне оказался слишком напряженным. Я сидела в гостиной м-ра Джонсона, с удивлением глядя, как через каждые полчаса несут почту, корзины цветов, опять письма, опять
3. СМЯТЕНИЕ ДУШИ. МОЛЧАНИЕ
3. СМЯТЕНИЕ ДУШИ. МОЛЧАНИЕ …Меня за живое задело. Честно признаюсь: в 17 лет «не пытался разобраться в сущности триады Гегеля, не лез в недра, не расщеплял жизнь». Я и в институт—то поступил в 25лет. Но молодость мне все—таки была нужна. Шукшин. Я тоже прошел этот путь… В
Смятение
Смятение Голубое небо! Нескончаемое очарование голубого неба стоит перед глазами, когда я вспоминаю и позднюю весну, и это прошедшее лето. Сейчас преждевременно опадают пожелтевшие листья. Сентябрь только-только начался, а уже пахнет осенью. Удивительный вид открывается
СМЯТЕНИЕ
СМЯТЕНИЕ
И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...
И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА... Военный Крым встретил нас, грустно зализывая следы оккупации и беспрецедентной акции выселения татар, целого народа, для которых эта земля была родиной. Ещё не успели полностью отловить разбредшихся по горам баранов, коз и другую скотину,
Смятение
Смятение Только что отлетело наше очередное письмо [от] 1-10-45, как прилетело Ваше от 23-8-45 из Голливуда. Одновременно пришло письмо Мориса (спрашивает, где ему записаться в члены АРКА). Пошлите ему отчет и чудесные весточки от Магдалины — передайте ей наши сердечные приветы.
Ты — ломоть идеализма, территория в умах
Ты — ломоть идеализма, территория в умах Заметив Вознесенского на похоронах Нины Искренко, кто-то записал: был тих, удручен, рука на перевязи. Молодые коллеги не то чтобы злословили, нет. Иронизировали. Иногда глядели искоса.Вознесенский приходил на похороны к тем, с кем не
В ВЫСШИХ СФЕРАХ СМЯТЕНИЕ
В ВЫСШИХ СФЕРАХ СМЯТЕНИЕ Позже мы узнали, что генерал-майор С. С. Озеров, уйдя от нас, сразу же собрал офицеров и рассказал им о встрече с нами, о том, что нижние чины поняли его, успокоились, горячо благодарили за беседу и дали слово вести себя хорошо. Он сообщил также, что и
ПОСТОЯННОЕ ВНУТРЕННЕЕ СМЯТЕНИЕ
ПОСТОЯННОЕ ВНУТРЕННЕЕ СМЯТЕНИЕ Кришна оставался в Индии до мая, пока не отправился в сопровождении Розалинды и Раджагопала в Англию. (Мы с мамой и Бетти выехали еще в конце января, когда Хелен и Рут вернулись в Сидней). Было естественно, что Раджагопал занял место Нитьи в
Глава пятнадцатая «ДЬЯВОЛ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СМЯТЕНИЕ УМОВ!»
Глава пятнадцатая «ДЬЯВОЛ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СМЯТЕНИЕ УМОВ!» Давно уже враги окрестили его «одержимым». И он был одержим настойчивой и властной мечтой о великом перевороте, о возмездии, о добытом в сражениях торжестве справедливости. И теперь эти жаркие и бурные осенние
Смятение духа
Смятение духа Интервью доктору Эскоффье-ЛамбиоттуПолагаете ли Вы, что моральная растерянность и смятение духа являются новыми чувствами для мира ученых и чему в условиях современного развития науки Вы приписываете их появление?– Действительно, эти чувства новы, но они