ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Историографы» Троице-Сергиевской лавры любили живописать уединенность, скромность и благолепие монастыря. Срубленные среди леса кельи, пни, торчащие перед самым входом в церковь, тишина ветвей и трав, запахи дикой чащи, где водятся медведи, строят плотники бобры и крепко держится дичь, — эта поэтичная, сразу же бросающаяся в глаза картина заслоняла от умиленных взоров нечто другое, несравненно более значительное и важное для понимания жизни монастырской братии, чем девственность окружающей природы. Это несравненно более значительное и важное — в напряженной духовной деятельности, совершавшейся в тишине радонежских пущ, в накале страстей, не раз потрясавших стены обители более грозно, чем тараны татар.
Первый взрыв относится к самому раннему периоду существования монастыря.
Он нашел выход в уже упоминавшемся резком столкновении двух братьев — Сергия и Стефана, случившемся где-то между 1354–1360 годами.
Некогда, не выдержав «пустынножития», Стефан оставил младшего брата общаться со всякой лесной тварью в одиночку, а сам направился в Москву, в Богоявленский монастырь, излюбленный князем Симеоном Гордым.
Здесь он сблизился с будущим митрополитом Алексием, сумел сыскать расположение самого князя и повелением последнего был посвящен в иеромонахи.
Однако карьера Стефана вскоре застопорилась. Его рассказы о Сергии, возбудив любопытство, обернулись вдруг против иеромонаха. Стараниями Алексия никому не ведомый игумен Сергий начинает с головокружительной быстротой завоевывать популярность. Стефан соображает, что, кажется, просчитался, уйдя с Маковца.
Если дело пойдет тем же порядком и дальше, то Сергий того гляди сменит престарелого митрополита! Но ведь Стефан тоже начинал на Маковце. Он тоже выбирал это место, помогал Сергию рубить первую келью…
И Стефан, порвав с Москвой, устремляется в Свято-Троицкий монастырь.
Не с пустыми руками. С изрядным добром, поднакопленным в годы близости к великому князю, избравшему Стефана духовным отцом и, вероятно, не оставлявшему без наград.
Это добро, по мысли Стефана, должно утвердить его превосходство над Сергием, отодвинуть Сергия на задний план.
Стефан попал вовремя. В монастыре роптали недовольные «общежитием».
Старший брат не стал медлить. Намеками, а то и прямо Стефан давал понять, что, стань игуменом он, «общежитие» было бы ослаблено.
Тлеющий огонь начал разгораться. Видимо, возникли какие-то споры между приверженцами Сергия и Стефана.
Каждый доказывал свою правоту, апеллируя, конечно, к священному писанию.
Но открыто выступить против самого Сергия и именно против «общежития» не решался никто, даже сам Стефан. Состояние этого интригана понятно. Зависть к брату, досада на совершенную некогда «промашку», невозможность прямо высказать свои мысли и необходимость действовать окольным путем исключали душевное равновесие и чем дальше, тем больше озлобляли Стефана.
Сергий же терпел, делая вид, будто ничего не замечает.
Но долго это тянуться не могло.
В одну из суббот Сергий служил в той самой церкви, где впоследствии «прозрел» победу Дмитрия Донского. Сергий находился в алтаре, а Стефан стоял на левом клиросе.
Вся братия была в сборе.
Вдруг в разгар службы Стефан увидел у канонарха книгу, которой ему не вручал.
Стефан побагровел.
— Кто дал тебе эту книгу? — закипая, рыкнул он.
Оробевший канонарх растерянно пролепетал:
— Игумен…
Здесь Стефан не выдержал. Скопившаяся ненависть прорвалась.
— Кто здесь игумен?! — загремел Стефан. — Не я ли первый сел на этом месте?!
И, видимо чувствуя, что теперь терять больше нечего, закусил удила и принялся поносить Сергия «бранью». Какого сорта была эта «брань», составитель жития целомудренно умолчал. Но, надо полагать, она не была худосочной, ибо чернецов словно обухом пришибло…
Сергий за тонкой алтарной перегородкой слышал каждое слово, но ничего не ответил. Зато в воскресенье утром монахи хватились игумена. Келья его оказалась пустой. Оскорбленный настоятель монастыря покинул обитель…
Стефан мог бы праздновать победу, не окажись она поражением.
Разброд в монастыре принял угрожающие формы. О случившемся узнали в Москве. Митрополит Алексий, давая себе ясный отчет в значении Сергиевой пустыни, сразу и резко вмешался в дело.
Он разыскал Сергия, который ушел к одному из своих учеников под Александров и основал там новую обитель на реке Киржач, беседовал с «чудотворцем» и уговорил того вернуться в Святую Троицу.
Со Стефаном митрополит, очевидно, тоже имел объяснение, и, вероятно, весьма резкое. Стефан с этих пор сходит со сцены. «Смирившись» и прожив некоторое время под началом восторжествовавшего брата, он опять уходит в Москву, в Симонов монастырь, где и умирает…
Идут годы. Давно истлел прах Дмитрия Донского. Давно лежит в гробу Сергий Радонежский. Давно нет в живых многих сподвижников великого князя и игумена.
Живые уже не помнят, а подчас и не хотят помнить всего: у покойных были ошибки и слабости, никак не вяжущиеся с создаваемой им славой.
Это смущает. Чтобы объяснить ошибки и слабости «великих», надо признать бытие единственной сущностью, а человека единственной мерой вещей.
На это оказывается порою не способен и XX век. В пятнадцатом это вообще немыслимо, так как равноценно отречению от бога.
Так мертвых хоронят второй раз, превращая в символы собственных заблуждений.
Так создают легенды и жития.
К счастью, составители легенд и житий еще по-средневековому наивны, и разобраться в подлинном существе дела не трудно даже нам, живущим шестьсот лет спустя.
Современники же используют имена знаменитых предшественников каждый по-своему.
И несомненно, что по-разному используют имя Сергия аристократические и народные, демократические прослойки в самом Свято-Троицком монастыре.
Противоречивость покойного игумена дает карты в руки и тем и другим.
Аристократические элементы, апеллируя к славе Сергия, находят в его поступках основание для своего «стяжательства», для превращения монастыря в богатейшую феодальную вотчину.
Ведь Сергий желал укрепления церкви и, заботясь о благополучии обители, принял незадолго до смерти, как вклад одного из бояр, Галичскую Соль, крупный промысел.
А в новых условиях, когда расходы на братию, на строительство, на переписку книг, на иконопись, на поддержание связей с двором и Константинополем все растут, не умещаясь в «пожертвования», надо или отказаться от первенствующей роли монастыря, или обзаводиться землей, переходить от косвенной эксплуатации крестьян к прямой.
Конечно, такой переход надо как-то «освятить», как-то прилично обставить.
Подходящие тексты в писании имеются. За многовековую деятельность церковь понаторела и в их толковании. Лицемерия ей не занимать стать. Но сделать рваную рясу Сергия знаменем толсторожего тиуна все же не просто. В обители остались чернецы, упрямо верящие в необходимость отречения от мира, что равнозначно пассивному, но все-таки протесту против силы, богатства и власть имущих.
Они не желают считаться ни с чем.
Им нет дела до «задач», встающих перед монастырем и всей церковью на рубеже XIV и XV столетий.
Они отказываются понять диктуемую временем «необходимость» перемен — вынужденность для церкви, если та не намерена потерять свою самостоятельность и подчиниться светской власти, преображения в землевладельца «милостью божией».
А тогдашняя церковь никогда на побегушках у князей не состояла.
Она лишь выступала в союзе с ними, да и то не со всеми и не всегда.
Мирская власть не столь сильна, чтобы удерживать в одной руке крест и скипетр.
Однако скоро князья московские начнут подбираться и к алтарям.
Скоро милостивейший государь Иван III хоть и ненадолго, а «откроет сердце» еретикам, требующим у церкви отказа от земельных владений. Скоро, очень скоро вспыхнет борьба Иосифа Волоцкого и Нила Сорского[1] и «смутит» умы православных.
Все очень скоро!
А пока в монастыре Святой Троицы разыгрывается лишь один из первых ее и не очень значительных эпизодов.
Игумен Никон берется перековать кружки для подаяний в ларцы для хранения «жаловавных грамот» на земли и крепостных.
Происходят ли в процессе никоновского занятия этим «кузнечным ремеслом» скандалы вроде скандала между Сергием и Стефаном, с уверенностью сказать нельзя. Но что недовольство Никоном есть, несомненно, и что иные чернецы игумена покидают, можно не сомневаться.
Послушничество же Андрея Рублева падает как раз на годы возвращения Никона к игуменству.
На эти же годы падает и его уход с Даниилом из монастыря Святой Троицы, переход в Спасо-Андрониковский монастырь под Москвой.
И это открывает еще одну живую черту в облике иконописца.
Мы покинули Андрея Рублева пятнадцатилетним юношей, впервые переступившим порог обители Святой Троицы.
Прошло несколько лет. Холщовая рубаха давно уступила место черным одеяниям. По заведенному Сергием Радонежским порядку, Андрей «обыкает» иноческому чину. Молитвы, посты, работы по хозяйству. Внешне почти все как у других. Но не все. Долгие часы послушник проводит наедине со своим учителем Даниилом Черным, первым человеком, открывающим пытливому юноше тайны живописи.
Тогдашний мастер не только живописец. Он должен уметь выбрать для будущей иконы хорошее дерево, приготовить доски, натянуть холст, сварить клей, нанести грунт — левкас, сделать сами краски: одни на яичном желтке, другие — на вареном масле, третьи — на смоле.
У каждого живописца здесь свои приемы, свои секреты, ревниво охраняемые от любопытных посторонних глаз.
Но важнее другое. Каждый живописец — старец, обучающий не только мастерству, но и его философским основам, формирующий сознание ученика, отвечающий за его нравственное и моральное состояние.
Дружба, возникшая между Даниилом Черным и Андреем Рублевым в эти годы, длящаяся всю их жизнь и прерванная только смертью, — порука глубокого родства душ обоих живописцев, близости взглядов на цели жизни и долг человека.
Даниил, несомненно, русский мастер. Но он старше Рублева и, возможно, побывал в Киеве, в Новгороде, во Владимире, перенимал опыт и византийских и отечественных мастеров, много читал, был свидетелем титанической схватки с Мамаем и, конечно, является почитателем Сергия, живым хранителем традиций «пустыни».
Зная игумена в жизни, помня его голос, походку, взгляд, Даниил, как любой другой чернец, естественно, видит Сергия таким, каким его понял сам.
Это отношение к «чудотворцу» Даниил передает своему ученику. И взглядам Даниила Черного наверняка Андрей доверяет больше, нежели чьим-нибудь еще.
Авторитет Даниила, поддерживающего искания молодого художника, его талант, откровенно, по душам беседующего с Андреем, — вот могучая колонна, подпирающая простую человеческую веру Андрея в учителя.
Говоря о художнике Андрее Рублеве, обычно почти ничего не говорят о Данииле Черном как о мастере, сильно уступавшем ученику в таланте.
Напрасно. Даниил, по-видимому, был живописцем первой величины. Однако самая большая заслуга его в том, что он не только увидел одаренность Рублева, но и умело, с любовью воспитал в нем самостоятельную творческую мысль и манеру, не подавлял ученика опытом, понимая, что каждый должен идти своим путем.
Своеобразие Рублева, как всякого гениального художника, должно было проявляться и в самых первых его ученических работах.
В чем-то он отступал и от византийских копий и от самого Даниила.
Относиться к такому проявлению личности в искусстве можно двояко.
Правда, церковная живопись, уже давно задавшаяся вопросом, отчего божество и святые угодники у разных мастеров выглядят зачастую абсолютно непохожими, нашла тонкий ответ.
«Видения бога сообразны тем, кому он являлся», — писал один из позднегреческих философов, Дионисий Ареопагит.
Историки искусства точно установили, что сочинения Ареопагита и других мыслителей поздней античности были на Руси отлично известны и уважались всеми образованными современниками Рублева.
Исследователь творчества Рублева М. В. Алпатов по этому поводу говорит: «Для людей, которые стремились освободиться от косного догматизма и оправдать свое влечение к реальности и красоте земного мира, философия Ареопагита служила опорой, так как признавала в мире движение и возврат к покою, разделение и единение, влечение от себя к другому и обратное влечение к себе».
Бесспорно, читал Ареопагита и учитель Андрея — Даниил. Но одно дело — знать мысли позднегреческих писателей, а другое — мириться с тем, что собственный ученик заводит с тобою спор, и не только не делать попыток оборвать его, а всячески поощрять к продолжению этого спора.
Поступать так, как поступает Даниил, — значит поистине проявить большой ум, поразительное уважение к личности человека, неиссякаемую любовь к жизни.
Андрею Рублеву посчастливилось, что возле него с самых первых шагов оказался такой душевный и опытный старший друг.
И Рублев оценил это, бережно пронеся уважение и признательность к учителю через всю жизнь.
Возникновение дружбы великих живописцев падает на конец девяностых годов XIV века.
Начало ее представить не так трудно.
В характере уже зрелого Андрея Рублева современники отметили необычную и несколько смущавшую черту: способность подолгу сидеть перед чужими иконами и внимательно их разглядывать, не обращая внимания на шуршащих вокруг богомольцев.
Такое отношение к предметам всеобщего суеверного поклонения должно было коробить и возмущать не только случайных посетителей храмов, где располагался Андрей, но даже и тех, кто хорошо знал, что он иконописец. Забываться под косыми и неприязненными взглядами, подпав под властную силу красоты, иной раз способен и человек заурядный. Но здесь только невольное забвение, и ничего больше.
Сидеть перед чужими иконами каждый праздничный, свободный от работы день, заранее зная, как на тебя посмотрят, — значит относиться к мнению богомольцев так, как оно заслуживало: не считаться с ним.
Это поведение на первый взгляд совершенно не вяжется с той душевной тонкостью, с той сдержанностью в рисунке и цвете, с какими Андрей Рублев создает свои поэтичные, исполненные нежности и грации образы.
Но противоречие между внешне неприемлемым для массы верующих поведением Андрея Рублева в храмах и его глубокой человечностью и чуткостью — противоречие кажущееся. Смирись Рублев с рабскими ординарными взглядами на «святыни», ему нечего было бы сказать народу, некуда было бы звать людей.
Поэтому воображать себе живого Андрея Рублева «тихим и благостным», скользящим по закоулкам монастырей некоей бесплотной тенью — нелепо.
Одна из уцелевших от того далекого времени миниатюр запечатлела Рублева в облике крепкого человека среднего роста, с окладистой волнистой бородой и большими, наверное, яркими глазами.
Безвестный автор миниатюры, создавая сцену приглашения Никоном Андрея и Даниила в монастырь Святой Троицы для росписи только что выстроенного собора, подчеркнул в Никоне «благость» и «святость». В фигуре же Андрея Рублева, поставленной очень прямо, с поднятой головой, он как бы старался выразить самостоятельность, независимость гениального собрата по кисти. Венец над челом Рублева — этот символ кротости и терпения — тут выглядит почти неуместно.
«Гордыня» в древней Руси считалась величайшим грехом, особенно тяжким для монаха, но ясно, что автор миниатюры не находил в Рублеве гордыни, а видел лишь заслуживающее высокого уважения достоинство и не осуждал его.
Так понял Рублева собрат по работе. Возможно, его собственный ученик.
Не так, возможно, понимали Андрея другие.
Откуда, однако, у живописца это независимое отношение к окружающему, эти подчас вызывающие поступки, намек на которые слышится в упоминании о странном поведении Рублева перед «всечестными иконами»?
Пришло ли это с годами, когда художник осознал свою силу, или проявлялось и раньше?
Тут надо задуматься о прирожденных особенностях человека и о той среде, что его растит и воспитывает.
Тончайшая лиричность души Андрея Рублева, его мягкость, сердечное внимание к миру и к человеку несомненны. Таким он явился на свет. Таким заявил себя уже в инициалах «Евангелия Хитрово»[2] выполненных, возможно, еще в годы пребывания послушником у Никона. Инициалы выполнены так, что поныне глядишь на них с тем замиранием сердца, какое способна вызывать лишь сама русская природа.
За одной фигуркой голубой цапли — целый живой мир. Видишь не только плавное движение шеи, крутой изгиб крыльев, переливы пера, столько раз подсмотренные тобою, но и кивера не нарисованных художником камышей, длинные травы приболотных кочек, белесые лепешки неподвижной ряски с разводами утиных дорожек, а там, вдали, где столько простора, солнечные холмы сметанных стогов… Милая родина, добрая русская земля!
Однако между рождением Андрея Рублева и его работой над инициалами к «Евангелию Хитрово» лежат не день, не месяц, а годы.
Годы детства и отрочества, когда мироощущение художника только начинает складываться, а врожденные свойства находятся под постоянной угрозой гибели.
Возможно, истоки противоречивости «личных качеств» и мотивов творчества зрелого Андрея Рублева именно там, в горьком детстве, где осиротевший, всем чужой ребенок впервые учится скрывать взволнованные порывы чистой, доверчивой души от равнодушных, насмешливых взглядов окружающих, давно и навеки загрубевших в непрерывной и безрадостной борьбе за кусок хлеба.
С возрастом мальчик начнет понимать это ожесточение нищеты. Нo ему не станет легче, потому что с возрастом его склонности уже придут в непримиримое столкновение с бытом, с привычками и порядками задавленной трудом семьи воспитателей. Его тяга к природе будет восприниматься как попытка улизнуть от дел, его неосознанная жажда творить, его задумчивость будущего величайшего труженика — как неискоренимая леность и тупость, его первые неумелые рисунки — как баловство, которые надо выбить из парнишки, и чем быстрей, чем безжалостней, тем лучше.
Впрочем, битье не так страшно, как насмешки. Боль проходит, едва заживает кожа. Обида и оскорбление оставляют в душе следы неизгладимые.
Андрей Рублев растет в суровое для России время, в эпоху грубых нравов, среди нужды. Если ему удается сохранить удивительно ясный строй души, то, конечно, только глубоко запрятав истинные думы и чувства под оболочкой той самой грубости, которая ему чужда, но зато позволяет оградить душу от копания в ней заскорузлых рук «близких».
Но наступает еще там, в отрочестве, день торжества. Чем была написана и на чем была написана первая икона гения — углем ли на клочке бересты, мелом ли на доске, — неизвестно, но написана она была.
Удачное подражание кому-то. Список какой-нибудь иконы, висевшей в красном углу избы. Копия, созданная с трепетом и захватывающей дух дерзостью: ведь «дар писать иконы» — и мальчик знал это! — «дар небесный», даваемый «богом» только своим избранникам!
Копия удалась, и смятение недавних насмешников, в растерянности переводящих взгляды с новоявленного лика божества на приблудыша, которому, может быть, только что хотели надавать подзатыльников за долгое отсутствие, окрылило Андрея. Да, с ним что-то случилось, пока он писал. Но теперь-то он был прежним, тем самым, что вчера, и позавчера, и полгода назад. Он знал это! А они не знали. Чего же стоили их нынешние робость и удивление!
И, может быть, уже в тот день Андрей смутно почувствовал, что любить и уважать в человеке высшее проявление божества — не одно и то же, что уважать и любить каждого человека, и впервые открыл для себя изречение: «не мечите бисер перед свиньями».
Таким он появился в монастыре.
Много слышавший о Сергии.
Надеющийся, что здесь он станет самим собой. Готовый открыть свое сердце людям, страстно этого желающий, но по привычке настороженный, очень чутко улавливающий всякую фальшь и готовый в любую минуту, как улитка, уйти в свою раковину, укрыться за проверенныхМ щитом внешней резкости и равнодушия: обычная уловка деликатной и уже испытавшей обиды души.
Даниил Черный наблюдает за учеником. Угадывает состояние новичка. Берет под покровительство. Водворяет в своей келье. Подсказывает, как поступать, чтобы не попасть впросак при выполнении обрядов. Рассказывает, как равному, о Сергии. Показывает крыльцо, срубленное игуменом.
Было так: остался Сергий без хлеба, попросил у одного старца пищу, и тот вынес в решете все, что оставалось, — несколько заплесневелых кусков. Но Сергий не взял их даром. Игумен всегда говорил, что подвижник может есть только заработанное. И за несколько заплесневелых кусков приладил к келье старца крыльцо.
Ученик взволнован и растерян.
Рассказы о битвах с татарами вызывают на его щеках лихорадочный румянец. В огромных глазах отрока — то неукротимый огонь, то предательская влага. Нарочито грубым голосом юнец прерывает учителя, с его языка срывается ругательство…
Даниил улыбается. Ему все понятно. Этот юнец, рисующий не по возрасту и опыту легко, такой на первый взгляд угловатый и неотесанный, на самом деле очень мягок и уязвим.
И Даниил постоянной добротой, заботой заставляет улитку сбросить раковину.
С этого дня у них нет тайн друг от друга. Один испытал счастье широко распахнуть сердце, другой — увидеть, что оно распахнуто для него.
Юность склонна к очарованиям и поспешным выводам. Андрею Рублеву может в эту пору казаться, что все огорчения и невзгоды позади. Он готов обнять каждого.
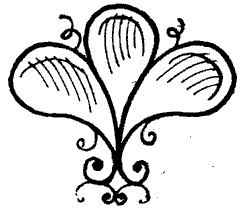
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава третья
Глава третья Главной фигурой детства была Няня. И мы с Няней жили в нашем особом собственном мире, Детской.Как сейчас вижу обои — розовато-лиловые ирисы, вьющиеся по стенам бесконечными извилистыми узорами. Вечерами, лежа в постели, я подолгу рассматривала их при свете
Глава третья
Глава третья Оставив позади Пиренеи, мы отправились в Париж, а оттуда — в Динар. Досадно, но все, что я помню о Париже, — это моя спальня в отеле, стены которой были окрашены в такой густой шоколадный цвет, что на их фоне было совершенно невозможно различить
Глава третья
Глава третья Когда после смерти папы мама уехала с Мэдж на юг Франции, я на три недели осталась в Эшфилде одна под неназойливой опекой Джейн. Именно тогда я открыла для себя новый спорт и новых друзей.В моду вошло катание на роликах. Поверхность пирса была очень грубой,
Глава третья
Глава третья Ивлин пригласила меня приехать к ней в Лондон. Робея, я поехала и неописуемо разволновалась, оказавшись в самой гуще театральных пересудов.Наконец я начала немного разбираться в живописи и увлекаться ею. Чарлз Кокрэн страстно любил живопись. Когда я впервые
Глава третья
Глава третья Сов. секретно Москва. Центр. Радиостанция «Пена». 1.9.42 г. «Приказ об активизации действий в связи с наступлением наших войск на Западе и в районе Клетской получил. Гриша». Что ж, приказ об активизации был предельно ясен. Но для него, капитана Черного, это
Глава третья
Глава третья о богопочитании, о том, что они признают грехами, о гаданиях и очищениях и погребальном обрядеСказав о людях, следует изложить об обрядности; о ней мы будем рассуждать следующим образом: сперва скажем о богопочитании, во-вторых, о том, что они признают грехами,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Недавно я играла концерт в петербургском Эрмитаже на фестивале, посвященном дирижеру Саулю-су Яцковичу Сондецкису. Музыканту, подвижнику, человеку редкого такта и душевной теплоты, с которым мне посчастливилось сыграть свой первый концерт с оркестром.На
Глава третья
Глава третья Теперь Ливан истории страница, И фотографии все в рамках на стене, Но до сих пор мне продолжает сниться Последний бой в том дальнем патруле… Перед тем как батальон очередной раз бросили в Ливан, нас послали на учения в пустыню. Hа стрельбище Зорик дорвался до
Глава третья
Глава третья Из бабушкиных детей всех ближе к ней была моя мать. Они почти не расставались. Флигель, в котором мы жили, не именовался среди домашних «флигелем», а торжественно величался «домом молодой барыни», в отличие от «дома старой барыни».Дом «старой барыни», высокий,
Глава третья
Глава третья Нам душу грозный мир явлений Смятенным хаосом обстал. Но ввел в него ряды делений Твой разлагающий кристалл, — И то, пред чем душа молчала, То непостижное, что есть, Конец продолжив от начала, Ты по частям даешь прочесть. Из «Оды Времени» 1На Мелантриховой
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Саша сидит около дома на сучковатой изгороди, нетерпеливо болтая босыми, загорелыми до черноты ногами, и сердито поглядывает вокруг. В лужицах воды и на мокрой траве радостно сверкает солнце. С противоположного берега Вырки доносятся звонкие ребячьи голоса
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Заседание бюро райкома партии, на котором обсуждался вопрос о подготовке к подпольной работе на случай эвакуации района, закончилось поздно ночью.Командир истребительного батальона Дмитрий Павлович Тимофеев вернулся домой очень усталый.В полутемной
Глава третья
Глава третья — Много знать, чтобы верно чувствовать. — Учеба у представителей других видов искусства. — Работа над внешним образом. — Перевоплощение.— Грим оперного артиста. — Жестикуляция и мимические нюансы. — Эмоция и пение. — Темпо-ритм. — Искусство