ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
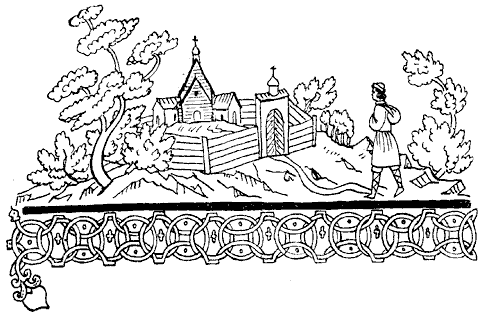
Монастырь. Келья. Острые запахи рыбьего клея и олифы.
Перед законченной иконой — человек в черном облачении.
Икона видна хорошо: рисунок строг и точен, краски положены жидкими слоями «в приплеск», одна на другую, тени санкиря дымчато-зелены, вохрение неповторимо нежно.
Кажется, икона излучает мягкий колеблющийся свет. Но лицо мастера отвернуто.
Отвернуто вот уже шестьсот лет.
Мы шестьсот лет обречены видеть только монастырскую келью, удивительные творения легендарной кисти и ничего больше.
Жизнь художника-гения, не знавшего себе равных среди современников, почти неизвестна.
Имена Фра-Анжелико, Джотто, Рафаэля говорят нам несравненно больше, чем простое русское имя — Андрей Рублев.
Загадочная судьба!
Его близко знают, его талант высоко ценят летописцы, зодчие, государственные деятели эпохи.
Города стремятся залучить его для росписи лучших храмов. Летописцы называют «мудрым» и «чудным». Поражаясь той душевной щедрости, той доброте и любви, тому уважению к людям, которые водят кистью художника, они с наивной искренностью переносят восхищение силой человека-творца на его произведения, благоговейно считая написанные им иконы чудотворными.
Высшего признанья средневековье дать не может, и никому, кроме Андрея Рублева, не дает.
Но подробности жизни великого мастера погребены в веках, и тайну погребения они хранят ревниво и неусыпно.
Самый крупный писатель времени — Епифаний Премудрый, инок той же Свято-Троицкой обители, где послушничал Рублев, — о мастере не пишет. Другой писатель — Пахомий Логофет — говорит о нем скупой скороговоркой.
Летописи столь же немногословны.
Епископ Иосиф Волоколамский называет мастера святым, но о «житии» святого Андрея Рублева — ни звука.
Это походит на заговор.
Несколько сухих указаний летописи на роспись Рублевым храмов, на его совместную в 1405 году работу с Феофаном Греком в Благовещенском соборе Московского Кремля, известие о переходе живописца из монастыря Святой Троицы в Спасо-Андрониковский, рассказ о создании им в двадцатые годы XV века деисуса для той же Святой Троицы и похожее на легенду сказание о смерти художника — вот и все, что получаем мы от прочтения «древних пергаменов».
Год рождения Рублева нигде не указывается. О происхождении его ничего не говорится. Причины перехода из одного монастыря в другой не объясняются. Об отношениях Рублева к окружающим его людям и событиям — почти ничего.
Лицо отвернуто.
Фигура неподвижна.
Молчание нерушимо.
Что это? Случайность? Или церковь предпочла, чтобы никто не мог объяснить истинных дум и чувств Рублева, узнать, в каком душевном состоянии создавал мастер свои иконы и фрески, какие руки «славили» «спасителя» и во имя чего? Можно думать об этом по-разному, если забыть историю и не помнить, сколько раз официальные благочестие и «целомудрие», эти непримиримые враги человеческого достоинства, пытались скрыть или приукрасить жизнь титанов мысли и духа, задыхавшихся от фарисейства и подлости окружающего мира. Нет! Церковь знала, что делает, и надо отдать ей должное: она во многом успела.
Искусство способно потрясти мысль и чувства, покорить и вдохновить лишь тогда, когда очевиден нравственный подвиг его создателей.
Гробница Медичи, изваянная Микеланджело, — это не аллегорические фигуры Дня и Ночи, и скульптор скорбит не об усопшем тиране. Это во всеуслышание высказанный приговор эпохе предательств и насилий, это осиновый кол, вбитый на глазах народа и притеснителей в могилу ничтожества.
Сказки Пушкина — это смелый разговор поэта с эпохой, бестрепетное объяснение с Николаем, казнившим декабристов.
Благо, что мы знаем судьбы Микеланджело и Пушкина и понимаем их язык.
Иначе отчаяние великого флорентийца показалось бы удручающим, а повествование о Царе Салтане неуместной по времени шуткой автора «Евгения Онегина». Ничто не может быть страшней для художника, чем утрата общего языка с грядущими поколениями, и трагично, когда пепел души принимают за комок глины.
А для многих искусство Андрея Рублева действительно комок глины.
Сам художник в этом не виноват, ибо человек не волен выбирать, в каком столетии родиться — в четырнадцатом или в двадцатом.
Неповинны историки и искусствоведы. Они свое дело делали и делают.
Повинна литература. Ей надо было давно открыть «тайну» Андрея Рублева, объяснив искусство художника его жизнью и его жизнь искусством. Сказать же, что Рублева отличают характерные белильные блики и «облачная» раскраска, не значит взволновать сердца. Надо поведать, какую боль и какую радость призваны были они выражать, эти блики, эта раскраска.
Искусство великого инока определяют как искусство эпохи освобождения от татарского ига, создания русского централизованного государства, роста национального самосознания народа.
Обобщенность такого определения справедлива, но оставляет отдельные, в разное время и при разных обстоятельствах написанные иконы и фрески необъясненными.
Ведь если бы миропонимание Андрея Рублева в годы работы с Феофаном Греком и во время росписи Троицкого собора было одинаково, ему просто незачем было бы писать. Он умер бы как художник.
Но абсолютно одинаковое отношение к совершенно разным событиям, неподвижность чувств немыслимы. А Рублев пишет и в 1400 и в 1420 годах!
Так нельзя ли все-таки постичь «тайну» Андрея Рублева, чтобы он шагнул через пропасть столетий и встал рядом с нами, «как живой с живыми говоря»?
Здесь всегда ставят вопрос: достаточно ли для этого мы знаем о художнике, не слишком ли крохотны сведения о нем? Вопрос надо ставить иначе.
Так ли мало мы знаем о Рублеве?
Вгляделись ли в отрывочные свидетельства источников?
Решились ли хоть раз уподобиться тем художникам-реставраторам, что воссоздают погибшие фрески, их едва намеченные линии, угадывая стертые временем формы и первоначальные цвета?
Почти не вглядывались, почти ничего воссоздать не пытались.
А попытаться сделать это пора.
Неподвижная фигура легендарного живописца должна ожить.
Не в эпизодах исторических анекдотов.
Не в досужих россказнях церковников.
В драматических событиях самой эпохи.
Придется «разгадывать» множество загадок.
И прежде всего самую первую из них: время рождения художника.
Считается, что установить дату рождения Рублева хотя бы и приблизительно почти невозможно. Расписавшись в этом, мы сразу теряем право говорить о духовном формировании Андрея Рублева, оказываемся бессильны воссоздать атмосферу эпохи, указать на события, определившие своеобразие пути и развития художника.
Ограничиться указанием на то, что Рублев живет во время освобождения от татарского ига, нельзя.
Одно дело, если Андрей Рублев происходит из боярского рода, другое — если он простолюдин; одно — если его убеждения совпадают с убеждениями официальной церкви, другое — если он в чем-то расходится с нею; одно — если в годину Куликовской битвы Рублев зрелый мужчина, другое — если знает о битве понаслышке.
Привычка рассматривать прошлое не иначе, как столетиями, полагая, будто отжившие поколения мыслили и созидали в полном согласии с нашими социально-экономическими и политическими определениями эпох народной жизни, — застарелая привычка.
Эпоха в жизни народа и жизнь того или иного поколения в эту эпоху — далеко не одно и то же.
Но как все-таки определить год рождения Андрея Рублева? Какое отношение к подобной задаче могут иметь высказанные соображения?
Оказывается, имеют.
Рассматривая творчество Андрея Рублева как результат величайших сдвигов в сознании народа, расправившего богатырские плечи на Куликовом поле, торопливо склоняются к заманчивому предположению, что живописец — очевидец этого величественного события.
Ведь светлое, славящее человеческую личность искусство Рублева вне общего национального подъема необъяснимо, а факты биографии художника как бы подталкивают признать, будто Андрей Рублев — очевидец битвы с Мамаем.
В двадцатые годы XV века, сорок лет спустя после Куликовского сражения, Андрей Рублев и его учитель Даниил Черный расписывают стены и деисус Троицкого собора в монастыре Святой Троицы.
Источники называют Рублева этой поры «старцем», «седины честни имея», и говорят, что игумену Святой Троицы Никону пришлось уговаривать художников-иноков Спасо-Андрониковского монастыря в Москве, — прежде чем они дали, наконец, согласие на работу.
В первоначальном нежелании Андрея Рублева и Даниила Черного отправиться из Москвы за семьдесят пять верст к Никону усматривают старческую тягу к покою, старческую боязнь пути, немощность обоих живописцев.
Это похоже на действительность. Ведь Андрей Рублев умирает всего несколько лет спустя, а что может быть естественнее смерти в преклонном возрасте!
Скольких же лет скончался Рублев?
Не зная этого точно, пытаются установить «истину» хотя бы приблизительно. Ведь история сохранила даты жизни и смерти многих современников Рублева, скончавшихся в старости.
Среди них немало монахов того самого монастыря Святой Троицы, где мастер принимал послушание.
Прежде всего это основатель обители Сергий Радонежский. Он родился в 1314, а умер в 1392 году, то есть семидесяти восьми лет.
Затем ученики и «собеседники» Сергия: Сильверст Обнорский, скончавшийся на сто двенадцатом году жизни; Кирилл Белозерский, скончавшийся на девяносто первом; уже упоминавшийся Епифаний Премудрый, скончавшийся на семидесятом; Авраамий Галичский, проживший, судя по всему, не меньше Кирилла, и другие «старцы», вроде Дмитрия Прилуцкого, любимца Донского, прожившие лет по восемьдесят.
Иные из этих людей, как бы ни относиться к их «подвигам во славу божью», испытали много тягот и лишений, а прожили все-таки немало.
Полагают, что Андрей Рублев также прожил лет семьдесят, семьдесят пять, а соглашаясь видеть в художнике двадцатых годов XV века немощного старика, еще определеннее склоняются к мысли, что умер Рублев скорее всего лет восьмидесяти.
Умер же он согласно источникам в 1427 или в 1430 году.
Так, рождение Андрея Рублева относят к 1357 или 1360 году.
Стало быть, разгром Мамая последовал, когда живописцу было около двадцати лет, когда он мог оказаться не только свидетелем, но и участником знаменательного для Руси события!
Допустите эту заманчивую возможность, и рядом с Андреем Рублевым встанут яркие фигуры тогдашних князей, полководцев и государственных деятелей: Дмитрия Донского, его политических наставников митрополита Алексия и игумена Сергия Радонежского, ратных учителей и соратников — Боброка, Бренка, Владимира Хороброго, тысяцких Вельяминовых; как запоют трубы в Переяславле и загремят бубны в Ростове, созывая народное ополчение стать за землю русскую и веру христианскую против агарян нечестивых; как примут на себя первый, самый страшный удар татарской конницы пешие смерды горшечники, бондари, кузнецы да кожевники — вооруженный вилами и косами, начисто порубленный в битве головной полк русского войска.
Открывающаяся воображению картина заманчива, она гипнотизирует красками. Но, допуская возможность рождения Рублева в 1360 году, исследователи лишь запутываются и оказываются не в состоянии «восстановить» его жизнь.
Как, например, логично объяснить хотя бы то, что первая, известная нам работа художника относится к 1405 году и что перед этим он «живяше в послушании у Никона», то есть является, вероятно, всего лишь послушником монастыря Святой Троицы?
Выходит, Андрей Рублев начинает свою бурную деятельность, получает признание лишь на сорок пятом году жизни!
Ведь никто, нигде о Рублеве как авторе более ранних работ не упоминает, зато с 1405 года он из поля зрения летописцев уже не выходит.
Объяснять это приходится следующим образом: Андрей Рублев учится и работает поначалу где-то за пределами Руси и появляется в Москве уже в зрелом возрасте.
Но этому противоречит, во-первых, известие, что Рублев ученик Даниила Черного, инока Святой Троицы, а во-вторых, его послушничество у Никона.
Никон — преемник основателя Троицы — Сергия Радонежского. Сергий умирает в 1392 году. Однако Никон становится игуменом не сразу. В знак скорби по Сергию он дает обет шестилетнего молчания и выдерживает его, сменяя временного игумена Савву Сторожевского только в 1398 году.
Пахомий же Логофет называет Андрея Рублева, послушником не у Сергия, не у Саввы, а именно у Никона, то есть явно относит появление Андрея среди братии Святой Троицы к концу девяностых годов, году 1398–1399-му.
Чем же в таком случае занимается Андрей Рублев почти сорок лет жизни?
Монашествует где-то? Но зачем тогда ему выдерживать послушничество и у Никона? Ведь при переходе из монастыря в монастырь «звания» сохранялись. «Чернец» и в новой обители оставался «чернецом», а «старец» — «старцем».
Правда, понять выражение древнего писателя «был в послушании у Никона» можно и так, что Рублев просто считался «младшим» по отношению к «старшему брату» Никону. Однако источники, уверенно называя две «рублевские» обители — Свято-Троицкий и Спасо-Андрониковский монастыри, — упорно и единодушно молчат о какой-либо третьей, где мог начать свой монашеский путь художник.
Значит, до прихода в Святую Троицу Андрей Рублев не монах. Но, значит, он и не живописец: средневековье иной живописи, кроме церковной, не признает и живописцев, не имеющих сана, не знает.
Искусство миниатюры, избирающей сюжеты не только из священных писаний, все равно возможно только в монастырях, где переписываются книги.
Да и мыслимо ли, чтобы в ту эпоху «лики святых» дерзнул писать «мирянин»?
Как же согласовать несогласуемое? Опять-таки допустив единственное: почти до сорока лет Андрей Рублев находится «в миру», и талант его проявляется очень поздно… Что ж? Это возможно.
Пожив, многое испытав, о многом передумав, человек решает круто изменить свою судьбу, постригается и, будучи от природы одаренным, становится монастырским живописцем.
Но и здесь трудно свести концы с концами. Принимая подобную схему, возраст верного товарища и учителя Андрея — Даниила Черного — приходится считать в последние годы работы обоих весьма преклонным. Как учитель Даниил, вероятно, все-таки старше ученика. Будь иначе — это бросилось бы в глаза современникам и, наверное, было бы отмечено. За девяностолетним Даниилом надо тогда признать феноменальную работоспособность: расписать, стоя на краю могилы, подряд два собора, и расписать, не утратив силы чувств и остроты глаза, может поистине только человек исключительной физической крепости, умеющий писать не по-стариковски быстро и свежо.
Важнее другое «но».
Судьба Андрея Рублева при подобной схеме предстает тоже как нечто исключительное и по-прежнему загадочное.
Сорок лет его жизни остаются неизвестны. Они как бы пропадают.
Но пропадали ли они?
Дело в том, что свидетели тех или иных событий не всегда самые лучшие выразители этих событий в искусстве.
Льву Толстому не пришлось проделать кампанию 1812 года, но «Войну и мир» написал он, а не Денис Давыдов.
Если же говорить о конце XIV — начале XV века в истории русского народа, то борьба с монголо-татарским игом 1380 годом не оканчивается. Сразу за 1380 годом разыгрывается московская трагедия 1382 года, когда брошенные Дмитрием Донским и боярами «простолюдины» поднимают бунт против княжеской власти, сами отражают Тохтамыша от Москвы и становятся жертвой предательства родственников Дмитрия.
Затем всенародное ополчение 1395 года против Тамерлана, нашествие 1408 года, схватка с Эдигеем и лежащая на плечах народа еще долгие годы дань Орде…
Художнику было что видеть в это бурное время и кроме поля Куликова, хотя благодарная память народа никогда, конечно, не забудет тех, кто впервые дал отпор вековечному врагу!
Надо поэтому представить себе жизненный путь Андрея Рублева иначе, нежели его представляют те, кто хочет найти в художнике непременного очевидца событий 1380 года.
Иначе и проще!
Для этого имеются все основания. Мы же знаем, как обычно начинал в древней Руси живописец!
Художники той эпохи чтятся наравне с первыми лицами в княжествах и епископатах, положение их прочно и обеспечено, может считаться завидным.
Эти соображения побуждают некоторые родителей отдавать сыновей в обучение к мастерам-монахам, как сделала, например, семья первого известного нам русского иконописца Алимпия.
Родителей Алимпия расставание с сыном, его будущее иночество ничуть не пугало и не огорчало.
Наоборот, одобрение учителей-греков, бесспорно пожелавших ознакомиться с возможностями будущего художника, прежде чем согласиться взять Алимпия к себе, должно было вызвать в семье радость: сын становился на верный путь, его ждали почет, достаток и, как последняя награда, верное «спасение», «пребывание в раю».
Косвенно «божья благодать» могла бы, конечно, осенить в «загробной жизни» и родителей праведника…
Способные юноши отправлялись в монастыри для обучения мастерству живописи в XIV и XV веках, вероятно, более часто, чем принято думать.
Откуда бы взяться иначе в средние века такому большому числу даровитых мастеров?
Видимо, способных молодых людей брали «на послушание» еще в отрочестве, лет четырнадцати-пятнадцати, и это уже определяло судьбу большинства из них. Прожив за монастырской оградой несколько лет, утратив связи с прошлым, не всякий ученик, даже оказавшись посредственным художником, мог решиться покинуть келью. Ведь его знания «в миру» были вовсе бесполезны.
Может быть, для таких учеников жизнь становилась адом, бесконечной мукой, характер человека ломался, психика его навсегда травмировалась.
Но какая-то часть юношей находила в живописи свое призвание, и сама радость творчества как-то искупала для них уродства монастырского быта и уставов.
Глаза тех, кто всегда и во всех случаях рясу монаха считает символом убежденного аскетизма, княжеский шлем — залогом мужества, а соху — иероглифом униженности, — слепые глаза.
Вот почему естественно допустить, что Андрей Рублев, подобно своему предшественнику Алимпию, был юношей отдан в ученики мастерам Троицкого монастыря.
И, едва допустишь это, известные нам факты биографии художника тотчас начинают согласовываться и перестают противоречить друг другу. Вот они.
Год поступления в ученики, и именно в послушники, 1398.
Рублеву лет пятнадцать.
В 1405 году двадцатидвухлетний мастер, о котором до сей поры ничего не могло быть известно, но чей талант замечен, получает работу в Кремле.
Через три года, двадцати пяти лет, расписывает с Даниилом Черным Успенский собор во Владимире. Он молод и полон энергии. У него все впереди.
В 1425–1428 годах, расписывая собор Святой Троицы, мастер достигает вершин творчества. Здесь ему под пятьдесят лет.
Четыре десятка лет жизни при такой «хронологии» никуда не пропадают.
Только как быть с известием о «сединах» Рублева, умирающего, в связи с нашим новым предположением, очень молодым, всего сорока семи — сорока восьми лет? Как объяснить его столь раннюю, не по эпохе, казалось бы, кончину?
Эти «опасные» вопросы вовсе не столь опасны.
И вот почему.
Понимать выражение «старец» и «седины честни имея», употребленные по отношению к Рублеву двадцатых годов XV века его современниками, можно и нужно не буквально.
«Старец» в монастыре не обязательно дряхлый старик. Это «чин», определяющий отнюдь не физическое состояние инока, а степень достигнутой им святости.
Слова же «седины честни имея» — устойчивая книжная формула, опять же говорящая не столько о возрасте описываемого лица, сколько об его внутреннем облике, кажущемся книжнику достойным и благородным.
Эта формула аналогична употреблявшейся в отношении князей, «ополчившихся на рать», да и другим эпическим формулам.
Летописца ничуть не смущало, например, что иной описываемый им князь-ратник в годы «рати» еще лежит на руках у мамок и пускает беззубым ртом пузыри.
Поскольку событие происходило в «княжение» упомянутого правителя, то, сколько бы ему лет ни было, все свершалось ближними боярами от его имени. Летописец и облачал младенца в доспехи, опоясывал мечом, усаживал в боевое седло.
Конечно, летописец знал, что никому из современников в голову не придет понимать его выражение в прямом смысле.
Но еще в прошлом столетии летописцев очень часто так и понимали, да и в наши дни, случается, дивятся боевым походам девяти- и двенадцатилетних мальчиков — князей, изображают их «чудом природы», нисколько не подозревая, видимо, что «чудо природы», как всякий мальчик, во время приписываемых ему «деяний» спокойно жует пряники и играет с ровесниками во дворе родительской усадьбы.
Поэтому известие о «сединах» Рублева можно воспринять просто как дань уважения художнику.
А относительно ранняя смерть Андрея Рублева вряд ли случайна. Никто не обращает внимания на то, что она последовала почти одновременно со смертью Даниила, а возможно, Никона и многих, многих других лиц.
Летопись видит в одновременности кончины обоих иноков неразрывность связывавших их «духовных уз». Даниил умирает немного позже Рублева, и об этом сообщается так:
«Егда хотяше Даниил телесного соуза разрешитися, абие видит возлюбленного ему Андрея, в радости призывающего его. Даниил же, яко виде Андрея, его же желание, велми радости исполнился, и братии предстоящим ему исповедаше пришествие сопостника его и тако в радости дух свой Господеви предаст».
Трогательная привязанность учителя к ученику прекрасна.
Мы благодарны летописцу за эти драгоценные строки, но взглянем на дело более трезво. Считать, что смерть Даниила не что иное, как результат желания соединиться на небесах с единственным другом («егда хотяше Даниил…»), попросту несерьезно.
Монах-летописец стремился изобразить смерть церковного художника в угодных церкви тонах. Верная дружба Даниила и Андрея позволяла сделать это без особых натяжек.
Упоминать же лишний раз, что в конце двадцатых годов в Москве свирепствовала страшная эпидемия не то оспы, не то чумы, летописец совершенно естественно не хотел.
Иначе, что бы осталось от его выдержанной в церковном духе легенды?
А дикий «мор», постигший столицу Московского княжества, был и косил людей направо и налево. Этот мор и мог послужить причиной ранней смерти Рублева, причиной его почти одновременной кончины с Даниилом.
И вот еще любопытная деталь в пользу сравнительной «молодости» Рублева.
Вглядитесь в строки летописей и жития Никона, говорящие об Андрее Рублеве!
Летопись под 1405 годом рассказывает, что Благовещенский собор Кремля расписывали: «Феофан иконник гречин, да Прохор, старец с Городца, да чернец Андрей Рублев».
Рублев назван чернецом и упомянут третьим.
Летопись под 1408 годом: «В лето 6916 майя 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирския повелением великого князя Василия Дмитриевича, а мастеры Данило иконописец да Андрей Рублев». Оба художника названы только мастерами, и Андрей — вторым. Пахомий Логофет о росписи заложенного в 1422 и завершенного постройкой около 1423 года Троицкого собора говорит в похвалу игумену Никону: «Церковь же бо яко рехом красну воздвиг, подписанием чюдным и всяческими добротами украсив… умолены были от него чюднии и добродетельнии старцы и живописцы Даниил и Андрей…»
Вот когда — двадцать лет спустя после первой работы! — Андрея называют, наконец, не чернецом, не мастером, а старцем! Но и тут он назван вторым, вероятно, как более молодой, чем его учитель Даниил. Разве же не показательны эти свидетельства в их сопоставлении?!
Смущает, конечно, уже упоминавшееся нежелание Андрея Рублева и Даниила Черного расписывать по просьбе Никона Троицкий собор. Ведь художники еще полны сил, что же мешает им сразу откликнуться на зов и украсить единственный каменный храм обители, с которой, вероятно, связано у каждого столько воспоминаний!
Вероятно, эти самые воспоминания и мешают. В начале четырехсотых годов оба, как известно из летописей, почему-то покинули Свято-Троицкий монастырь.
Произошло что-то неизвестное нам, что заставило друзей уйти в Москву.
Не связано ли это с какой-то ссорой с самим Никоном? Пахомий Логофет оговаривается, что Никону, пожелавшему много лет спустя расписать Троицкий собор, пришлось самому поехать в Москву и «умолять» обоих «старцев» прийти в обитель для работы.
Дело выглядит так, будто Никону решиться на разговор с художниками было нелегко, будто он пожертвовал при этом какими-то личными чувствами, подавил их ради памяти Сергия.
Но тогда действительно, не боясь вступить в противоречие с известными фактами, мы смело можем датировать рождение Андрея Рублева началом восьмидесятых годов XIV века.
Два события, полные величия и драматизма, происходят в истории русского народа как раз в те годы, когда, по нашим соображениям, должен был родиться Андрей Рублев. Это Куликовская битва 1380 года и оборона Москвы от Тохтамыша в 1382 году.
Как известно, о родителях Андрея Рублева никаких сведений нет.
Попытки определить место рождения живописца очень наивны. Так, большой поклонник творчества Рублева И. М. Снегирев считал Рублева… псковичом только на том основании, что в 1468 году (!), то есть почти сорок лет после смерти художника, в числе послов Пскова к Ивану III был тезка Рублева — боярин Андрей Семенович Рублев.
Но доказывать родство живописца с псковскими боярами, основываясь на простом совпадении имен и фамилий двух принадлежащих разному времени людей, по меньшей мере рискованно.
Большего внимания заслуживает не произвольное толкование Снегирева, а очень примечательная приставка к имени художника в «сказании об иконописцах», где Рублев, правда единственный раз, назван Андреем Радонежским. Кроме Андрея Рублева, в истории русской церкви «Радонежскими», то есть «из Радонежа», именуются всего два лица: первый и второй настоятели монастыря Святой Троицы Сергий и Никон. Сергий, строго говоря, родился в Ростове, но с 1328–1330 годов действительно жил с родителями в Радонеже, возле нынешнего Абрамцево, в пятидесяти четырех верстах на север от Москвы и в четырнадцати верстах от основанного им позже, в 1337 году, монастыря.
С Никоном обстоит иначе. Никон родом из Юрьева-Владимирского, пострижение принимает около Серпухова, но зато потом до кончины живет в Свято-Троицком монастыре, руководя его братией, и, видимо, получает прозвище «Радонежский» только поэтому.
Пребывание Андрея Рублева у Никона, как мы видели, было очень недолгим, значит, прозванным «Радонежским» за долгую жизнь вблизи Радонежа, подобно Никону, художник не мог быть.
Скорее уж эта приставка к имени обозначает принадлежность Рублева к радонежцам, жителям небольшого городка, в 1328 году отданного Иваном Калитой в княжение своему младшему сыну Андрею.
Но если даже Рублев не радонежец, то пскович с еще меньшим основанием.
Зачем родителям псковского юноши отдавать его в «науку» за тридевять земель к каким-то москвичам, если в самом Пскове сколько угодно монастырей и художников, а на крайний случай рукой подать до Новгорода?!
Версию о псковском происхождении Рублева надо оставить.
Зато версия о происхождении Рублева из Радонежа или из другого городка близ Москвы (может быть, и из Москвы!) весьма правдоподобна.
Тут сразу находит себе объяснение учеба Рублева не где-нибудь, а как раз в монастыре Троицы. Ближе к Радонежу, правда, монастырь в Хотькове, но это монастырь не столь знаменитый, и он не имел, насколько известно, своих живописцев.
Ясно, что обучаться искусству иконного письма Андрея туда не отдали бы — там не у кого учиться.
Немаловажно и другое. Поступить в любой монастырь того времени не просто. Большинство монастырей требует «вклад», то есть принимает в братию лишь состоятельных людей, а в Свято-Троицкой обители еще придерживаются строгих правил, установленных Сергием: принимают в иноки, не делая различия бедным и богатым.
Но кто же растит Андрея Рублева, кто же решает его судьбу?
Почему нигде нет никаких следов, позволяющих разыскать его родителей или близких?
Мы попытаемся увидеть истину в самом отсутствии точных данных.
Судьба родителей мальчика, рожденного в самом начале восьмидесятых годов где-то вблизи Москвы, скорее всего была трагичной.
В битве с Мамаем и при нашествии Тохтамыша сотни тысяч московских семей потеряли кормильцев или погибли целиком.
Так мог оказаться сиротой еще в младенчестве и Андрей Рублев.
Он сам ничего не знал о своих настоящих родителях, ничего не мог сказать о них современникам, и те ничего не передали нам.
Возникает сомнение — откуда прозвище «Рублев»?
Может быть, конечно, это подлинная, каким-то образом ставшая известной фамилия живописца, может быть, это только фамилия его воспитателей.
В пользу последнего предположения свидетельствует «Сказание об иконописцах», то самое, где Рублев единственный раз назван «Радонежским».
Там сказано: «…Андрей Радонежский, прозванный Рублевым». Прозванный!
Не из рода некоих Рублевых, а прозванный так из каких-то соображений! Носящий эту фамилию независимо от прочих Рублевых!
Правда, «Сказание об иконописцах» относится к XVII веку. Но столь же бесспорно, что автор его имел под рукой какие-то документы, знал слухи и предания, утраченные нашим, XX веком.
Как бы ни смотреть, однако, на фамилию Рублева, ясно еще одно: он выходец из народа.
В Московском княжестве и окружающих Москву землях родовитых людей с такой фамилией мы не находим.
В торговом Пскове боярин Рублев существовать, конечно, мог. На то это и был меркантильный город, где сановитые люди прежде всего и крепче всего были связаны с куплей-продажей и меной и где это неминуемо отзывалось даже на их прозвищах.
Но для Москвы фамилия Рублев — плебейская фамилия.
В этом убеждает еще и то, что составители «житий» Сергия Радонежского и Никона, называя «выдающихся» сподвижников обоих игуменов, старательно подчеркивают «благородство» или «мирское богатство» тех, кто обладал подобными «достоинствами».
Немало говорится в житиях о бывшем ростовском вельможе дьяконе Онисиме, о знатном киевлянине Стефане Махрищском, о галичском дворянине Иакове Железнобровском!
Епифаний Премудрый не упускает случая написать и про «карьеру» «преподобного» Кирилла, в миру — Косьмы, дослужившегося у боярина Тимофея Васильевича Вельяминова до чина «дворецкого»! Все-таки был близок к сильным мира сего!
Об Андрее же Рублеве ничего похожего не написано ни Епифанием, ни кем-либо еще. Да и что напишешь о плебее без роду и племени, хотя он и прославлен как художник?
Плебей. Сирота, воспитанный в чужой семье, на чужом хлебе!
Вот он идет, пятнадцатилетний, по пыльной дороге из Радонежа к монастырю Святой Троицы.
На нем ради нынешнего дня чистая холщовая рубаха и новые лапти.
В руке — узелок с хлебом и кое-какой одежонкой.
Ему и радостно, и жутковато, и тоскливо.
Радостно потому, что прежняя жизнь была горькой, обидной, но теперь с ней покончено.
Жутковато потому, что он решился на смелый шаг, а не знает еще, какой будет новая жизнь.
Тоскливо: ведь он прощается навсегда с тяжелой, несправедливой, но все-таки прекрасной жизнью «в миру».
Он переходит медленную речонку Консеру. Поднимается к Маковцу. Входит в дубовую ограду обители.
Ворота захлопываются.
Он невольно оглядывается.
Вернуться?.. Но к чему? К нищете, обидам, попрекам?
Он встряхивает темными кудрями.
Нет!
Здесь его ждут правда, братство, человечность, которых он не видел и которых жаждет! Здесь он будет писать иконы, говорить людям о том, как им следует жить!
И он ступает на тропу, ведущую к островерхому деревянному храму, откуда слышится хор, славящий «спасителя».
Отроку кажется, что он у цели.
Он еще не знает себя.
Но именно с этого дня начинается жизнь художника Андрея Рублева.
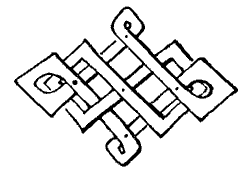
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава вторая ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ПЕРВАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Глава вторая ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ПЕРВАЯ ИДЕОЛОГИЯ Чем глубже проникают наши воспоминания, тем свободнее становится то пространство, куда устремлены все наши надежды — будущее. Криста Вольф 1.В 1920 году от нас ушла Елена Францевна. Потом за три года сменились еще несколько
Первая глава
Первая глава Эти воспоминания — не обо мне, а о других людях. О нас прекрасно напишут другие. И, естественно, наврут с три короба, но это — их дело.О прошлом нужно говорить или правду, или ничего. Очень трудно вспоминать, и делать это стоит только во имя правды.Оглядываясь
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ Мой отец Наш дом • Крестная • Дедушка Василий • Поступление мое в школу • Порядки тогдашних приходских и уездных училищ • Историк города Углича Ф. Х. Киссель • Кончина крестной и матери • Подлекарь Петр Иванович и лекарка Елена Ивановна. Родился я в
Глава первая. ПЕРВАЯ ЗИМА В ЯЛТЕ
Глава первая. ПЕРВАЯ ЗИМА В ЯЛТЕ Уже из Ялты Чехов написал сестре, как доехал до Крыма: «В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море; а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то
Глава первая
Глава первая Со мною вместе поднимались по тревоге, В жару и в ливень шагали в патрули, В Южном Ливане нет теперь такой дороги, Где б не прошли мои товарищи-дружки. Дружки это мы: Леха, Зорик, Мишаня, Габассо и я. Все мы, кроме Габассо, конечно, родились на просторах
Глава первая
Глава первая ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУКА КАК ТАКОВОГОПук, который греки называют словом Пордэ, латиняне — Crepitus ventris, древнесаксонцы величают Partin или Furlin, говорящие на высоком германском диалекте называют Fartzen, а англичане именуют Fart, есть некая композиция ветров, которые
Глава первая
Глава первая Как и что думал Андрей Андреевич Власов, вступая в свою последнюю жизнь советского заключенного, мы можем только догадываться, анализируя материалы следствия и стенограмму судебного заседания.Делать это непросто, поскольку материалы эти сохранили
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ До 1891-92 г. кн. Сергей Николаевич жил исключительно философскими, научными и семейными интересами и область политики была ему совсем чужда. С 1892 голодного года наступил в этом отношении перелом в его жизни. Он не мог продолжать спокойно заниматься философией
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава первая
Глава первая В 14 часов 23 минуты самолет, пилотируемый военным летчиком старшим лейтенантом Иваном Фроловым, потеряв управление, вошел в крутое пике и через 18 секунд столкнулся с землей…Окровавленное тело Фролова было отправлено в госпиталь, полеты приостановлены,
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ Василий с трудом поднял тяжелые веки, и в полубезжизненные глаза ему глянул бездонный серовато-голубой, будто выгоревший от солнца, купол. Тишина звенела в ушах, словно незримые пальцы задевали тугие струны, и монотонные звуки, поднявшись над землей,