15
15
О Аттила, когда ты вернешься с четырьмястами тысячами всадников, чтобы сжечь эту прекрасную Францию, страну подошв и подтяжек?!
Гюстав Флобер Эрнесту Шевалье
«Преклонитесь перед всеми этими отталкивающими фигурами, перед этой Магдалиной с опьяненными глазами, перед этой распятой Девой, бездушной, гипсовой и бесформенной, перед этим отвратительным, гнойным, ужасным телом, которое осмеливаются показать нам как изображение сына божия...
Он забавляется в морге чумой и холерой, вот его препровождение времени, вот его радость».
Что за дьявольщина! Он не желал никого эпатировать — он, всегда старавшийся быть комильфо. Он был добросовестным мастером и хотел только волновать души других. Но, видимо, души других для волнений приспособлены не были.
Он был знаменитостью, ему поручались грандиознейшие заказы эпохи — над ним смеялись, как над мальчишкой. Пресса, проклятая пресса, писаки — от них спасения не было.
Он швырял в них холстами, он отплевывался, он хотел их задавить своим изобилием — в двух Салонах подряд — в 1840 и 1841 годах — он выставил «Правосудие Траяна» и «Взятие крестоносцами Константинополя», два грандиозных холста, две великолепные фантазии.
«Вокруг императора волнуются знамена, и земля дрожит под копытами его лошади... Вдова, обезумевшая от горя, восклицает: «Цезарь, помоги моему горю, отомсти, отомсти за мое дитя, которое они убили!» Он ответил ей, как бы скучая: «Подожди, я вернусь...» — «А если ты не вернешься?» — «Тогда тот, кто после меня будет править империей, он вас рассудит». — «Но я на коленях прошу тебя, император». Поколебавшись, он вымолвил: «Утешься. Я исполню свой долг перед тем, как уехать: справедливость этого хочет и сострадание восторжествует».
Эжен вдохновился стихотворением поэта-романтика Антони Дешана.
«Справедливость этого хочет и сострадание восторжествует!» — прекрасные слова, достойные того, чтобы создать прекрасную живопись.
В Салоне 1840 года «Правосудие Траяна» было встречено улюлюканьем, не менее единодушным, нежели когда-то «Сар-данапал». Парижские газеты, жаждавшие какой-либо добычи, Изощрялись в остротах, публика от души хохотала. Особенно всех забавляла розовая лошадь Траяна. Она действительно была розовой, как фламинго. Художник обращался с цветом по своему усмотрению, как будто бы перед ним был гобелен. Критик «Ревю де Пари» полагал, что это и в самом деле ковер, сшитый из кусков другой, написанной прежде картины. Альфонс Карр, знаменитый острослов и ценитель изящного, заявил, что композиция напоминает ему процессию быков, которых ведут на бойню, и что император Траян похож на торговца скотом.
Прорвавшись сквозь оскорбительный, все заглушающий хор, Теофиль Готье и Густав Планш поместили в одной из газет восторженное стихотворение:
«Траян» в Салоне
То же самое, что «Эрнани» в театре...
Эрнани! Прошло уже десять лет, казалось бы, все привыкли, все изменилось. Увы! Победа, которую праздновали на маскараде у Александра Дюма, испарилась, словно ее и не было. То есть она, конечно, была, но плоды опять достались умеренным, тем, кто шагал в ногу с веком, не забегая вперед. Времена Давида прошли — теперь каждый знает, что персонажи должны быть одеты в соответствии с веком, что следует изучать исторический фон, что картина не должна быть зализана, как фарфоровый чайник. Но все, как говорится, следует делать с умом, чтобы никого ничего не шокировало.
Эти огромные холсты, эти вечные истины, эти античные герои — как он их трактует! Записался в романтики — оправдай ожидания; будь любезен найти занятный сюжет, не мороча нам головы своей философией; изволь показать нам костюмы, чтобы по ним мог шить портной: точность, занимательность, чувство, а не этот громыхающий пафос.
Кроме того, французы, слава Богу, не разучились еще ценить изящество линии. Строгий колорит, строгая линия — это так же прилично, как на похоронах черный фрак. Недаром г-н Энгр каждый год присылает из Рима на парижские выставки свои образцовые вещи, воспитывая публику на подлинно серьезном искусстве, а не на этой мазне.
Он и сам скоро въедет в Париж на белом коне, торжествующий, доказавший свою непреклонность, осыпаемый почестями...
В год триумфального возвращения Энгра из Рима Эжен показал в Салоне один из самых своих грандиозных холстов — «Взятие крестоносцами Константинополя».
12 апреля 1204 года крестоносцы вошли в Константинополь, дабы установить там порядок, и учинили невероятный разгром.
По улицам Константинополя стлался острый запах крови и дыма. Резня подходила к концу — Балдуин, граф фландрский и дож Венеции Дандоло объезжали улицы города — теперь они были само милосердие.
Кровь и лазурь, парча и бледная кожа умирающей женщины, необычайный, растаращенный глаз коня графа фландрского, удивительная, почти что нелепая поза этого коня, вытянувшего шею вбок, как дракон, и раздувшего ноздри, принюхиваясь к запаху странных людей и странного дымного города.
Публика снова увидела Делакруа «Резни на острове Хиос». Вместо того чтобы развиваться синхронно с общественным мнением, он подтверждал то, что уже однажды было им сказано. Будучи впереди, ниспровергая, он отставал!
Чудаки. Они не понимали, что гениальность не развивается, она созревает.
У него был свой собственный ритм, он витал в эмпиреях, только временами спускаясь на землю, но и здесь он шествовал, не обращая никакого внимания на сумятицу, топот и шум.
Он демонстрировал необычайную верность своим интеллектуальным привязанностям; он не желал шагать в ногу с веком — г-н Энгр мог бы его похвалить.
Он вернулся я Байрону, когда байронизм давно уже был модным только в провинции. Рядом с «Траяном», в том же Салоне, он экспонировал «Кораблекрушение Дон-Жуана».
Сюжет он заимствовал из второй песни самой байронической из всех поэм Байрона. Юный Дон-Жуан, которого после первого приключения с женщиной решили отправить подальше от дому, от севильских соблазнов, садится на корабль, идущий в Ливорно. С ним его наставник Педрилло, трое слуг и собачка. Вышли в море, налетел шквал, корабль терпит крушение, тонет. Те, кто успел, спасаются на боте и ялике. Ялик тоже утонул, остался бот и тридцать человек на борту, в том числе Дон-Жуан и его спутники.
Шквал утих, но море волнуется, бот заливает. Съели последний сухарь, выпили последнюю воду и ром, съели собачку, сжевали башмаки и кожу уключин. Решили, отчаявшись: тянуть жребий, кому быть убитым и съеденным. Жребий достался Педрилло. Судовой врач вскрыл ему артерию и утолил жажду остывающей кровью. Труп стали раздирать на куски. Дон-Жуан и еще два-три человека не приняли участия в пиршестве. Это их спасло. Те, кто объелся человеческим мясом, пили соленую воду и погибали в страшных корчах.
Художнику морга, чумы и холеры лучшего сюжета нельзя было придумать.
Эжен выбрал момент — тянут жребий.
Байрон сравнивал несчастных своих пассажиров с тенями, влекомыми в ад на лодке Харона.
Может быть, когда Эжен их писал, он сравнивал их с рыбаками Генисаретского озера и жалел, что от них отвернулся Христос.
Байрон был равнодушен, он смеялся, он иронизировал, он хохотал. Эжен Делакруа также не старался вызвать сострадание. Он смотрел неосуждающим оком — он сохранял спокойствие в этом вертепе, в мире, который расставался с прошедшим и встречал с недоумением будущее.
...Эжен с маниакальным упорством возвращался к тем мотивам, которые однажды уже были им разработаны. Лодка, вода, громадный, светящийся, зыбкий, неверный пласт, люди и море как действующие лица и хор в античной трагедии. Жерико первый ввел этот трагический хор во французскую живопись. Потом — «Ладья Данте». Теперь — «Дон-Жуан». Эжен вытащил себя из потока времени и запер в свою мастерскую, которую бдительно охраняла верная Женни, мастерскую, в которой всегда было жарко натоплено, как будто мастер хотел отличиться и климатом, — это был климат Марокко, климат африканских пустынь.
Между тем лихорадочная парижская жизнь стала еще лихорадочней. Буржуа, буржуа, буржуа — подобно чертям, они сновали по улицам, виляли фалдами, оживленные, как перед большой распродажей. Они толкались на бирже, потные, беспрерывно соображая, подсчитывая, — деньги стекались к деньгам, деньги изготовлялись деньгами, — все вынуждены были время от времени принимать участие в этой беспрерывной погоне, чтобы не остаться с носом, даже Эжен.
Вчитываясь в биржевые бюллетени, и он выбирал, что повыгодней. Он тоже был буржуа. Он покупал акции Лионской железной дороги, хотя самой дороги еще не видел в глаза.
Конечно, Париж был утомителен, тщеславен, фальшив, он лишал равновесия, выводил из себя... Но неожиданно выяснилось, что Париж приспособлен для работы, как ни один другой город на свете. Как будто бы вся эта пертурбация — с революциями, войнами, политическими аферами и государственными переворотами — нужна была лишь для того, чтобы дать возможность работать этой оригинально обмундированной армии, музыкантам, журналистам, художникам, певцам и актерам, чтобы Оноре де Бальзак мог каждое утро, пока еще сумерки, тащить в типографию исписанные за ночь листы, чтобы Делакруа мог каждый год выставлять по холсту величиной с целую стену.
Производительность их была колоссальна: Александр Дюма и Бальзак, Делакруа и Жорж Санд, как мельницы, они перемалывали впечатления тоннами. Жизнь — сто томов, напечатанных убористым шрифтом, сотни квадратных метров холста, покрытых изумительной живописью.
Причем они не ходили взмыленные постоянной тяжелой работой — это были нормальные люди, говоруны, острословы, большие охотники поесть и попить, и если мы говорим, что Эжен запирался, что он исчезал, не надо думать, что он превращался в отшельника. В том-то и дело, что Париж, даже его развлечения, гости, балы и спектакли — все это было составной частью прекрасной системы, которая давала возможность творить.
«Мадам! Я заказал вам ложу в цирке Фернандо, с тем чтобы вы могли нынче вечером увидать Картера и его львов. Я огорчен, что не смогу сопровождать вас; однако так как ложа на шестерых, оставьте мне на всякий случай местечко — может быть, спектакль в опере кончится рано и я успею.
Сегодня поет мадам Гарсиа.
Тысяча поцелуев вам и нашему дорогому Пьерре, очень хочу видеть вас обоих.
Эжен».
Конечно, он к Пьерре охладел, и перед Жюльеттой он уже не так преклонялся, но все же она была очаровательна, отрицать этого было нельзя, и Пьерре был как-никак старый приятель, добрый малый, друг детства, и затем это было в Париже, в том самом Париже, где однажды королю было сказано: «Берегитесь революции, Ваше величество, Париж заскучал».
Страна подошв и подтяжек была уж не так отвратительна.
«Мадам! Фатально все нам препятствует. Я должен весь день носиться по Парижу из конца в конец. Могу ли я быть столь нескромным, мадам, чтобы попросить вас избрать другой день для встречи? Не извинитесь ли вы также за меня перед г-жой Марлиани?.. В ближайший же вечер я буду у ваших ног и буду лобызать ваши туфли, по обычаю арабов».
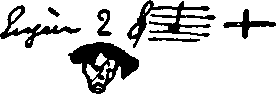
Письмо это адресовано на улицу Пигаль, г-же Жорж Санд. Ребус, которым подписался Эжен, расшифровывается до чрезвычайности просто. Два — по-французски «де», затем — нота «ля» и крест — «круа». При всем своем байронизме Керубино обожал всякого рода мистификации, прозрачные тайны и ту атмосферу домашнего спектакля, которой была проникнута квартира на улице Пигаль, где Жорж Санд поселилась вместе с Шопеном, а затем на улице Сквер-Орлеан, куда они переехали и где напротив жила г-жа Марлиани, милейшая дама-музыкантша, супруга испанского консула, всеобщая покровительница.
С исчезновением Альфреда Мюссе переодевания не вышли из моды в доме Жорж Санд, и сама она по-прежнему ходила с кинжалом за поясом и курила турецкие папироски.
У Жорж Санд был взрослый очаровательный сын Морис и прекрасная дочь Соланж — оба от первого и единственного ее законного брака с г-ном Дюдеван, которого все они ненавидели.
Морис обнаруживал способности к живописи и посещал мастерскую Эжена. Сама Жорж Санд рисовала. Все рисовали, писали стихи, все декламировали или по крайней мере острили, когда попадали в квартиру на улице Сквер-Орлеан или когда приезжали в Ножан, родовое имение Жорж Санд, которая как-никак была внучкой маршала Морица Саксонского и состояла в родстве с французской королевской фамилией.
Тем не менее она была демократкой. Ее дом посещал нечесаный и весьма неопрятный г-н Пьер Леру, типограф-философ, проповедник всемирного братства и полной эмансипации женщин, истолкователь евангелия, которого ехидные чистоплюи вроде Эжена прозвали «социалист-капуцин».

С кем только не якшалась внучка Морица Саксонского! Английская поэтесса Елизавета Броунинг-Баррет, почтительно посетившая как-то Ножан, написала затем в изумлении: «Она живет в среде отвратительной до последней степени: целые толпы дурно воспитанных людей, поклоняющихся ей коленопреклоненно, затягиваясь табачным дымом и сплевывая на сторону, — смесь оборванцев, группирующихся вокруг красной тряпки, и лицедеев последнего разбора». К лицедеям поэтесса, возможно, причислила Оноре де Бальзака, который был постоянным и самым, может быть, шумным посетителем поместья Жорж Санд. Во всяком случае, оборванцем его счесть было нельзя: он был одет так богато, как только возможно было одеться в этот прозаический век. Кроме того, он приезжал в Ножан верхом на собственной лошади, украшенной серебряной сбруей. Еще менее можно было заподозрить г-на Бальзака в том, что он из тех, кто «группируется вокруг красного знамени», — он был монархистом, монархистом хвастливым, самодовольным и громогласным. Сын провинциального нотариуса Оноре Бальзак олицетворял здесь родовую аристократию, сын польского учителя Фредерик Шопен и потомок фламандских ремесленников Эжен Делакруа представляли восемнадцатый век — его галантность и сдержанность. Оба они не выносили Бальзака, его ужасных манер. Морис Санд, женственный отрок с длинными волосами а-ля Рафаэль, ненавидел Фредерика Шопена — он считал его прихлебателем, который эксплуатирует благородные чувства его прославленной матери. Малютка Соланж была своенравна, капризна, упряма и, едва научившись ходить, стала кокетничать с Фредериком Шопеном. Над всей этой путаницей, усугубляя ее еще более, царила Жорж Санд, синий чулок, элегантная дама, душа нараспашку, интриганка и скряга, слабая женщина, леди Макбет Ножана, орлица и курица, одно из самых поразительных произведений этого века, Жорж Санд, которой ничего не стоило написать в год три прекрасных романа.
Собирались все за столом — во время обеда — и затевали разговор, который можно было бы назвать скандалом, если бы он происходил на другом языке, не по-французски.
Бальзак заявлял, например, хозяйке, которая ненавидела деспотию всеми силами своей великой души, что если бы она увидела русского царя Николая, то она бы влюбилась в него. Сдержанную обычно Жорж Санд прорывало, и она отвечала гневной тирадой, потоком «философически-республиканско-коммунистически-пьеро-лерусически-германико-деистически-сандовского красноречия» — так называл эти тирады Бальзак. Его не так-то просто было пронять. Доводы Санд он парировал следующим остроумнейшим образом:
— Хотели бы вы, чтобы среди большой опасности ваши слуги занялись бы прениями о том, что вы им приказываете под тем предлогом, что вы братья и товарищи по круговому путешествию по Жизни?
— Вы ужасный сатирик! — говорила Жорж Санд.
— Нет! Я добрый малый. Я любуюсь всем, что красиво: Дантоном на эшафоте, Сократом, пьющим цикуту, умирающим Франциском Ассизским или Екатериной Медичи... Оставайтесь при своих газетах, а мне предоставьте верить тому, что какой-нибудь русский в своем овчинном тулупе и перед своим самоваром не менее счастлив, чем наш консьерж.
К финалу Бальзак вставая, дирижируя вилкой. Закончив и снова садясь, он улыбался, как гладиатор, наступивший сопернику пяткой на грудь. Бальзак был в России, и Николай Первый показался ему красавцем.
Жорж Санд, игнорируя этот триумф, резко меняла тему разговора. Вместе с Морисом она атаковала Эжена: они интересовались его мнением о «Стратонике», картине Энгра, которая вызвала в прессе целую бурю похвал. Морис просил заодно объяснить ему кое-что о рефлексах, хотя он и слышал многое уже в мастерской, но понял не всё; да и остальным, он надеется, это будет весьма интересно.
Эжен, у которого последнее время постоянно и сильно болело горло, тем не менее начинал говорить, сперва глухо, но яростно, потом воодушевляясь, входя постепенно в настоящий азарт: он наступал на врага, мысль о котором при всей его снисходительности не давала ему покоя. Тем более этот враг держал себя так, как будто его жалкое существование было беспрерывным триумфом...
Однако Делакруа, обращаясь к Жорж Санд, начинал довольно хитро:
— Слово чести, я только сегодня утром видел эту картину и нашел ее поистине очаровательной. Я хотел бы от вас услышать, мадам, более определенно: почему вам не нравится живопись господина Энгра?
— К определенности я не готова. Могу только сказать, что это огромный талант, дух необычайно возвышенный, это человек почти гениальный, но даже гениальный кастрат не создаст никогда шедевра, то, что я о нем слышала...
— Ах, погодите! Чтобы судить картину, надо забыть человека. (Однако выражения «необычайный талант», «гениальность» его покоробили.) Я отлично знаю, что господин Энгр постоянно изображает меня нахалом и грубияном, что он буквально преследует своих учеников, как только замечает у кого-либо из них малейшее поползновение к настоящему цвету. Но я ничего не хочу о нем знать, когда сужу о картинах. Итак, вы полагаете, что «Стратоника» обозначает упадок, начало конца?
Жорж Санд набирает воздуху в легкие, чтобы ответить, но Эжен уже продолжает, он разошелся, его понесло:
— Послушайте! Я вам объясню. Папаша Энгр делает все для того, чтобы стать колористом, но манера, в которой он воспринимает предметы, смешна. Это настоящий дока, это хитрец, и умелый хитрец, но, к сожалению, он разбирается в этих вещах не лучше, чем ваш консьерж. Он путает колорит и раскрашивание...
Заметьте, что в «Стратонике» эта раскраска весьма изобретательна, очень изысканна, чрезвычайно разнообразна, но она еще не есть колорит!
Эта картина — целый трактат по перспективе: она состоит из множества тщательно сведенных и построенных линий, ромбов и ромбиков — поверхность ее зеркальна, можно брить бороду, глядясь в эту картину, но она плоска, как стена.
Почему?
Потому что в ней нет колорита, в этой постройке!
Картина, в которой есть колорит, приобретает глубину неизбежно — она не нуждается в хитроумных перспективных построениях. Наивный старик!
Он изучил все эффекты освещения: на мраморе, на позолоте, на тканях — он забыл только одно: рефлекс. О да!
Рефлекс! Он ничего не желает слышать об этом, а между тем в природе все рефлекс, цвет не существует сам по себе, как звук — отдельный звук не есть еще музыка, надо несколько звуков, надо их сочетать, они друг на друга влияют, они рефлектируют, они отражаются друг в друге, они друг друга окрашивают. Цвета воздействуют друг на друга в природе и в картине — это двойное взаимодействие, это рефлекс рефлексов...
Шопен в отчаянии:
— О Боже, рефлекс рефлексов!
Делакруа:
— Да, именно, все связано между собой. Господин Энгр распределяет цвета между частями своей прекрасной картины так, как хозяйка раздает портнихам куски разноцветной материи. Красный — на драпировки, на подушки — сиреневый, желтый туда, зеленый сюда; он чрезвычайно доволен, он убежден, что теперь никто не сможет его упрекнуть в том, что у него нет колорита. Есть! В изобилии!
Между тем поглядите Рембрандта — это почти одноцветное месиво, это золотистое, рыжее, прозрачно-коричневое: и это всё связано, все рефлектирует, все отражается, все сияет, живет...
Предметы, не связанные между собой рефлексами, остаются всегда изолированными: это бильярдные шары, это слоновая кость, это жестко, это кричит...
Шопен поднимается и, бормоча себе под нос: «Рефлекс рефлексов, о Боже! Мне это никогда не понять...» — идет к роялю.
Усевшись за инструмент и чуть пробуя клавиши, он заявляет:
— Это остроумно, для меня это ново, но все это немножко алхимия.
— Нет! — восклицает Эжен. — Это химия, это чистая химия! Рефлекс неотделим от рельефа, линию нельзя отделить от материального тела...
Они думают, что все можно нарисовать при помощи линии, даже дым из грубы, они уверены, что абсолютно владеют контуром. Увы! Контур издевается над ними, силуэт поворачивает им свою спину.
Минутку! Шопен, я знаю, что вы собираетесь сказать: контур необходим, он единственное, что отделяет один предмет от другого. Но природа! Посмотрите, где она пользуется, по-вашему, контуром? Свет разрушает все контуры и вместе с ними теории несносных педантов, которые воображают, что заняты серьезным искусством. Если вы колорист, вы напишете похожий портрет, обозначив только основные массы, вы обойдетесь без контура. Свет! Человеческое тело пьет свет ненасытно, оно бесконечно изменчиво, оно рефлектирует само с собой, отражает самого себя. Посмотрите на детей и женщин Рубенса — это настоящая радуга, материальное тело проникнуто радугой, она освещает его, дает ему блеск, жизнь, движение, трепет, жизнь переполняет холст через край...
Но Шопен уже больше не слушает. Он касается клавишей. Он импровизирует, он нащупывает, он пробирается по каким-то тропинкам к ручью. Он останавливается.
— Ну же, ну! — восклицает Эжен. — Ведь это еще не закончено!
— Это даже не начато. У меня ничего не выходит. Ничего, только отблески, тени, неясные контуры, которые не желают определяться. Я ищу колорит и не нахожу даже рисунка.
— Вы не найдете одного без другого, — возражает Делакруа, — или вы найдете их вместе.
— А если я найду только лунный свет?..
Шопен провожает Эжена. Они толкуют об английском портном. Уже очень поздно.
Вернувшись к себе, Эжен обнаруживает на столе сверток. Это Андрие, думая позабавить мастера, принес одолженные им до утра дагерротипы с рисунков Энгра.
Эжен копирует эти рисунки всю ночь.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК