IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ
IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ
Сатирическая поэма Шевченко «Сон» изображает «царский выход»:
Дверь открылась; будто вылез
Медведь из берлоги..
Поглядел он да как крикнет
На самых пузатых.
Все пузатые мгновенно
В землю провалились!
Царь как выпучит глазища, —
Все, что сохранилось,
Затряслось. А он как гаркнет
На тех, кто моложе, —
И те в землю. Он на мелочь —
Мелочь в землю тоже!
Он — на челядь, и вся челядь,
Как один, пропала;
На солдат, и все солдаты —
Аж даль застонала —
Ушли в землю!. Вот так чудо
Увидел я, люди!
Я гляжу, что дальше будет,
Что же делать будет
Мой медведь? Гляжу — стоит он,
Печальный, понурый.
Эх, бедняжка!.. Куда делась
Медвежья натура?
Тихий стал, ну как котенок!
Я расхохотался
Такова была вся система царского, чиновничьего управления, под медвежьей лапой Николая Палкина гнулись чиновники, министры, губернаторы и жандармы; но он-то сам не смог бы без всей этой системы владычествовать!
Образ Николая I — «дрессированного медведя» — позднее вновь возник в публицистике Герцена (возможно даже, что не без прямой связи с сатирой Шевченко, так как «Сон», «Кавказ» и другие произведения «Трех лет» были широко распространены в сотнях списков, а впоследствии и изданы за границей)
Типичным вершителем медвежьей воли Николая I был Бибиков — «Капрал Гаврилович Безрукий», как называл его Шевченко, — киевский военный, подольский и волынский генерал-губернатор.
В его власти находились жизнь и смерть миллионов людей; ему подчинялись военные и гражданские власти, и даже назначение университетского учителя рисования требовало утверждения всесильного Бибикова.
Немалую роль в судьбах Правобережья играл и Юзефович, с 1842 по 1858 год занимавший официально скромную должность помощника попечителя Киевского учебного округа, а на самом деле державший в своей власти не только школьное дело, но и прессу, цензуру края.
Юзефович, родственник Тарновских, рисовался своей «дружбой» с Кулишом, Костомаровым, Максимовичем и мечтал привлечь в свой «культурный салон» прославленного «малороссийского Кобзаря»— Шевченко. Но, несмотря на все старания услужливого Кулиша, Шевченко не желал приятельствовать с бибиковским прихлебателем.
Зато подружился с крепостным человеком Юзефовича — Василием. В свои вынужденные посещения званых приемов помощника попечителя округа поэт нередко, вместо того чтобы идти в гостиную, прямо заходил в каморку Василия и просиживал за беседой с ним весь вечер, крайне шокируя хозяев.
Это было в понедельник, 3 марта 1847 года. Алексей Петров, сидя в роскошном служебном кабинете попечителя округа генерал-майора Траскина, куда привел его Юзефович, четким писарским почерком писал:
«Занимаясь довольно поздно вечером, я часто слышал у Гулака собрание людей… Я услышал, как лица собравшегося у Гулака общества подавали свои мнения касательно лучшего, республиканского устройства для России… Устав общества я имел честь представить Вашему высокопревосходительству. Имея слишком ограниченные средства к поддержанию своего существования, я необходимо должен был искать случая… Все мною открытое я решился представить Вашему превосходительству…»
Руки у Петрова немного все-таки дрожали, но не от стыда и не от позднего раскаяния, а от жадности и от страха, что его рвение не будет в полную меру оценено и вознаграждено «их высокими превосходительствами»…
В это время Бибиков находился в Петербурге. Туда же было послано сообщение о доносе Петрова. По тогдашним средствам связи сравнительно быстро — 17 марта — это сообщение было уже в руках у Бибикова, и им в тот же день передано в Третье отделение; затем доложено его начальником, графом Орловым, великому князю, и от него получено «высочайшее соизволение» на арест заподозренных лиц; а уже на следующий день, 18 марта, жандармы нагрянули в квартиру недавно поселившегося в Петербурге и ничего не подозревавшего Николая Гулака.
Тотчас по заключении в тюремном каземате Третьего отделения, в печально прославившемся здании у Цепного моста, Гулака начали мучить ежедневными допросами. И Бибиков, и Писарев, и Дубельт, наконец, сам «шеф корпуса жандармов» граф Орлов пытались выведать состав и цели тайного общества. Однако же Гулак на все вопросы упорно отвечал только «не знаю» и «мне неизвестно».
22 марта граф Орлов разослал полицейским начальникам Левобережной и Правобережной Украины секретное предписание: арестовать и «со всеми бумагами и вещами доставить в Санкт-Петербург, в III отделение, в сопровождении благонадежных и верных чиновников и под самым строжайшим надзором» художника Петербургской академии художеств Тараса Шевченко, дворянина Василия Белозерского, преподавателя истории в Киевском университете Николая Костомарова, студентов Ивана Посяду, Афанасия Марковича, Юрия Андрузского… Кроме того, был арестован Навроцкий, из Варшавы доставили Кулиша, а при возвращении из-за границы, позднее, задержали Савича..
Костомаров, находившийся в Киеве, собирался тотчас после пасхи жениться на своей ученице — шестнадцатилетней пианистке, и уже назначил день свадьбы: воскресенье 30 марта. Поздно вечером 28 марта к нему на квартиру неожиданно, на правах приятеля, явился помощник попечителя — Юзефович, вбежал прямо в спальню, где Костомаров уже укладывался спать, и сказал:
— На вас донос! Я пришел вас предупредить.
— Какой донос? — вскричал насмерть перепуганный, от природы необыкновенно мнительный Костомаров.
— Я пришел вас спасти, — продолжал Юзефович. — Все, что у вас есть способное возбудить подозрение, давайте скорее мне сюда!
Костомаров, полураздетый, стал лихорадочно метаться по квартире, потеряв голову от страха и хватая различные бумаги, которые по тем крутым временам могли подойти под разряд «возбуждающих подозрение».
Он всегда смертельно боялся всякой «нелегальщины» и избегал держать ее у себя. Не было у него дома и никаких бумаг по Кирилло-Мефодиевскому обществу. Поэтому он не сразу вспомнил, что в кармане его пальто лежит рукопись «Книг бытия украинского народа», приготовленная им для передачи на хранение Гулаку, но почему-то оставшаяся при отъезде последнего в Петербург.
Костомаров бросился к своему пальто, достал забытую рукопись и стал искать огня, чтобы поскорее сжечь ее.
Но Юзефович поспешно выхватил тетрадь из рук окончательно растерявшегося Костомарова, воскликнув:
— Будьте покойны! Soyez tranquille! Ничего не бойтесь! — и с этими словами выскользнул из комнаты.
Костомаров не успел еще прийти в себя, как Юзефович возвратился, на этот раз в сопровождении киевского гражданского губернатора Фундуклея, попечителя генерал-майора Траскина, жандармского полковника Белоусова и киевского полицмейстера. Гости потребовали ключи от всех шкафов и ящиков, отправились в заваленный книгами и рукописями кабинет и принялись упаковывать бумаги.
При этом жизнерадостный и добродушный жуир Траскин, более всего на свете боявшийся иметь дело с большим количеством печатной и писаной бумаги, которую случается надобность читать, всплеснул руками и с самым искренним огорчением вскричал (разумеется, по-французски):
— Черт возьми! Нужно будет десять лет, чтобы разобрать все эти брульоны!
На столе случился номер старой газеты, в которой был напечатан какой-то материал о декабристах. Белоусов не преминул отметить:
— Вот! Сразу видно, чем занимается…
На первом же допросе Белоусов и Траскин спросили Костомарова о Гулаке:
— В каких вы с ним отношениях? Знакома ли вам такая рукопись… — и Костомарову были прочитаны хорошо знакомые ему отрывки из «Книг бытия» и подробно передано содержание всей рукописи. — Что это?
— Не знаю, — отвечал Костомаров.
— Можете ли вы дать слово, что не знаете этой рукописи?
— Могу!
— Честное слово!
— Да, честное слово!
После этого заверения Белоусов показал Костомарову тетрадь, взятую у него Юзефовичем. Костомаров побледнел и наскоро стал выдумывать, что это перевод «Книг пилигримских» Мицкевича; эта версия почему-то показалась жандармам убедительной и была затем закреплена во всех следственных документах.
Долго и хлопотливо разыскивался Шевченко. 30 марта киевский гражданский губернатор сообщил в Петербург, что «художника Шевченко в Киеве нет и неизвестно, где он теперь находится и когда приедет сюда».
4 апреля полтавский гражданский губернатор докладывал о том, что он «сделал вчерашнего числа сношение» с черниговским гражданским губернатором «об арестовании и обыске художника Санкт-Петербургской академии художеств Тараса Григорьевича Шевченко», но пока безрезультатно.
Шевченко между тем жил в Седневе, недалеко от Чернигова, в поэтическом уголке над рекой Снов, в доме гостеприимного и культурного отставного чиновника Андрея Ивановича Лизогуба, о котором хорошо его знавший Лев Жемчужников отзывается так:
— Андрей Иванович Лизогуб, чрезвычайно добрый и простой человек, был хороший музыкант, любил живопись, писал портреты сам… Лизогубы любили Шевченко как человека и поэта и высоко ценили его. Шевченко имел у Лизогубов мастерскую, стены которой были исписаны его заметками и стихами.
Мастерская Шевченко помещалась в мезонине, а из окон ее открывался вид на огромный сад с вековыми липами, на реку, на дальние заливные луга.
Шевченко в это время как-то особенно хорошо работалось. В Седневе он много рисовал и сочинял. Из сохранившихся крупных вещей здесь была написана поэма «Ведьма» (в первой редакции — «Осина»). Над этой поэмой, изображающей трагедию бесправной женщины и ее поруганные чувства, Шевченко продолжал работать еще спустя много лет.
В четырех верстах от Седнева, на крутом берегу реки Снов, было расположено село Бегач, имение князя Кейкуатова, изображенного позже в повести «Княгиня» под именем князя Мордатова.
Сюда Шевченко пригласили писать маслом портреты хозяев, и он приезжал в Бегач из Седнева на день-два для работы.
По воспоминаниям жившего в это время у Кейкуатовых землемера Демича, Шевченко в Бегаче за короткий срок успел приобрести расположение всех местных крестьян и дворовых. Демич рассказывает:
— Одет Шевченко был скромно, и все его скудные пожитки помещались в маленьком ветхом чемоданчике. Но зато этот удивительный человек обладал другими богатствами — умом и сильною любовью к трудящемуся народу. Каждый вечер после дневных работ вокруг поэта собирались все служащие княжеской «экономии». Шевченко что-нибудь читал или рассказывал, да при этом так интересно, что все слушали с большим вниманием. Приветливый и словоохотливый с простыми тружениками, Тарас Григорьевич заметно не любил оставаться долго среди «господ» и избегал княжеских хором, хотя его туда часто приглашали, тем более что к князю приезжали соседние помещики с желанием посмотреть, как на диковинку, на знаменитого в то время Кобзаря.
В марте — апреле 1847 года Шевченко побывал и в Москве, где у него было столько приятелей и просто знакомых. Бродил по извилистым московским улицам и переулкам, был в театре.
— Неделю, а то и больше, пробыл я тогда в Москве, — вспоминал впоследствии Шевченко
Затем через Чернигов направился в Киев.
С левого берега Днепра в Киев переезжали в те времена самым примитивным, ручным паромом: громадный деревянный плот двигался вдоль каната, протянутого с одного берега на другой. Переправа была устроена не прямо напротив города (где расположен большой остров), а версты на три «иже по течению Днепра — у поросшей дубовым лесом горы, на которой расположен Выдубецкий монастырь.
Ранним весенним утром в субботу, 5 апреля, добравшись от Броваров по Черниговской дороге к Днепру, плыл Шевченко на пароме через широко разлившийся своими темно-синими водами Днепр.
Как прозрачен утренний воздух на Украине, как ослепительно ярко сверкает солнце на днепровской вольной зыби, на белых песчаных отмелях.
Впереди, в кружеве светлой молодой зелени, блестят золотые купола Выдубеча, направо высится стройная пятидесятисаженная колокольня Печерской лавры, а дальше раскинулся Киев, славный, чудесный Киев.
Таким в это утро и видел его Шевченко, таким и остался он на долгие годы в памяти поэта — словно висящим в синеве весеннего утреннего неба:
Я из Броварского леса
Вышел
И утром погожим
Вижу Киев наш великий
В вышине сияют
Храмы
Когда «аром приблизился к правому берегу и уже с Выдубецкой горы доносились переливы соловьиных трелей, Шевченко заметил на причале жандармов.
Губернатор Фундуклей для верности распорядился подстеречь поэта прямо на переправе.
Шевченко тут же обыскали, забрали чемодан, бумаги, усадили в полицейскую пароконную бричку и повезли во дворец губернатора.
А на следующий день, 6 апреля, в воскресенье, Шевченко «под строгим караулом, при одном полицейском офицере и одном рядовом жандарме», как сообщалось в официальном донесении, был отправлен через Чернигов, Витебск, Великие Луки в Петербург.
Об отправке доносил начальнику 4-го округа корпуса жандармов начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Белоусов:
— При художнике Шевченко найдена тетрадь с возмутительными стихами, самим им написанными. В стихах под названием «Сон» дерзко описывается высочайшая его императорского величества особа и Государыня-императрица… Стихотворения его на малороссийском языке доставили ему большую известность.
В Петербург Шевченко прибыл после одиннадцатидневного пути 17 апреля, в три часа дня, прямо к Цепному мосту, в Третье отделение, где уже находились другие «братчики».
Один только Гулак еще 1 апреля, после новой последней неудачной попытки графа Орлова выведать у него «сообщников», — был переведен в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, ибо «и при новом допросе показал прежнее, ничем не преоборимое упорство».
Не все участники Кирилло-Мефодиевской организации были так же стойки и мужественны, как Гулак. Белозерский, Костомаров, Андрузский, Кулиш давали жандармам пространные показания, пытались выгородить себя, сваливая всю вину на других.
Особенно постыдно держал себя студент Андрузский; человек нервнобольной, он на допросах выбалтывал все, что знал. Показания Андрузского сильно повредили «братчикам».
— Главная цель, соединявшая всех, — говорил Андрузский на допросе, — была: соединение славян воедино, принимая за образец Соединенные Штаты или нынешнюю конституционную Францию… Меры вытекают из положений — следовательно, должен был повториться 1825 год.
Характеризуя отдельных участников общества, Андрузский показывал следующее:
— Костомарова ложно понятые идеи совратили с пути истины и повели к гибели. Он часто говорил, а действовал слабо. Приехал Тарас Григорьевич Шевченко. Его поэтические слова гремели по всей Малороссии; надеялись иметь в нем своего Шиллера. Свои «Кавказ», «Сон», «Послание к землякам» он привез из Петербурга. Костомаров приглашал его к себе на вечера, и тут-то Шевченко читал свои пасквили. Я морщился, Костомаров зевал, но Шевченко все превозносили до небес. Шевченко писал пошлые стихи и побуждал к большей деятельности общество. Он называл подлецами всех монархистов.
— Гулак в Дерпте напитался своих мыслен. Я бывал у него редко.
— Пальчиков только и бредил республикой; жил у Гулака.
— Навроцкий — человек горячий, чуть ли не наизусть знает сочинения Шевченко.
— Посяда — казенный крестьянин; он только и думал, что о крестьянах. Видя тягостное положение крестьян, сам крестьянин, он задумал во что бы то ни стало облегчить этот быт. Дворян он ненавидел, почитая виновниками всего худого; ненавидел монархизм; негодовал на духовенство. Шевченко почитал великим поэтом.
— Кулиш — иного знать не хотел, кроме Малороссии. Белозерский его в полном смысле ученик. Маркович обоготворял гетманщину и славянизм; в последнее время он мало что и делал.
Много разглагольствовал на следствии и перепуганный Костомаров, наговаривая на всех, моля о пощаде.
В день второго допроса Костомарова привезли в Петербург Шевченко. Его допрашивали единственный раз — в понедельник, 21 апреля 1847 года.
Допрашивал Шевченко «сам» Дубельт, в присутствии чиновников Третьего отделения Попова и Нордстрема.
Дубельт с особенной ненавистью относился к передовым литераторам; известно, как он сокрушался, что не успел «сгноить в крепости» Белинского. «Черты его, — вспоминает Герцен (его студенческое «дело» также вел Дубельт), — имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость диких зверей, вместе уклончивость и заносчивость».

В. Н. Репнина. Портрет работы неизвестного художника.
Об этом допросе спустя десять лет Шевченко вспоминал:
— Дубельт со своими помощниками, Поповым и Нордстремом, в своем уютном кабинете, перед пылающим камином, меня тщетно направлял на путь истинный, грозил пыткой и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого.
Шевченко после обычных вопросов — «ваше происхождение, воспитание, занятия» и пр. — были предложены следующие «вопросные пункты»:
«3. Кем сочинены устав и правила Славянского общества, кто их распространял?
4. Не было ли у вас тетради с возмутительными воззваниями и кто распространял экземпляры оной?
5. Кем изобретены символические знаки общества, кто именно имел их?
6. В чем состояли подробности предположений славянистов?
7. Какие замыслы были против настоящего образа правления в России и какое правление предполагалось ввести?
8. Каким образом славянисты предполагали распространять образование между крестьянами и тем приготовлять народ к восстанию?
9. Кто и в каком виде хотел учреждать школы для простого народа, сочинять книги и какого содержания, кто собирал деньги для этих целей, и не предназначались ли эти деньги для каких-либо других преступных целей?
10. Не было ли предположений действовать оружием?
11. Кто из приверженцев славянства наиболее действовал, склонял и возбуждал к преступным замыслам, и не было ли одного, который всем руководил?
12. Правда ли, что Костомаров был представителем умеренной славянской партии, а Гулак его последователем, и что вы с Кулишом были представителями неумеренной малороссийской партии Славянского общества?»
На все эти вопросы Шевченко отвечал одной строкой: «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й мне совершенно неизвестны».
Только на один вопрос, касавшийся попавших в руки жандармерии революционных своих стихотворений, Шевченко отвечал более пространно.
«Будучи еще в Петербурге, — писал он, — я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства».
И, находясь в заключении, крепко сжатый жесткой лапой царя-медведя, Шевченко продолжал жить помыслами и идеалами революционной демократии.
В каземате у Цепного моста им было написано четырнадцать стихотворений, которые он так и озаглавил — «В каземате», с подзаголовком «Моим соузникам посвящаю».
Развивая идеи своего «Завещания», Шевченко повторяет здесь, что высшее назначение поэта — самоотверженное служение идеям народного блага и свободы:
Мне, право, все равно, я буду
На Украине жить иль нет.
Забудут или не забудут
Меня в далекой стороне —
До этого нет дела мне.
В неволе вырос меж чужими,
И не оплаканный своими,
В неволе, плача, я умру
И все в могилу заберу.
Не вспомнят обо мне в кручине
На нашей славной Украине,
На нашей — не своей земле.
Родной отец не скажет сыну
О том, как я в неволе жил:
«Молися, сын, за Украину
Когда-то он замучен был»
Мне все равно, молиться будет
Тот сын иль нет… и лишь одно,
Одно лишь — мне не все равно:
Что Украину злые люди,
Лукавым убаюкав сном,
Во сне ограбят и разбудят.
Ох, это мне не все равно!
На Шевченко не действовали ни запугивания Дубельта, ни вкрадчивые советы Попова, ходившего из камеры в камеру и ласково «убеждавшего» заключенных давать раболепные и «откровенные» показания.
Костомаров, прямо под диктовку Попова написавший свои показания, — «в отмену прежних по тому случаю, что прежние составлял он под влиянием расстройства ума», — искренне изумлялся стойкости и твердости Шевченко.
Когда 15 мая всех привлеченных к делу одновременно вызвали для очных ставок, они впервые сошлись все вместе, ожидая перед дверью. Костомаров вспоминает эту минуту:
— Всех нас привели в зал. Был там и Шевченко, беззаботно веселый и шутливый, как ни в чем не бывало. Он комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что недаром он издавна не терпел косых. А когда какой-то жандармский офицер, знавший его лично во время его прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь, то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «Да кой же черт меня сюда занес, если не эта дьявольская муза!»
Перед тем как Шевченко был доставлен в Петербург, находившийся все еще в столице Бибиков получил из Киева новое сообщение: на стене одного дома была обнаружена рукописная антиправительственная прокламация, озаглавленная «К верным сынам Украины».
Прокламация была расклеена за два дня до ареста Шевченко — 3 апреля. К этому времени арест всех известных полиции по доносу Петрова членов Кирилло-Мефодиевского общества был уже произведен, следовательно, жандармы оказались перед фактом, что какие-то активные противоправительственные силы еще продолжали оставаться на свободе.
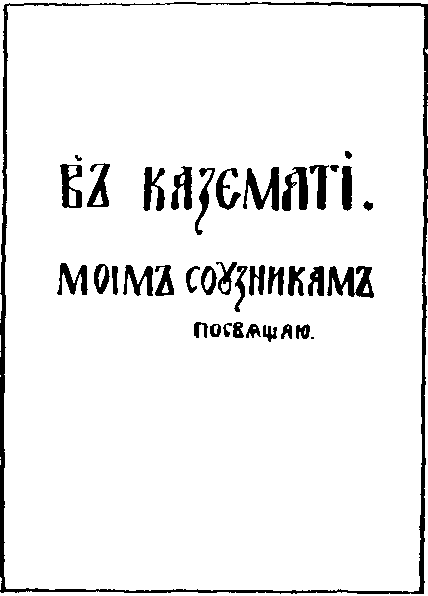
Титульный лист работы Т Г Шевченко к циклу «В каземате».
13 апреля Бибиков доложил начальнику Третьего отделения о «возмутительной прокламации», а граф Орлов на следующий день сделал доклад царю. Николай написал на докладе Орлова:
«Долго этой работе на Украйне мы не верили; теперь ей сомневаться нельзя, и слава богу, что так раскрылось. Бибикову дай знать, что пора на место и надо везде строго смотреть».
Царскую карандашную резолюцию, чтобы не стерлась, граф Орлов, по обычаю, покрыл прозрачным лаком…
Третье отделение, с одной стороны, было очень взволновано и готово обрушиться самыми жестокими репрессиями на «возмутителей спокойствия», а с другой, не имея в руках настоящих и полных сведений о повсеместно разраставшейся подпольной антиправительственной деятельности, хотело несколько смягчить впечатление. Это отразилось и в докладе Орлова царю после окончания следствия по кирилло-мефодиевскому делу:
— Украино-славянское общество святых Кирилла и Мефодия было не более как ученый бред трех молодых людей. Зло еще не созрело; частию уничтожилось само собою, а остальное предотвращено распоряжениями правительства.
Так думать было утешительнее, чтобы не слишком пугать царя…
Тот же страх отразился и в нечеловечески жестоких приговорах над теми, кого правительство имело основание опасаться и в дальнейшем. В кирилло-мефодиевском деле это проявилось в решении судьбы Шевченко и Гулака.
Кирилломефодиевцы были покараны совсем не одинаково; если кандидата 10-го класса Белозерского царь распорядился направить «за откровенность — прямо на службу в Олонецкую губернию под надзор», то «коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украино-славянского общества, вначале и долго запиравшегося в своих преступных замыслах, а еще более как человека, способного на всякое вредное для правительства предприятие», Орлов предложил заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года и потом отправить его в отдаленную губернию под строжайший надзор.
Но Николаю этого показалось мало; он всегда любил решения «е вполне ясные, оставляющие место для любого произвола; к приговору о трехлетием заключении Гулака в крепости монархом было прибавлено: «Буде исправится в образе мыслей». Такой припиской срок заключения в крепости делался неопределенным и фактически бесконечным.
Участие Шевченко в тайном обществе Кирилла и Мефодия жандармам не удалось доказать, и он был отнесен к числу лиц, «виноватых по своим собственным, отдельным действиям».
Шевченко, как указывалось в докладе, «сочинял стихи «а малороссийском языке самого возмутительного содержания»; в них поэт «с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома… Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны… Судя по тому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко, и к его стихотворениям все украйно-славянисты… по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признаваем одним из важных преступников».
Николай I, «коронованный фельдфебель», мстительный, как все трусливые люди, к каждому из проектов приговоров Третьего отделения прибавил отпечаток собственной злобной души. Даже приговоры вполне «раскаявшимся» Костомарову и Кулишу были высочайшей конфирмацией хоть немного, да ухудшены.
В отношении Шевченко Третье отделение предлагало:
«Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
К проекту графа Орлова и Дубельта Николай сделал «собственною его императорского величества рукою» приписку: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».
Таким образом, если даже Третье отделение ставило поэту и художнику условием только содержание его будущих произведений, то самодержавный медведь варварски лишал человека вообще всякого права на духовное творчество.
«Август язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать, — с горечью писал в своем «Дневнике» Шевченко спустя десять лет. — А христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века…»
В конце концов в официальном приговоре стояла совсем уже непонятная формула:
«Определить Шевченко рядовым в отдельный Оренбургский корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
Из-за неясности этого решения (а также и оттого, что фактически Шевченко был лишен «права выслуги») впоследствии поэту пришлось пережить немало тяжелых преследований. Во всяком случае, при объявлении приговора Шевченко устно было «разъяснено», что в запрещение писать не входит «писание обыкновенных писем».
«Россия велика и сильна, — с восторгом писал в своих интимных «Записках» Дубельт, — русский царь у себя, дома, бог земной!»
Медведь подминал под свою тяжелую лапу все живое, все жаждущее жизни…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Последние несколько лет одиночество Раневской скрашивал Мальчик – бездомная дворняжка, которого ей когда-то принесли больного с перебитой лапой.
Последние несколько лет одиночество Раневской скрашивал Мальчик – бездомная дворняжка, которого ей когда-то принесли больного с перебитой лапой. Как это нередко бывает с одинокими бездетными людьми, у которых остался огромный нерастраченный запас материнских чувств, к