СВЕТ ОКТЯБРЯ
СВЕТ ОКТЯБРЯ

Весть о Февральской революции в России, о свержении самодержавия громовым эхом прокатилась по монгольским степям. Конец самодержавию!.. Да здравствует республика!.. Богдо-гэгэн и его приближенные были в панике. Им казалось, что рухнуло небо. Белого царя, «протектора», больше не существовало. Сперва династия Цинов, теперь династия Романовых… В Китае умер Юань Ши-кай, с которым еще можно было договориться. Ведь признал же он автономию! Во главе правительства стал некто Дуань Ци-жуй. Пост президента занял Ли Юань-хун. При Юань Ши-кае Дуань был военным министром. Он не отличался мягкостью. Это был бесчестный и совершенно безразличный к чему бы то ни было, кроме своей выгоды, человек. За ним укрепилась слава японского агента. Это он возглавлял прояпонскую группу «Аньфу». Деспотичный, властный Дуань ни с кем не считался. Он избивал членов парламента, посылал карательные экспедиции. Одно упоминание об автономной Монголии приводило его в ярость.
— Я еще доберусь до этого сифилитика богдо! — грозился он.
Но Дуань не так страшил клику богдохана, как события в России. От юрты к юрте скакали всадники на взмыленных конях и кричали:
— В России революция! Русские прогнали царя!..
В течение, веков белый царь казался несокрушимым, как мифическая гора Сумеру-ула. Белого царя всегда считали покровителем, стремились стать его подданными. Поклонение белому царю насаждали ламы. Ламы объявили императрицу Екатерину II воплощением божества Цаган-Дари-Эхэ. С тех пор всех русских царей вне зависимости от пола в Монголии стали называть — Цаган-Дари-Эхэ, то есть благодетельным и милостивым божеством. Это же имя в честь белого царя было присвоено жене богдо-гэгэна.
Высшие ламы и крупные князья покачивали головами, говорили:
— Русские царя убрали. Однако худо будет: без царя и бога нельзя жить.
Князья помельче и те, кто пострадал от монастырского ведомства, отвечали:
— Русские собираются решать все дела сообща и достигают, чего хотят, — это хорошо для народа, а у нас не так…
Сановники старались не показываться на улицах. Опустели храмы. Толпы низших лам слонялись по городу. Ургинская газетка ядовито писала: «Государство может обойтись без князей и лам, но без чая обойтись не может». Делались намеки на то, что еще с прошлого года прекратились поставки товаров из России и китайские купцы снова захватывали в свои жадные руки торговлю. Резкие политические памфлеты, в которых критиковались феодальные порядки, перестали быть редкостью. И хотя трудно было достать газетные листки: они рассылались лишь ведомственным чиновникам, содержание политических статей очень быстро становилось известным всем. Каждого бурята, прибывшего из России, встречали, как великого брата, поили кумысом, кормили жирной бараниной, ловили каждое его слово.
В многочисленной русской колонии творилось что-то невообразимое. Многие нацепили красные банты. Митинговали с утра до поздней ночи. Переизбрали местное общественное самоуправление, выдвинули в него революционно настроенных служащих. Бывшие царские чиновники и купцы обивали пороги монгольских министерств, требуя управы на мятежников. Сам консул пытался доказать богдохану, что ничего страшного не произошло, что власть по-прежнему находится в руках капиталистов и помещиков и что революция скоро будет задушена. Но богдохан решил не вмешиваться во внутренние дела русской колонии: хватало своих забот. Приближенные требовали:
— Хоть Китай, хоть Япония. Только не мятежная Россия!
Сухэ в это время находился в Худжирбулане. Русские инструкторы тоже разделились на два лагеря: на монархистов и на республиканцев.
— Демократическая республика! — надрывались в крике одни.
— Нужен новый царь с твердой рукой, — отвечали другие.
Дело доходило до взаимных оскорблений и даже драк. Была и третья группа офицеров: эти ходили с задумчивым видом и горящими глазами. Иногда они роняли:
— Все прогнило насквозь! Хрен редьки не слаще…
События в России были так огромны, что Сухэ ходил, словно в тумане. Он пытался осмыслить все. Прислушивался к разговорам. Иногда допытывался у хмурых русских офицеров:
— Что такое демократическая республика?
Ему объясняли, и он разочарованно отходил. Значит, у власти опять богачи! Вместо хана президент или премьер-министр из тех же капиталистов и помещиков. А разве богатые давали когда-нибудь свободу бедным? Царя прогнали рабочие и крестьяне, а власть снова захватили эксплуататоры. Это опять была не настоящая свобода. Иногда в разговорах проскальзывало уже знакомое слово «большевики». Но о большевиках говорили с опаской.
Приходили вести о смелых действиях героя Аюши в Дзасакту-ханском аймаке. Но теперь Сухэ уже понимал: это одиночные выступления. Победа возможна лишь тогда, когда поднимется весь народ. Если бы поднялся монгольский народ! Но кто ему поможет сейчас? На русских капиталистов надеяться нечего. Дуань мечтает задушить даже жалкую автономию, которая не дала аратам ровным счетом ничего. Да и кому какое дело до обездоленного, вымирающего племени кочевников?.. Большевики! Может быть, они… Только они! А здесь, в Монголии, нужны преданные люди, организованные в единый кулак. Аюши пока воюет за свободу для своего хошуна, для своего аймака. А свобода нужна всем.
Сухэ вспомнил первый год правления «многими возведенного». Тогда по Монголии поползли удивительные слухи: из России в Ургу едет великий батыр Тогтохо! Это о нем гордо говорил отец Дамдин:
— А в наших краях есть Тогтохо!
Защитник обездоленных и угнетенных. Это о нем пел старый улигерчи на базарной площади. Дела Тогтохо для той поры были поистине изумительны. Еще в 1906 году он со своей дружиной делал смелые набеги на маньчжуров. И хотя его отряд не превышал ста тридцати человек, он наводил панику на купцов и богатеев целого края. Маньчжуры вынуждены были бросить против Тогтохо, засевшего в ущельях Хингана, крупные военные силы. Весной 1911 года Тогтохо перешел границу и поселился в Забайкалье. После провозглашения в Халхе независимости он сразу же, в декабре, устремился в Ургу. Национального героя встретили всеобщим ликованием. Преисполненный достоинства, ехал он на своем коне по шумным улицам Урги, а навстречу ему неслись приветственные крики. Сухэ и Дамдин вместе с другими чествовали великого батыра. Говорят, правительство богдо даже хотело назначить испытанного в боях с цинами Тогтохо командующим монгольскими вооруженными силами. Сам «солнечно-светлый» принял героя в своем дворце. Но непонятно, почему правительство очень быстро охладело к герою, а министерство иностранных дел России потребовало выселить его из Урги. Правда, Тогтохо из Урги не выселили — боялись на-, родных волнений, — но учредили за ним строгий надзор. С тех пор народный герой пребывал в безвестности. А тогда Сухэ казалось, что именно он, защитник бедных, поведет за собой аратов. Почему этого не случилось? Почему Тогтохо пребывает в бездействии? И ответ пришел сам собой: потому что он одинок. Он не смог подняться и над высшими ламами и над князьями, стать для них грозой. Он перестал бороться за права бедных, и люди оставили его одного «наслаждаться былой славой. Он перестал быть вождем, руководителем.
Аюши, Тогтохо… Где он, тот человек, который поведет за собой всех, раздавленных нуждою и страданиями? Сухэ первым откликнулся бы на его зов. А если его вообще нет в Монголии, такого человека? Как тогда? Неужели ждать и надеяться? Где он, мудрый батыр, который вручит повод счастья в руки народа?
Сухэ расправлял широкие плечи, смотрел на багряный закат, и ему думалось, что там, в России, бушует огромный пожар и отблески его падают на монгольские степи. На сердце было радостно и тревожно. Ощущение собственной силы переполняло его. И как-то не верилось, что в России уже все закончилось. Он знал русских. Эти уж если начали, то доведут до конца. Всегда что-то мятежное таилось в ее безграничных просторах. В трудные минуты глаза Сухэ всегда обращались к этой далекой загадочной стране. Баррикады на улицах Петрограда и Москвы, красные флаги, кровь сотен простых людей…
Предчувствия не обманули Сухэ. Каждый день был наполнен ожиданием чего-то огромного, невероятного. И это невероятное пришло.
Стоял ветреный октябрь. По вечерам небо было особенно красным, как свежая кровь. В Худжирбулане русские офицеры перешептывались. Теперь и республиканцы и монархисты объединились, не спорили больше о свободе. На их лицах был звериный страх.
Однажды бурят-переводчик из забайкальских казаков, оглядываясь по сторонам, сказал Сухэ:
— В России произошла новая революция. Бедные взяли власть в свои руки. Теперь говорят: «Орон бухний пролетари нар нэгдэгтун!» — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пролетарская революция…
Весть взбудоражила Сухэ. Он стал трясти переводчика, желая выпытать у него как можно больше. Но казак и сам знал очень мало, лишь то, что сообщил ему земляк, недавно прибывший в Ургу.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Эти слова были, как самая лучшая музыка.
Оседлав коня, Сухэ помчался в Ургу. А в ушах гремели слова: «великая революция», «великая революция»!.. Настоящая свобода!..
Правительство автономной Монголии было до крайности перепугано сообщением о победе Великой Октябрьской социалистической революции. Большевики… Ленин… Советская власть… Слова были страшные, словно разящий меч. Богдо-гэгэну казалось, что под ним зашатался и без того непрочный трон. Забурлила соседняя Танну-Тува.
— Урянхайцы расстреливают и вешают своих нойонов! — докладывали министры. — Большевистская зараза…
— Закрыть границу, закрыть границу!.. Чтобы заяц не мог проскочить!.. — кричал богдохан. — Всех учеников немедленно отозвать из Иркутска и установить за ними слежку. Японцы, китайцы, Америка, Германия… Кто угодно, только не большевики. Чем скорее, тем лучше!
— Границу закрыли еще раньше, — докладывали министры. — Ученики из Иркутска отозваны. За ними установлен строгий надзор.
В числе учеников, вернувшихся из России, был и Чойбалсан. В то время ему шел двадцать третий год. Пребывание в России оставило глубокий след в его сознании. Это был самый беспокойный ученик из всей группы. Он овладел русским языком, читал русские газеты, общался с русскими интеллигентами и рабочими. Он всегда был в курсе всех событий. Благожелательно улыбающийся, красивый, мягкий в отношениях с людьми, он сразу располагал к себе. Он был знатоком монгольских древностей, старинных священных текстов, знал много сказаний, умел говорить интересно. Но это была внешняя сторона. Чойбалсан живо интересовался событиями, происходившими в России.
Некогда, еще в керуленском монастыре, он мечтал стать солдатом. В своих суждениях и симпатиях он был тверд, как булат. Так же был тверд и в решениях. Он слишком много испытал в пору детства и юности лишений, чтобы равнодушно относиться к страданиям других. Когда он слышал о несправедливости, в его прищуренных черных глазах вспыхивали недобрые огоньки. Он был самым способным во всем училище. Он знал и такое, чего не знали преподаватели. Он знал, что Россия неуклонно идет к революции. Все, что творилось в России, Чойбалсан связывал с судьбами своего народа. От будущности России зависело будущее Монголии. Встречаясь с простыми людьми, он узнавал о революционном движении русского пролетариата. Он бывал на революционных митингах в Иркутске, где выступали рабочие, видел красные знамена и листовки большевиков, призывающие к свержению капиталистического строя.
Здесь он впервые услышал о Ленине.
— Ленин — вот кто даст свободу угнетенным, — говорил он в кругу своих товарищей-учеников. — Богдо и его прислужники готовы продаться тому, кто больше платит. Им нет никакого дела до страданий народа. Двести лет ламы иссушали разум и подавляли воинственный дух монголов, верно служили цинам. Глупо ждать от этой кучки бездельников освобождения. Свободу нужно завоевывать своими руками, как это делают русские рабочие и крестьяне.
Монголия… Родина!.. Он истосковался по ней. Теперь Чойбалсан знал, чем заниматься в Монголии. Он вез с собой дух свободы, ненависть ко всем поработителям. Знаменем был Ленин.
Но родина неласково встретила Чойбалсана. Еще на границе всех обыскали. Когда ученики стали возмущаться, чиновник погрозил плеткой:
— Заткните глотки, собачье отродье! Здесь вам не Иркутск… Это ты — Чойбалсан? Слыхал. Ничего, положенное количество палок тебе выдадут в Урге. Смутьян!..
Под конвоем учеников доставили в Ургу.
В Урге допрашивали, грозили, занесли в «черный список». Следили за каждым шагом. В Урге на Чой-балсана, уже вкусившего свободы, повеяло диким средневековьем. Нойон по-прежнему бил арата, не уступившего дорогу, по-прежнему все падали ниц при появлении паланкина сановника. Слонялись без дела толстозадые, разъевшиеся ламы, перебирающие четки и гнусаво читающие молитвы. Нет, здесь ничто не переменилось!..
Чойбалсану удалось поступить в школу телеграфистов. Порядки здесь были дикие: учеников били палками, не кормили, всячески измывались над ними. Занятия проводились от случая к случаю.
Чойбалсан был возмущен. Самообладание покинуло его.
— С нами обращаются, как со скотами, — заявил он чиновнику, ведающему школой. — Мы требуем навести порядок в школе и с уважением относиться к ученикам.
На чиновника будто плеснули кипятком:
— Большевик!.. Чумной сарлык… Вон, вон отсюда!..
Так Чойбалсана исключили из школы телеграфистов. До революции в Монголии было еще далеко, а час встречи с великим другом Сухэ-Батором еще не настал.
И все же перемены в Монголии были. Это угадывалось по всему. Из России хлынул поток беженцев: белогвардейские офицеры, помещики, сибирские капиталисты, бурятское и русское кулачество. Они наводнили Ургу, проклинали советскую власть и большевиков. Араты встречали их хмуро. Эти беглые толстосумы вели себя в Монголии, как хозяева, покрикивали на уртонщиков, били, если ямщик медлил. Они торопились так, словно за ними гналась стая злобных демонов. Некоторые, передохнув в Урге, катили дальше, в Калган. Тракт стал серым от крытых арб-мухлюков. И чем больше злобствовали беглые офицеры и богатеи, чем больше они клеветали на советскую власть и большевиков, тем суровее становились лица кочевников. Араты понимали: советская власть борется с угнетателями и защищает бедных. Там, в России, рабочие и крестьяне, такие же, как сами араты, отобрали землю у помещиков, фабрики у капиталистов, а родственный бурятский народ получил такие же права, как и русский народ.
В ноябре 1917 года установилась советская власть в Минусинске, а в январе — феврале 1918 года Советы утвердились в Забайкалье, в городах и селах на русско-монгольской границе.
Над крышами домов русской колонии в Урге заалели флаги. Рабочие и низшие служащие собрались вновь для выборов демократического самоуправления. Было написано приветствие Советскому правительству. Рабочие приветствовали социалистическую революцию и клялись в верности ей.
Бывший царский консул ринулся во дворец богдо-гэгэна. Хан понял, что оставаться безучастным к внутренним делам русской колонии больше нельзя. Срочно были вызваны надежные войска. Демонстрацию разогнали. В то время участились выступления аратов против своих князей. Это была борьба против огромного количества повинностей и податей. Слухи о пролетарской революции в России доходили до самых глухих кочевий.
Но Сухэ и Чойбалсан понимали: нужно время, чтобы великие освободительные идеи Октября завоевали массы обездоленного монгольского народа; потребуются годы упорной работы, прежде чем в монгольских степях расцветет красный цветок революции.
На фоне великих событий последних лет все остальное казалось маленьким, недостойным внимания. Даже назначение автономным правительством Хатан-Батора Максаржаба на пост военного министра не произвело на Сухэ большого впечатления. Всех героев, кроме Аюши, прочили в военные министры. Максаржаб взял с боем Кобдоскую крепость, разгромил последнего маньчжурского амбаня Гуй-фана. Теперь Максаржаб был военным министром автономной Монголии. Но приход Хатан-Батора к руководству войсками вскоре оказался и на судьбе Сухэ.
В 1918 году приказом Хатан-Батора Максаржаба самый способный младший офицер Дамдины Сухэ был назначен командиром пулеметной роты. Максаржаб рьяно взялся за перестройку армии на европейский лад. Он знал, что китайское правительство Дуаня рано или поздно постарается прибрать Монголию к рукам, и готовил врагу достойную встречу. При дворе Максаржаба по-прежнему ненавидели, но он был самым искусным военачальником, твердым, решительным защитником нации. Командование армией он принял на себя, с презрением относился к своему заместителю, а вернее соглядатаю, подосланному правительством, князьку Баяру. Баяр путался в ногах, доносил, пытался отменять приказы военного министра. Это был мелкий завистливый и бездарный человек, мечтавший, как бы спихнуть Максаржаба и самому занять его пост. Свою ненависть к Максаржабу он переносил и на любимцев военного министра. Командир пулеметной роты Дамдины Сухэ был отмечен военным министром, и Баяр сразу же возненавидел Сухэ, этого голодранца, вожака цириков.
Организация периферийных, или худонских, войск, вооруженных луками и стрелами, пиками и мечами, фитильными и кремневыми ружьями, уже давно пришедшими в негодность, оставалась все такой же, как и при маньчжурах. Каждый хошун делился на сомонные ведомства по сто пятьдесят юрт или семейств, обязанных выставлять на случай войны сто пятьдесят всадников. Сомонами-эскадронами командовали сомон-зангины, в помощь которым выделялись один офицер и шесть унтер-офицеров. Каждые шесть сомонов-эскадронов составляли кавалерийский полк. Это была архаическая организация, и Максаржаб мечтал ликвидировать ее, создать регулярную армию, но на каждом шагу натыкался на сопротивление высших лам и нойонов. Максаржаб торопился до выступления китайцев сделать монгольскую армию крепкой, спаянной, боеспособной. А в том, что китайцы нападут, он не сомневался.
Еще в 1915 году Юань Ши-кай принял позорное «21 требование», навязанное ему японцами. По этому документу восточная часть Внутренней Монголии превращалась в японскую колонию. В марте и апреле 1918 года японцы заключили два секретных соглашения с Дуанем о совместной вооруженной борьбе против Советской России. По этим соглашениям китайские милитаристы обязались ввести свои войска во Внешнюю Монголию.
Страх правительства богдо-гэгэна перед революцией был так велик, что оно безоговорочно согласилось на ввод в Ургу китайских войск. Это была пока лишь частичная капитуляция. В марте 1918 года в Ургу вступил в полном вооружении батальон китайских войск. А в это время на востоке Монголии объявился некий харчин-гун Бабужаб. Этот Бабужаб в свое время бежал из Халхи, навербовал из чахар банду в несколько тысяч человек, захватил Хайлар, предал огню и разрушению баргутские хошуны, мстя за восстание 1912 года, а потом двинулся к границам Внешней Монголии. На своем пути свирепый бандит разорял айлы, казнил аратов, отнимал скот. Изменник Бабужаб даже создал свое правительство, наделив приближенных званиями министров и высокими княжескими титулами.
Военный министр автономной Монголии, разгневанный до предела, решил покончить с зарвавшимся бандитом… Его мало беспокоило то, что Бабужаб пользуется поддержкой китайского правительства, и то, что Бабужаб состоит на службе у японцев. Даже появление в Урге батальона китайских войск не поколебало принятого решения. На богдохана и его приближенных надежда была плоха. Они уже встали на путь предательства национальных интересов. Оставалось действовать самостоятельно вопреки высшим ламам и князьям. Максаржаб бросил часть своих войск на восточную границу под Тамцаг-Булак. В составе этих войск была и пулеметная рота Сухэ.
Тесть, провожая Сухэ на войну, благословил его, поднес чашу с молоком.
— Бей их крепче, — сказал он. — А победишь злого врага — вернешься с широкой славой…
Янжима с маленьким сыном оставалась в Худжирбулане.
…Шагали по высокой траве кони, тянулись рядами обозы. Безжизненная степь, плоская, как стол, простиралась во все стороны. По степи причудливо извивалась узкая речушка, которую легко было перейти вброд. Вода ее была мутная, темно-коричневая.
Воспетый в легендах голубой Керулен… Отсюда много веков назад орды жестокого Чингис-хана совершали набеги на соседние страны. Синие и белые знамена завоевателей развевались в Тибете, Индии, Индо-Китае, на берегах Персидского залива и Днестра. Потомки Чингис-хана дошли до берегов Одера, Дуная и даже Адриатического моря. Потом огромная империя рухнула, распалась.
Да, это был Керулен — родина «сына неба», завоевателя Чингис-хана и родина безвестных предков нищего крепостного арата Дамдина. Сровнялся с землей, порос травами острыми, как нож, вал Чингис-хана, вымерли его воинственные потомки, а Сухэ, сын арата Дамдина, едет по степи. Остался далеко позади Ундурхан. А потом Сан-бэйсэ.
А еще дальше — Тамцаг-Булак… А впрочем, никто не знает, где может произойти кровавая стычка с коварным врагом.
Много лет прошло с тех пор, как Сухэ был призван на военную службу, многое случилось за это время. Сухэ шел уже двадцать пятый год. Позади солдатчина, курсы пулеметчиков, служба в Худжирбулане, встречи с самыми разными людьми, бурные события…
Сейчас Сухэ ехал впереди колонны, думал о том, что ему наконец-то удалось повидать Керулен. Неподалеку отсюда, южнее, была родина отца — Дамдина.
Люди и кони были измотаны тысячеверстным переходом через сопки и восточные равнины.
Местность в районе Тамцаг-Булака была открытая. Кое-где низины, древние русла высохших речек, солончаки, небольшие соленые озера, а дальше на восток невысокие барханы, полноводная Халхин-Гол и ее приток Нумургин-Гол. Это было поле будущего боя. Оценив местность, Сухэ расположил свою роту за невысоким увалом, выставил охранение. Нужно было дать людям отдохнуть. По сведениям конных разведчиков, Бабужаб имел явное превосходство в силах.
Атаковать его с ходу нечего было и думать. Тревожная ночь легла на притихшие степи. Где-то поблизости был противник, он мог нагрянуть внезапно. Цирики, как только слезли с коней, сразу же повалились на землю, даже не подложив седла под головы. И поднять изморенных походом бойцов не могла никакая сила.
Не спал только Сухэ. Он и сам был измотан до крайности, но сейчас спать было нельзя. У Бабужаба сытые, откормленные кони, японские пушки, немецкие винтовки. Бабужаб был неуловим, как степной ветер.
В эту ночь Сухэ через каждый час проверял караулы, а когда заставал дремлющего цирика, то отсылал его в лагерь, а сам становился вместо него.
Началась жизнь, полная тревог, стычек с врагом. Сухэ лично сам ходил в разведку, стремясь выведать намерения противника. Опасные вылазки в тыл войск бандитов дали многое. Теперь Сухэ знал, с кем имеет дело. На левом берегу Халхин-Гола расположился так называемый министр Даржья со своим чахарским полком. Полк насчитывал более тысячи всадников. Это были главные силы Бабужаба. Если бы удалось скрытно подойти к ним и застать врасплох, можно было надеяться на успех. Бандиты пировали. У майханов — палаток — догорали костры, неподалеку паслись стреноженные кони. Из майханов доносились женский визг и ругань. Награбленное добро было навалено на двухколесные телеги.
Халхин-Гол… Восточный рубеж автономной Монголии. Дальше была Барга, Большой Хинган…
Войско Даржьи не отличалось высокой дисциплиной, — это сразу же отметил Сухэ. Так могли вести себя лишь те, кто привык к полной безнаказанности, верил в свое лихое счастье. Даржья и его командир полка гун Самбу явно не торопились развертывать боевые действия. Они, по-видимому, считали, что монголы не посмеют напасть на них, хотели взять своего противника измором, подождать, когда у него кончится продовольствие. Население откочевало из этих мест, и снабжение монгольских войск становилось неразрешимой проблемой. Сухэ доказывал, что с выступлением медлить нельзя. Он был уверен в своих людях.
Нигде, как в боевой обстановке, узнается характер каждого. Цирики рвались в бой. Один лишь заместитель министра Баяр никуда не рвался. В своей высокой шапке джанджина, в мундире русского офицера— синих, как небо, штанах и хромовых, сверкающих, словно зеркало, сапожках — он гарцевал на сером коне, ввязывался во всякое дело, кричал, брызжа слюной, раздавал направо и налево удары плетью. Этот недалекий человек наивно полагал, что один вид его должен внушить страх Бабужабу и его шайке. О тактике современного боя он не имел ни малейшего представления.
И когда была намечена операция против чахарского полка Даржьи, Баяр оставил себе всего лишь небольшой резервный отряд. Ввязываться в кровопролитную драку ему не хотелось.
— Ты, Сухэ, искусный батыр, сам министр отметил тебя в приказе, — говорил он насмешливо-льстивым голосом, — на тебя вся надежда войск прославленного Хатан-Батора Максаржаба.
— Наш министр любит говорить: лучше рухнуть скалой, чем сыпаться песком, — с улыбкой отвечал Сухэ.
Используя долины, заросшие солянкой, и сухие русла, Сухэ повел свой отряд к Халхин-Голу. Стояла лунная ночь. Охранение противника удалось снять бесшумно. Сухэ думалось, что половина дела сделана.
Все погубил цирик Даши. Этот Даши вообще не отличался дисциплинированностью и, как подметил Сухэ, был трусоват. Этот Даши заметил конный разъезд врага. Вместо того чтобы пропустить разъезд, он открыл по нему стрельбу, вообразив, что всадники гонятся за ним. В лагере Даржьи поднялся переполох. Первым движением Сухэ было пристрелить здесь же на месте цирика, наделавшего столько бед, но он сдержался. Требовалось срочно принимать решение.
— Вперед! За мной! За Монголию!..
Конь вырвался вперед, Сухэ, размахивая клинком, врезался в гущу врагов.
— Кху! Кху! Кху!.. — отозвались цирики. Это был древний клич воинственных монголов, пронесенный сквозь века.
Первый налет монгольской конницы произвел большое опустошение в рядах чахаров. Но превосходство в силах все же оставалось на стороне Даржьи и Самбу. К утру чахары стали теснить отряд Сухэ. Небольшая пушка, установленная «а высоком бархане, хотя и не наносила большого урона, но ее беспрерывный гул наводил панику на некоторых слабовольных цириков.
За большим камнем прятался солдат Даши. Сухэ подъехал к нему, схватил за шиворот, вытащил из-за укрытия:
— Так-то ты проявляешь солдатское мужество! Вместе с Очиром и Цэндэ ползи к тому бархану. Нужно уничтожить орудийный расчет. Не выполнишь — расстреляю!
Под суровым взглядом командира Даши сжался, а потом, вынув из-за голенища гутула нож в деревянном чехле, кинулся к бархану выполнять приказание.
Оправившись от первого удара, чахары перешли в наступление. Это была яростная лавина, которая неудержимо катилась по степи. Оскаленные лошадиные морды, перекошенные злобой темные лица чахар, сверкающие кривые сабли, длинные пики…
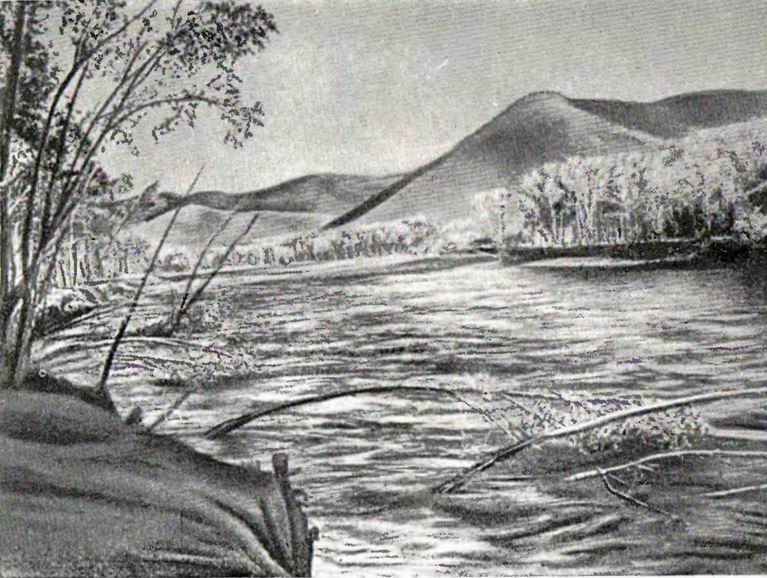
Река Тола близ Урги.

Монголка в старинном наряде.

Буддийский лама-монах.

Ламаистский монастырь в Урге.
Взмыленного коня Сухэ подсекли. Командир отряда едва успел спрыгнуть с седла. А чахарская конница была уже совсем близко. Спасти положение сейчас могла лишь находчивость. Цирики положили своих коней, припали к земле, и вряд ли удалось бы их поднять в атаку.
Сухэ, растолкав солдат, схватил пулемет и втащил его на крутой бархан. Разметанные гривы чахарских коней, дорогие седла, сверкающие стремена… Сухэ лежал за бронированным щитком и ждал. Цирик менял воду в охлаждающем кожухе «максима», другой трясущимися руками вставлял латунный язычок ленты в приемник.
Пора!.. Гулко застрочил пулемет, посыпались на песок черные дымные гильзы. Шарахнулись кони. Посеченные косоприцельным пулеметным огнем, рухнули на землю. Закусив губу, Сухэ выдавал очередь за очередью, хладнокровно, расчетливо. Чахары дрогнули, покатились назад.
Поднялись цирики, повскакали на коней. Оставив пулеметный расчет, Сухэ на запасном жеребце поскакал вперед. Натиск был так стремителен, что враг растерялся, в панике бросился к Халхин-Голу.
— Заходи с левого фланга! — крикнул Сухэ одному из командиров. — Нужно отрезать их от реки.
Но было уже поздно. Чахары вброд и вплавь бросились на правый берег. А с бархана по-прежнему строчил пулемет.
Началось преследование. Отряд Сухэ ворвался в Баргу. Чахары огрызались огнем, устраивали засады, но бой ими уже был проигран. Вязли в сыпучем песке кони, повозки.
Особенно плохо приходилось разбойному гуну Самбу. Отягощенный награбленным добром, с которым он не хотел расставаться, Самбу метался из стороны в сторону, как затравленный волк. В конце концов остатки его войска устремились к монастырю Джанжин-Сумэ. Но здесь чахаров уже ждал заслон, высланный Сухэ в обход. Не разбирая больше дороги, обезумевший от страха Самбу побросал повозки с оружием, серебром, женскими украшениями, дорогими седлами и уздечками, шелковой одеждой и побежал на юг. Но отряд Сухэ не давал передышки врагу. Никому и в голову не пришло подбирать трофеи. Нужно было пленить бандита Самбу.
Беглеца удалось настичь только в Хандагае. Сухэ самолично накинул аркан на шею Самбу и стащил его с седла.
Так закончились халхин-голские бои. Бабужаб был разбит наголову. Повернули коней обратно, погнали впереди пленных. Сухэ приказал подобрать трофеи и переправить их в штаб. Но — увы! Трофеи, повозки — все непостижимым образом исчезло.
В штабе все выяснилось. Заместитель военного министра Баяр потирал руки и, сощурив масляные глазки, говорил:
— Наконец-то я разбил этого изменника Бабужаба. Даже негодяй Самбу не ушел от меня. Богатые трофеи удалось мне захватить. Если бы не этот щенок Сухэ, число пленных было бы намного больше. Если говорить по-честному, чахары испугались одного нашего вида и сами без боя сдались в плен. Не нужно было распугивать их пулеметами.
Сухэ едва сдерживал себя, чтобы не ударить наглеца. Стиснув зубы и ничего не сказав, он отправился к своим цирикам. Ни словом он не обмолвился и в полку. Баяр без зазрения совести присвоил себе и славу и захват трофеев. Искать правды у тупых, подкупленных чиновников и князьков было бесполезно. Цирики, прослышав каким-то образом обо всем, пришли в негодование.
— Мы убьем этого мерзавца! — грозились они. — Мы видели, как ты сражался, бакши…
— Запрещаю это делать! — рассердился Сухэ. — Разве дело в славе и заслугах? Мы уничтожили врагов Монголии — и в этом высшая награда. Настоящий герой не я, а цирик Даши: он победил свой страх и дрался как лев. Он победил страх. Вот что важнее всего!..
Даши покраснел, сказал едва слышно:
— Вы из всех нас сделали героев, бакши… Жизнь труса не стоит даже овечьего помета.
Хатан-Батор Максаржаб слишком хорошо знал Баяра, чтобы поверить во все его небылицы. Он назначил расследование. Были опрошены цирики, пленные баргуты и вожак Самбу. Вор Баяр был изобличен. Картина прояснилась: Сухэ с горсткой людей совершил героический подвиг, разгромил основные силы Бабужаба.
Весь личный состав был выстроен на плацу.
Хатан-Батор Максаржаб вызвал из строя Сухэ и обнял его.
— Правительство автономной Монголии восхищено вашими героическими подвигами, — произнес военный министр. — За беспредельную любовь к родине и народу вам присваивается почетное звание Батора. Отныне все будут называть вас Сухэ-Батор!..
Максаржаб своими руками прикрепил к головному убору героя шарик-джинс четвертой степени.
Разгром изменника Бабужаба был только ярким эпизодом в борьбе лучших людей Монголии за независимость своей родины. И пока цирики, вчерашние араты, проливали кровь на полях сражений, богдо-гэгэн и его клика делали свое черное дело. Призрак революции неумолимо стоял перед затуманенным винными парами взором хана. Весть о победе над Бабужабом он выслушал равнодушно. Было бы даже лучше, если бы не связывались, с этим японским ставленником. Дуань припомнит все… Ведь он сам возглавляет прояпонскую группу «Аньфу».
Во Владивостоке высадилась стотысячная японская армия, к ней присоединились английские и американские отряды. Формировались белогвардейские части. Японцы вновь вытащили пропыленный план создания «Великой Монголии», включающей в себя Бурят-Монголию, Внешнюю и Внутреннюю Монголию, Баргу, Кукунор и другие районы, населенные монголами. Во главе «движения панмонголистов» они поставили своего агента — белогвардейского атамана Семенова. Под всем этим крылось стремление превратить Монголию в базу для войны против Советской России.
Атаман Семенов обосновался на железнодорожной станции Маньчжурия. Здесь он организовал отряд из китайцев и монголов в полторы тысячи человек и стал готовиться к походу во Внешнюю Монголию. Конференция, которую он созвал на станции Даурия, избрала правительство «Великой Монголии» со столицей в Хайларе. В Ургу направили делегацию с предложением богдо-гэгэну занять трон будущего великого государства.
Сколько лет мечтал Джебдзундамба-хутухта о престоле хана «Великой Монголии»! Теперь, казалось, мечта могла осуществиться. Ему предлагали власть, хотя он для собственного же блага не пошевелил даже пальцем. Соблазн был слишком велик.
Но богдо скоро опомнился. Он уже знал, что китайские милитаристы категорически протестуют против создания «Великой-Монголии».
В Урге находились китайские солдаты, они же контролировали телеграф. Как бы не потерять и свой собственный трон!.. А кроме того, кто может поручиться, что тот же нэйсэ-гэгэн Мэндбаир, высший лама Внутренней Монголии, перешедший на службу к японцам, не постарается столкнуть его, «многими возведенного»?
Делегация так и не была принята богдо-гэгэном. Панмонгольская авантюра провалилась, «правительство» распалось, а глава его, нэйсэ-гэгэн Мэндбаир, был схвачен и расстрелян китайцами. Когда богдо-гэгэн узнал об участи своего собрата из Внутренней Монголии, то содрогнулся: такая участь ждала и его. Пекинское правительство сразу же использовало панмонгольскую авантюру в своих целях. Оно двинуло во Внешнюю Монголию свои войска, якобы для того, чтобы защитить последнюю от происков панмонголистов. Сановники клики «Аньфу» утвердились в Урге. Появились китайские гарнизоны и в Кяхте и в других городах. Истинные причины ввода своих войск пекинское правительство объяснило пол года спустя через агентство Рейтер: «Принимая во внимание положение, создавшееся в Сибири в 1918 году вследствие распространения большевизма и повсеместных волнений, Китай увидел себя вынужденным заняться вопросом, тесно связанным с безопасностью Пекина…»
К этому времени ярые сторонники сближения с Россией Ханда-Дорджи и Намнан-Сурун уже были убраны с дороги: их отравили. Премьером автономной Монголии стал один из крупнейших церковников, шанцзотба Бадма-Дорджи. Перепуганный насмерть успехами Красной Армии, приближавшейся к границам Монголии, этот шанцзотба готов был отдать страну в рабство кому угодно: хоть японцам, хоть аньфуистам.
На очереди стоял вопрос о ликвидации автономии Монголии.
А в жизни Сухэ-Батора в это смутное время началась новая полоса.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
258. ЛУННЫЙ СВЕТ
258. ЛУННЫЙ СВЕТ Безумноустая медоточит луна Чревоугодию всю ночь посвящена Светила с ролью пчел справляются умело Предместья и сады пьяны сытою белой Ведь каждый лунный луч спадающий с высот Преображается внизу в медовый сот Ночной истории я жду развязки хмуро Я жала
«There is a certain slant of light…» Зимний свет, ты — тихий свет
«There is a certain slant of light…» Зимний свет, ты — тихий свет Зимний свет, ты — тихий свет, Ты — не ураган. В тех лучах уж много лет Чудится орган. Отойди, поберегись (Сердцем рвешься ввысь!) Металлический регистр Над тобой завис. Этот холод нам знаком: Только запоешь, Только
Свет
Свет Ах, свет! Где был ты, пропадая? Смотрю вокруг – не угадаю… Что изменилось в мире этом? Вновь улица лучится светом. Огни вечерние, откуда Явились вы опять, как чудо? Все так знакомо мне… Но краски Как в новой самой яркой сказке. И вдруг – гармошка. Словно весь
Свет
Свет Нет радостнее радости, чем свет. Все краски мира подаривший людям, Он нам сияет миллионы лет, И прославлять его всегда мы будем. Всем равно – и орлу и муравью, Ночному хищнику и робкой лани — Он силу животворную свою Раздаривает солнечным сияньем, И лишь меня
«Свет, всегда свет!» (1873–1878)
«Свет, всегда свет!» (1873–1878) Летом 1873 года роман о революции закончен, и писатель возвращается в Париж. Туда зовет многое — и борьба за амнистию, и хлопоты, связанные с изданием книги, и, главное, тяжелая болезнь сына; надежды на его выздоровление уже нет.Франсуа Виктор
Дорога на тот свет
Дорога на тот свет «После окончания следствия приводят в общую камеру… Трехэтажные нары. 120 человек, десятиведерная параша. Я еще молодая, гибкая была, мне хотелось размяться. Я стала на нарах делать что-нибудь — ноги за голову закину или голову между ног. Маруся Давидович
СВЕТ
СВЕТ Детство — пора неосознанного богатства золотого запаса времени, пора игр, драк, сборищ и шалостей на пыльных улицах сибирского города, беззаботно-веселого катания с горы на санях или лыжах до испарины, до приятного утомления. Детство неразумное, когда азарт набить
3 октября — 6.30 4 октября 1993 года Книга 2
3 октября — 6.30 4 октября 1993 года Книга 2 УКАЗ №1575 Указ Бориса Николаевича Ельцина«О введении чрезвычайного положения в городе Москве» (директивная часть)Требование Совета Министров — Правительства Российской Федерации и правительства Москвы по организованному
6.30 4 октября — 5 октября 1993 года Книга 3
6.30 4 октября — 5 октября 1993 года Книга 3 УКАЗ № 1578 Указ Бориса Николаевича Ельцина «О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве» (директивная часть)«…ПОСТАНОВЛЯЮ:1. В соответствии со статьей 19 закона Российской Федерации «О
Свет и тени
Свет и тени Пехота продолжает наступать по железной дороге в направлении Двинская — Екатеринодар. Мы охватываем расположение противника с севера, занимая станицу за станицей. Сейчас мы уже подходим к Новотитаровской.Наш игрушечный начальник конвоя, хорунжий К., вчера
Свет неугасимый
Свет неугасимый "Дано Преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первое при князе Дмитрии; второе — при Минине; третье — теперь".Так знает русский народ вместе с молитвами Христу Спасу, устремивший упование свое к Великому Предстателю и молитвеннику русскому,
Свет
Свет Световая партитура спектакля Час пик. Боженцкая – Н. Сайко; Боженцкий – Л. Филатов.Пластика актера, костюмы, маски, тени, сценография – все эти пластические элементы спектакля получают воплощение, когда сценическое пространство освещается. Конечно, свет в