Музыкальные вкусы и пристрастия В. Высоцкого
Музыкальные вкусы и пристрастия В. Высоцкого
О музыкальных вкусах и пристрастиях Владимира Высоцкого известно очень немного. Из его выступлений перед слушателями становится ясно, что он недолюбливал эстраду, а благодаря воспоминаниям друзей мы узнаем, что он любил джаз. Об отношении поэта к классической музыке, к сожалению, почти ничего не известно. Единственный композитор и произведение, упоминающиеся в качестве любимых в известной анкете 1970 года, — Ф. Шопен, 12-й этюд (ор. 10, № 12, до минор, allegro con fuoco), написанный в Штутгарте в 1831 году, в год восстания в Польше, и известный как «революционный»[111].
На первый взгляд это может показаться странным: почему Шопен, а не, скажем, Бетховен? Для стремительной, порывистой натуры Высоцкого, казалось бы, должны были быть близки исполненные огромного драматизма, героики и энергии произведения автора «Героической», Пятой, с ее девизом «Борьба с Судьбой», и Девятой, с ее финальным хором на слова оды Ф. Шиллера «К радости», симфоний.
В то же время упоминание Шопена в качестве любимого композитора оказывается при ближайшем рассмотрении отнюдь не случайным. Ведь его творчество, романтическое по своей направленности, «насыщено жизненными, психологически правдивыми и глубоко содержательными образами. В музыке Шопена с большой страстью и драматизмом выражена идея борьбы польского народа за освобождение, трагическая скорбь об угнетении, героический порыв к победе, воплощен богатый мир человеческих переживаний»[112].
Кроме того, Шопен мог оказаться родственным Высоцкому еще и в национально-культурном отношении. Дело в том, что в числе стран, к которым он относится с симпатией, в той же анкете 1970 года наряду с Россией Высоцкий назвал Польшу и Францию[113]. Шопен, как известно, происходил из двух корней — польского и французского. Детство и юность его прошли в Варшаве, а с 1831 года он жил в Париже. И хотя он считается основоположником польской музыкальной классики, но в своем творчестве он, несомненно, соединил культуры обеих стран.
Также поэту могла оказаться близка балладность композитора. Тяга Высоцкого к балладе известна и не вызывает сомнений, несомненен и его вклад в развитие этого жанра. Что же касается Шопена, то именно ему принадлежит заслуга создания жанра фортепианной баллады. А его этюды по глубине художественной мысли и силе романтических чувств, образов и настроений не только не уступают, но и безусловно родственны балладам. Что же касается 12-го, «революционного», этюда, то в этом произведении, наряду с поистине героической стремительностью к свободе и победе, ощутима горячая любовь к родине. Так что русскому поэту мог оказаться близким и глубокий патриотизм польского композитора.
Известно, что Высоцкий в жизни и творчестве часто цитировал любимых авторов и их произведения, известны и его импровизации с включением имен друзей и близких в театральных и кинопостановках. Не было ли такой цитатой-импровизацией использование, правда, другого этюда Шопена в телевизионном фильме режиссера С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя»? В сцене, где Шарапов, оказавшись в банде «Черная кошка», подвергается проверке со стороны бандитов, умеет ли он играть на фортепиано, на их предложение «сбацать что-нибудь» «бацает» не что иное, как 2-й этюд Шопена (ор. 25, № 2, фа минор, presto).
В той же анкете 1970 года на вопрос о любимой песне он ответил: «Вставай, страна огромная», а любимым звуком назвал звук колокола[114]. Анатолий Меньшиков, инициатор составления анкеты, признавался, что ответы Высоцкого несколько его разочаровали: слишком уж упрошенными они ему показались. Действительно, ответы Высоцкого предельно лаконичны и искренни, он не старался показаться оригинальным. Уловив разочарование автора анкеты, на следующий день он его спросил: «„Ну-ка, открой. Что тебе не нравится?“ Тот откровенно ответил: „Любимая песня — „Вставай, страна огромная“. Конечно, это патриотическая песня, но…“ Он вдруг с какой-то тоской и досадой посмотрел на меня, положил руку на плечо и сказал: „Щенок. Когда у тебя мурашки по коже побегут от этой песни, тогда ты поймешь, что я прав. И почему я ее люблю…“»[115]
Возможно, что это единственная из так называемых «массовых» песен, которую любил Высоцкий. Нетрудно догадаться, почему. Прежде всего, из-за того заряда патриотического духа, который она несет, но не только. Есть в ней еще одно важное качество, которое ценил Высоцкий в песне, — то настроение, которое она создает. В данном случае — установка на победу любой иеной, призыв к концентрации всех сил для этого, а следовательно, и к единению.
Можно смело утверждать, что Высоцкий любил и другие песни военных лет, хотя никогда об этом не говорил и песен этих не исполнял.
Известно, что тема войны занимает в творчестве Высоцкого одно из центральных мест. Он разрабатывал ее последовательно, на протяжении всего творчества. И хотя произведения Высоцкого о войне создавались разрозненно, они довольно легко объединяются в цикл благодаря четким границам темы. И если расположить все произведения этого цикла не в порядке их написания, а в хронологической последовательности описываемых событий, то получится настоящая летопись войны: от трагического начала («Растревожили в логове старое зло») до победно-драматичного шествия («Песня о конце войны»).
Свою приверженность этой теме сам поэт объяснял принадлежностью к «военной семье» и к поколению «детей войны»: «…мы дети военных лет — для нас это вообще никогда не забудется. <…> Я вот отдаю дань этому времени своими песнями. Это почетная задача — писать о людях, которые воевали»[116]. Исполнение песен о войне он нередко предварял словами: «…это не песни-ретроспекции — я не могу ничего вспомнить из того, чего я сам видел. Это, конечно, песни-ассоциации. Написаны они человеком, живущим теперь, для людей, большинство из которых войны не прошли или у которых она уже в далеком-далеком прошлом»[117].
Военные песни Высоцкого чрезвычайно органичны. Нередко они воспринимаются слушателями как написанное очевидцем или участником описываемых событий, хотя их автор в те годы был ребенком. Он словно оправдывается:
«Как можно писать о войне человеку, которому было три года, когда она началась, и 7 лет, когда закончилась? Можно ли нафантазировать себе полнее, яснее и трагичнее, чем это было на самом деле? Можно ли почувствовать, пропустить через себя события, мысли и настроение военных дней? Как понять ожидание боя, ярость атак, смерть, подвиг, если это не пережито, не увидено? Стоит ли браться за это, можно ли писать военные песни после того, как отзвучали и продолжают звучать „Война народная“ и „Землянка“, „Марш артиллеристов“ и „Темная ночь“?»[118]
Задавал ли Владимир Высоцкий себе эти вопросы сам или отвечал таким образом на вопросы своих оппонентов и многочисленных слушателей? В любом случае, ответ был таким: «По-моему, нас мучает чувство вины за то, что „опоздали“ родиться, и мы своим творчеством как бы „довоевываем“»[119].
Кроме того, к середине 1960-х годов, когда праздновалось уже 20-летие Победы, поколения воевавших и «детей войны» практически сравнялись: это были уже не «отцы и дети», а как бы братья — «старшие» и «младшие». Как справедливо заметил кинодраматург В. Акимов, близко знавший В. Высоцкого, это «слияние» проявилось во всем: «И вдруг оказалось, что и интересы общие, и понятия, и умонастроения. То есть сама среда, в которой мы смогли причаститься к одинаковому восприятию общих тягот, позволила нам, не бывшим на войне, встать как бы вровень с теми, кто эту войну прошел… И мне кажется, что именно это во многом повлияло на чрезвычайную органичность военных песен Высоцкого. Не случайно люди старшего поколения воспринимают эти песни как естественные, написанные их современником, — человеком, который вместе с ними все это прошел, пережил, испытал. То есть это не было наносным — оно впитывалось из окружающей среды, пропускалось через себя — через свое сознание — и находило выход в виде песен, возвращаясь к людям, от которых и было взято» [120].
Наверное, поэтому Владимир Высоцкий, принадлежащий к поколению шестидесятников — «послевоенным мечтателям», оказывается ближе поэтам военного поколения — С. Гудзенко, М. Кульчицкому, Н. Майорову, нежели поэтам-шестидесятникам — А. Вознесенскому, Е. Евтушенко, Р. Рождественскому, ибо в своем творчестве он воспринял, продолжил и развил лучшие традиции военной поэзии. Его по праву можно считать одним из прямых наследников этого литературного поколения. И не только потому, что он по возрасту относился к поколению «детей войны», то есть младших братьев и сыновей воевавших, но еще и потому, что по сути своей это был поэт эпического склада, воспринимавший мир прежде всего «сюжетно», в его драматизме, во взаимосвязи и единстве событий и явлений. Действительно, творчество Высоцкого от поэтов-шестидесятников отличали не только внешние условия: бытование, «способ диалога с аудиторией» (С. Чупринин) и т. д., — отличным было и его внутреннее содержание, ибо, по наблюдению В. Новикова[121], иной была сама доминанта: у шестидесятников она социальная, у Высоцкого — нравственно-философская.
Кроме того, особая романтика, стремление «соединять несоединимое», «цельность и полнота мироощущения», образно-эмоциональный строй стиха, необыкновенная достоверность, почти дневниковость в изображении событий — все это роднит творчество Высоцкого с фронтовой поэзией. Роднит их и эстетический принцип, найденный этим поколением поэтов, — «конфликт реалий и символов», «соединение высокой символики и грубой прозы»[122], «сплав величественного и бытового, конкретности и обобщенности»[123]. Кроме того, их сближает и «суровая правда солдат», и та прямота, с которой она выражается, и особая патетика, напрочь лишенная «высокопарного наигрыша», и особое звучание мотивов памяти и долга. Интересно отметить, что родство с фронтовой поэзией проявилось на всем пространстве творчества Высоцкого, хотя, конечно, в большей степени оно заметно именно в произведениях о войне.
Подобная разработка военной темы вообще достаточно характерна для авторской песни в целом. По наблюдениям исследователей, «вышла она из „Землянки“, из окопов… из особого состояния души человека, оставшегося перед лицом нравственного выбора один на один с совестью и Родиной» (Крымов С.)[124].
Кроме того, война в изображении Высоцкого — это не только следствие «особого устройства памяти» поэта (Н. Крымова), и не только экстремальное для человека состояние, позволяющее ему проявиться, раскрыться наиболее полно, но и момент проявления этоса — общечеловеческой совести, — а значит, и возможного единения, ибо этос постоянно напоминает людям о принадлежности к человеческому сообществу, об их связанности друг с другом. В стихах о войне ощущение всеобщей связанности передается Высоцким при помощи такой, казалось бы, незначительной детали, как преобладание местоимения «мы» над «я», в целом характерным для его поэзии. В произведениях Высоцкого мы сталкиваемся с тем же парадоксом мироощущения, что и у воевавших поэтов: при постоянном присутствии смерти — полное отсутствие ее трагизма и безысходности. И хотя причины, породившие его, разные, результат один — утверждение жизни в ее бесконечности:
Разрывы глушили биенье сердец,
Мое же мне громко стучало,
Что все же конец мой — еще не конец:
Конец — это чье-то начало. (I, 215)
Наверное, поэтому Высоцкий, в целом не любивший эстрадной песни, высоко ценил творчество Марка Бернеса, голос которого, по его словам, принадлежал «в основном к военному времени, к послевоенному» [125] и у многих ассоциировался прежде всего с кинофильмом «Два бойца» и песнями, звучащими в нем. Высоцкий, прежде всего ценивший в человеке творца, а в исполнителе — личность, индивидуальность, выделял Бернеса еще и потому, что тот «никогда не позволял себе петь плохую поэзию. Ведь сколько лет он уже не живет, а услышите его голос по радио — и вам захочется прильнуть, услышать, про что он поет. Он был удивительным человеком, и то, что он делал на сцене, приближается к идеалу, о котором я мечтаю как об идеале исполнительском. Такому человеку я мог бы отдать все, что он захотел бы спеть из моего. Кстати, он пел мою песню „Братские могилы“ в фильме „Я родом из детства“, я начал с ним работать, но, к сожалению, поздно» [126]. Кроме того, Высоцкий приводит удивительный пример воздействия «сочетания музыки вместе с голосом Бернеса и с изображением» в этом фильме В. Турова: к женщине, на глазах которой фашисты повесили двух ее сыновей, во время просмотра этой картины вернулась память[127].
Отношение Высоцкого к А. Вертинскому, Л. Утесову, П. Лешенко и другим эстрадным певцам того времени определялось тем, что они тогда противостояли массовой песне именно своей интонацией — доверительной, искренней, душевной.
По словам Высоцкого, «эстрадная песня имеет ряд преимуществ перед авторской песней. У певцов есть вокальные данные, голоса поставленные, они учились в консерваториях. За ними оркестр громадный. Есть паузы для отдыха. То девочки танцуют, то жонглер покидает что-нибудь. Авторская песня отличается от эстрадной, как классический балет от присядки»[128].
Высоцкий отмечал: «Конечно, песни очень резко отличаются. Все наши песни, которые мы поем, так сказать „самодеятельные“, — они в основном играются. И это песни, в которых слушается текст. И в основном воспринимается содержание. Во всех же песнях эстрадных… в большинстве — я не хочу огульно охаивать все, — когда слушаешь, не воспринимаешь текст. Совсем. Эти песни нельзя играть, и они не несут информацию, если можно так сказать. <…> Впрочем, на эстраде очень много есть интересных песен и по содержанию. <…> Ну, и еще я хочу сказать, что есть песни, в которых, может быть, не так что-нибудь происходит в самой песне, но она создает настроение. Я и за эти песни. Такие песни на эстраде присутствуют, но их, к сожалению, очень мало»[129].
Другое дело, что Высоцкий всегда ценил талант, высокий профессионализм и творчество в любом деле, поэтому, наверное, с одобрением мог воспринять любой жанр или вид искусства, любого исполнителя, лишь бы у него было «свое лицо». Он неоднократно говорил, что «искусство несет миссию более высокую, чем просто развлекательную», что в любой творческой деятельности должно быть содержание и что «на сиене интереснее видеть личность, индивидуальность, человека, который имеет свое мнение»[130]. Наверное, поэтому из певцов-исполнителей Высоцкому очень нравилась Елена Камбурова[131].
Себя певцом он не считал, не уставая повторять, что никаких особенных вокальных данных у него нет. На просьбы зрителей-слушателей исполнить какую-либо не свою песню он реагировал безапелляционно, хотя и с присушим ему юмором: «Ну вы подумайте, о чем вы меня просите! Вы же нормальный взрослый человек! Я ведь пою только свое! Чужого я не пою никогда. Даже на стихи Пушкина. Вернее, тем более на стихи Пушкина. Я ведь не певец. Какое это пение, к дьяволу?! Вы бы меня еще попросили спеть арию Ленского… Я понимаю, что песня „Дорожная“ очень хорошая…»[132]
И хотя на упреки в примитивности музыки и отсутствии вокальных данных он отвечал достаточно резко: «Меня, например, упрекают в том, что я кричу. Но не хотите — не слушайте»[133], — но людей с вокальными данными ценил высоко и любил послушать, как он говорил, «чистого голоса».
Однажды, выступая на телефонной станции, Высоцкий пригласил выступить вместе с ним Александра Подболотова, учившегося тогда в консерватории. Представил его так: «Мой друг — Саша Подболотов. Вот послушайте чистого голоса»[134]. Подболотов позднее вспоминал: «Для меня это приглашение было большой неожиданностью. Тогда я впервые увидел Высоцкого в концерте. <…> Я сразу же отбросил все технические детали: как поет, как владеет гитарой… Меня поразило то, что называют „сценическим обаянием“.<…> Володя спел песен шесть, я спел четыре романса… Немного, чтобы не мешать… <…> Да, он мне однажды сказал:
— Саша, ты поешь лучше меня.
Я говорю:
— Володя, тут дело не в голосе, а в воздействии на людей. В этом тебе равных нет»[135].
Здесь необходимо несколько слов сказать о голосе Высоцкого. Дело в том, что, по его собственному признанию и по утверждению матери поэта, такой голос был у него всегда.
Нина Максимовна Высоцкая вспоминала: «Голос у Володи с детства был низкий. Когда он был еще совсем маленьким и отвечал на телефонные звонки, то люди спрашивали: „Сколько же лет вашему сыну? По голосу — совсем взрослый человек“. Иногда ей приходилось слышать что-то вроде: „Это какой Высоцкий? Это такой хриплый?“ А на уроках пения в школе, которые он очень любил, его нередко просили не петь, чтобы он не портил общего хора»[136].
Сам Высоцкий говорил так: «…У меня всегда был такой голос, я с ним ничего не делал, и особенно пива холодного старался не пить, и выдерживаю по пять выступлений перед такой же аудиторией по два часа — и ничего! Я, правда, подорвал его куревом, питьем, криком, но даже когда я был вот таким пацаном и читал свои стихи взрослым людям, они часто говорили: „Надо же, какой маленький, а как пьет!“ Голос всегда был такой низкий — это просто строение горла такое, я уж не знаю — от папы с мамой. Сейчас он чуть-чуть видоизменился в связи с годами и многочисленными выступлениями… на сиене и в театре. Раньше говорили „пропитой“, а теперь из уважения говорят „с трещиной“. Так что шутки и упреки по этому поводу я слышал давно»[137].
Отец поэта утверждал, что такой тембр сын унаследовал от него, и их голоса «при разговоре по телефону путали даже самые близкие родные и друзья»[138].
В период поступления в театральное училище у Высоцкого из-за голоса возникли проблемы: его признали профнепригодным, и ему пришлось взять справку у отоларинголога, что голос может быть поставлен.
По воспоминаниям однокурсницы Высоцкого по Школе-студии МХАТ Азы Лихитченко (впоследствии диктора телевидения), педагог по технике речи Сарычева считала, что у него плохой голос, и не занималась с ним, так как она «не занималась теми, в ком она не видела перспективы. В Володе она не видела перспективы голосовой»[139].
Распространено мнение, что Высоцкий сам себя «сделал» — создал свою индивидуальность, и уникальное явление под названием «голос Высоцкого» — только его заслуга. Оказывается, не в этом дело. Точнее, не только в этом. По мнению специалистов, своим необычным тембром Высоцкий обязан еще и природе: его голосовые связки имели необычное строение. Доктор А. В. Белецкий, лечивший Высоцкого от ларингита во время его концертов в Северодонецке, это подтверждает: «У Высоцкого ложные голосовые связки были гиперплазированы, они практически перекрывали истинные. Он, собственно, и пел за счет ложных голосовых связок, а истинные еле-еле просматривались, вот это самое главное. К тому же, ложные голосовые связки у Высоцкого имели фестончатое строение, поэтому и голос был таким необычным, ни на кого не похожим»[140]. О его воздействии на слушателей написано очень много, его голос сравнивали с органом, манеру исполнения метафорически уподобляли древнегреческому Орфею, играющему на струнах своего сердца, иллюстрируя сказанное знаменитым диалогом из стихотворения Марины Цветаевой «Разговор с гением»:
«Пытка!» — «Терпи!»
«Скошенный луг —
Глотка!» — «Хрипи:
Тоже ведь — звук!»
«Львов, а не жен
Дело». — «Детей:
Распотрошен —
Пел же — Орфей!»
«Так и в гробу?»
— «И под доской».
«Петь не могу!»
— «Это воспой!»[141]
По мнению композитора А. Шнитке, голос Высоцкого «казался безграничным», хотя на самом деле не был таким: «Казалось, что он может шагнуть еще выше, и еще, и еще. И каждая реализованная высотность — получалась! Она не погибала от невероятной трудности ее взятия, а демонстрировала возможность пойти еще выше.
И еще этот голос казался безграничным оттого, что он может шагнуть выше— не ради красивой ноты, но ради смысла…»[142]
Конечно, все это верно, и конечно, Высоцкий знал об этом, и не случайно в уже упоминавшейся анкете 1970 года потерю голоса он назвал событием, которое стало бы для него трагедией[143].
Но вернемся к музыкальным симпатиям и антипатиям Высоцкого.
Из рассказов Александра Подболотова о музыкальных вкусах и пристрастиях Владимира Высоцкого можно сделать вывод, что ему не очень нравилась опера. Как-то раз Высоцкий был в Камерном театре, где в то время работал Подболотов, на опере Стравинского «Похождения повесы». Из-за нехватки времени он посмотрел только первый акт. «Спектакль Володе не понравился, не понравилась и моя игра. У меня действительно все было еще сыро, да и не любил я этот первый акт. Там нечего показывать — сидим и поем. А во втором— совсем другое дело; все что угодно, только не опера… А Володя сказал очень мягко — можно было бы и резче: „Мне было скучно…“ <…>
Как-то я ему под гитару кое-как спел одну арию. Ему понравилось: „Почему же в опере все они неживые?!“
Я ему стал говорить, что это — специфика, что раньше вообще сидели на сиене и пели, ну, и так далее— про историю оперы…»[144]
Вероятно, Высоцкому не нравилось в опере то, что за вокалом и музыкой совершенно теряется текст, совсем другое дело — романсы. Он очень любил русские романсы: любил слушать, иногда исполнял их сам. Один из самых любимых — «Ямщик, не гони лошадей». Конечно, многие его веши, что называется, «вышли» из русских романсов, есть несколько удачных стилизаций — «Она была чиста, как снег зимой», «Оплавляются свечи на старинный паркет», «Романс при свечах» («Было так— я любил и страдал»), одна из ранних песен так и называется— «Городской романс» («Я однажды гулял по столице»). А стихотворение «Я дышал синевой…» целиком построено на сюжете «Степь да степь кругом…», да и один из мотивов «Коней привередливых» перекликается с романсом «Ямшик, не гони лошадей»…
Известно, что Высоцкий также очень любил цыганскую музыку. «Он часто ходил в цыганский театр „Ромэн“ в Москве. <…> Он работал на Таганке, а цыганский театр иногда показывал спектакли в помещении их театра. Володя всегда ходил на эти спектакли, он их обожал!»[145]
Для фильма «Опасные гастроли»[146] Высоцкий написал, как известно, несколько песен-стилизаций, в том числе одну «цыганскую», которая прозвучала с экрана в исполнении Николая и Рады Волшаниновых:
Камнем грусть висит на мне, в омут меня тянет, —
Отчего любое слово больно нынче ранит?
Просто где-то рядом встали табором цыгане
И тревожат душу вечерами. (II, 190)
Сам Высоцкий иногда имитировал «цыганскую» манеру исполнения: например, знаменитая «Цыганочка» Аполлона Григорьева в фильме «Короткие встречи» или, скажем, одна из записей «Моей цыганской» (Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия», 1987. Запись 1974 г.)[147]. Известно также исполнение Высоцким в «цыганском» стиле романса на стихи А. Кусикова «Обидно, досадно, до слез и до мучения». Цыганские мотивы встречаются на протяжении всего творчества
Высоцкого: от одной из ранних песен «Серебряные струны» (1962) до самой последней — «Грусть моя, тоска моя», написанной 14 июля 1980 года и имеющей подзаголовок «Вариации на цыганские темы». А герой «Погони» из цикла «Очи черные», оказавшись в смертельно опасной ситуации, «орет» цыганскую песню:
Я ору волкам:
«Побери вас прах!..» —
А коней пока
Подгоняет страх.
Шевелю кнутом —
Бью крученые.
И ору притом:
«Очи черные!» (I, 374)
Однако звучание «цыганских мотивов» у Высоцкого окрашено в яркие тона его личности: у него нет той характерной поэтизации кабацкого разгула, как в традиционном цыганском романсе, кабак у него — символ смерти и духовной погибели. Да и цыганская воля — только временный способ ухода от «кромешного мира», один из вариантов забытья, а не достижение подлинной свободы. Наверное, поэтому в его цыганских мотивах доминирует не бесшабашность и удаль, а тоска[148]:
Шел я, брел я, наступал то с пятки, то с носка, —
Чувствую — дышу и хорошею…
Вдруг тоска змеиная, зеленая тоска,
Изловчась, мне прыгнула на шею. (И, 483)
А однажды даже состоялась «гитарная дуэль» Владимира Высоцкого с «русским цыганским бароном» в Париже Алешей Дмитриевичем: «Глядя в упор друг на друга, вы беретесь за гитары — так ковбои в вестернах вынимают пистолеты — и, не сговариваясь, чудом настроенные на одну ноту, начинаете звуковую дуэль.
Утонув в большом мягком кресле, я наблюдаю за столкновением двух традиций. Голоса накладываются: один начинает куплет, второй подхватывает, меняя ритм. Один поет старинный романс, с детства знакомые слова, — это „цыганочка“. Другой продолжает, выкрикивает слова новые, никем не слышанные:
…Я — по полю вдоль реки!
Света — тьма, нет Бога!
А в чистом поле — васильки
И дальняя дорога…»[149]
Цыганское пение с его «безудержной эмоциональностью» и драматическим накалом страстей, несомненно, оказало в числе других огромное влияние на формирование авторского стиля Высоцкого, одной из отличительных черт которого является экспрессия. Оказывается, процесс воздействия цыганского стиля характерен для развития русского классического романса вообще, ибо драматизация «русской песни» и возникновение особого, патетического стиля «русских песен» происходило именно под «влиянием манеры цыганского пения»[150]. Надо сказать, что увлечение цыганскими хорами было одной из отличительных черт именно московского быта и характерно не только для «праздных кутил» — «это было весьма типично для московской среды»[151]. Подобное «бегство к цыганам» — это, возможно, стремление «к воле», жажда «слияния с дикой природой», поиск «неподдельного в человеке и в человеческих отношениях», что, в свою очередь, порождалось самим характером, экспрессией «цыганского пения и пляски, которая раскрепощала и одновременно властно захватывала, заражала слушателя»[152].
Особое отношение у Высоцкого было к так называемой «уличной» (блатной, лагерной и тюремной) песне. Нельзя сказать, чтобы он ее очень любил, но прекрасно знал, часто исполнял и использовал как исходный материал для своего творчества. Во всяком случае, кажущаяся простота и «примитивность» музыки Высоцкого объясняется не столько его стремлением к нарочитому упрощению мелодий, сколько близостью его самого к той среде, которая стала для него культурной почвой, его «небрезгливостью» к дворовым, блатным песням с их особой интонацией[153]. Как справедливо заметил театральный критик В. Гаевский, «сам музыкальный строй пения Высоцкого вобрал в себя атмосферу послевоенной окраинной Москвы, атмосферу коммунальных квартир, полубандитских дворов и полумещанских строений. <…> А та, послевоенная, жизнь и те, послевоенные, нравы, не описанные прозаиками и не вошедшие в городской фольклор, сохранились лишь в песнях Высоцкого и надолго — если не навсегда — наложили на них свою печать, свой жестокий привкус»[154].
Среди причин, побудивших молодого поэта обратиться к этой теме, можно назвать и сам феномен современной ему культуры, когда, перефразируя Е. Евтушенко, «интеллигенция пела блатные песни», и полемику с эстрадной песней, протест «против официоза, против серости и однообразия на эстраде»[155]. Но, пожалуй, одна из главных — поэтическая реабилитация целого социального слоя, преданного анафеме. Сам поэт так говорит об этом: «Мы, дети военных лет, выросли во дворах в основном. И, конечно, эта тема мимо нас пройти не могла: просто для меня в тот период это был, вероятно, наиболее понятный вид страдания — человек, лишенный свободы, своих близких и друзей»[156]. Анатолий Утевский, друг юности Высоцкого по Большому Каретному, учившийся тогда на юридическом факультете, вспоминал: «На четвертом курсе я был на практике в Московском уголовном розыске. И иногда брал Володю с собой — на обыски, на допросы, на „выемки“. И вот тогда впервые Володя увидел настоящий блатной мир, стал понимать психологию этих людей. И многие его первые песни, по-моему, как раз навеяны этими впечатлениями»[157].
Конечно, Высоцкий никогда не был в прямом смысле «душой дурного общества», то есть дворовой шпаной, но знал многих ребят из дворовых компаний: вместе с друзьями они бывали и на Малюшенке, и в Лиховом переулке, где «гнездилась» настоящая дворовая шпана. В школе, где учился Высоцкий, тоже была своя шпана. Как говорит
А. Утевский, «все это было рядом», однако об «этих полубосяцких и очень хулиганских компаниях» они знали скорее понаслышке, нежели в прямом общении, хотя «пройти мимо было сложно и опасно. Запросто могли побить, но нас они знали и не трогали»[158].
Алла Демидова, детство и юность которой пришлись на эти же годы, рассказывала, что в каждом дворе была своя компания и «своя иерархия авторитетов. Были „маменькины сынки и дочки“, и была остальная когорта, которая жила по законам улицы»[159]. Большинство представителей этого поколения прошли в юности через эти бесконечные ежедневные компании, которые подбирались по интересам. «Собирались просто, чтобы поговорить, потанцевать, попеть. <…> Пели так называемые блатные песни — потом оказывалось, что они написаны профессиональными литераторами. Например, „Шумит ночной Марсель“, как выяснилось, написал Николай Робертович Эрдман…»[160], а автором знаменитой «Девушки из Нагасаки» была поэтесса Вера Инбер. Но, конечно, были среди них и настоящие «блатные» песни: «Таганка», «Течет речечка да по песочечку», которые и составляли поначалу значительную часть репертуара молодого Высоцкого. Людмила Абрамова вспоминает, что в 1961 году, когда они познакомились, своих песен у него было совсем немного: «Татуировка», «Красное-зеленое», — и он, чтобы произвести впечатление, пел так называемые «народные блатные» песни, в том числе ту, которую Михаил Жаров исполнял в фильме «Путевка в жизнь» — «Эх, вышла я да ножкой топнула…»[161].
Однако ранние песни Высоцкого существенно отличаются от собственно «блатных», хотя его персонажами нередко оказываются люди, отвергнутые, осужденные обществом, лишенные простого права даже называться людьми, вместо этого — ЗК:
А в лагерях — не жизнь, а темень тьмущая:
Кругом майданщики, кругом домушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.
Ну а начальству наплевать — за что и как,
Мы для начальства — те же самые зэка —
Зэка Васильев и Петров зэка. (I, 45)
А у Высоцкого они встречают понимание и даже сочувствие. Почему? Да потому, что поэт выходит на эту тему с неожиданной, на первый взгляд, стороны, выделяя в ней общечеловеческий момент.
И еще одна важная деталь: тюремная тематика разрабатывается Высоцким не в традициях блатного фольклора с его конкретно-детальным воспроизведением ситуации, а в символическом ключе, «способствуя философской, этической разработке проблем личностной и творческой свободы-несвободы»[162]. Кроме того, эмоциональный фон раннего творчества поэта далеко не однозначен: наряду с драматизмом в нем много лиризма, иронии, гротеска. Этот интонационно-эмоциональный пласт ранних произведений Высоцкого перекликается не столько с блатной песней, сколько с есенинской «Москвой кабацкой», с той лишь разницей, что у Есенина это всегда «чистая» лирика:
Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.
У Высоцкого же лирика ролевая:
Шел за ней — и запомнил парадное.
Что сказать ей? — ведь я ж хулиган…
Выпил я — и позвал ненаглядную
В привокзальный один ресторан. (I, 84)

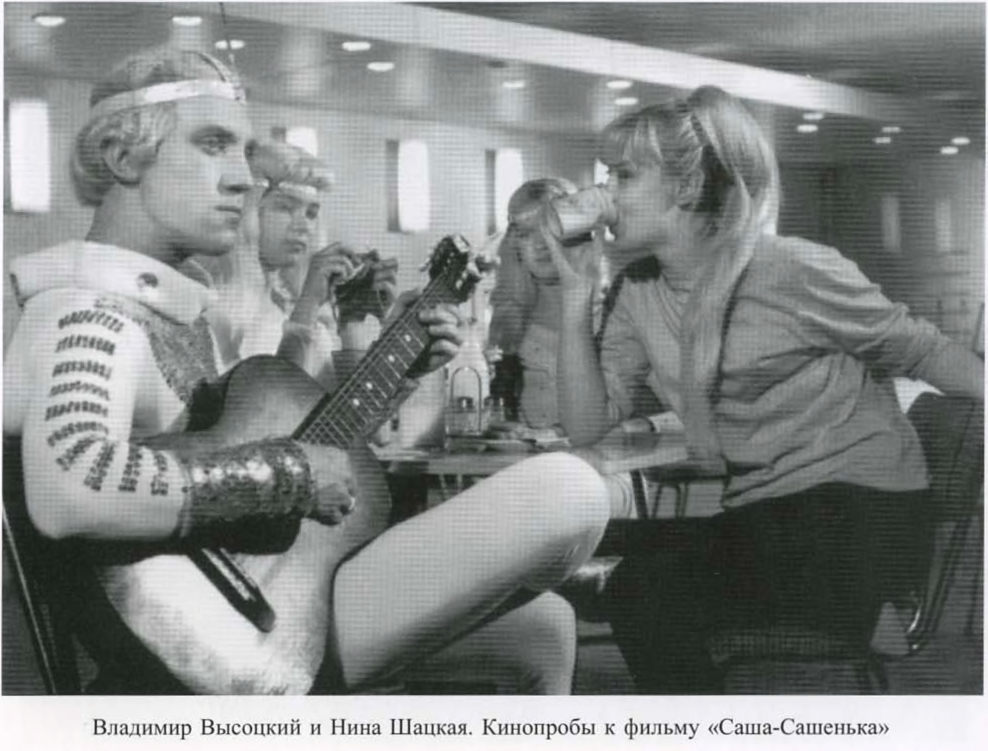




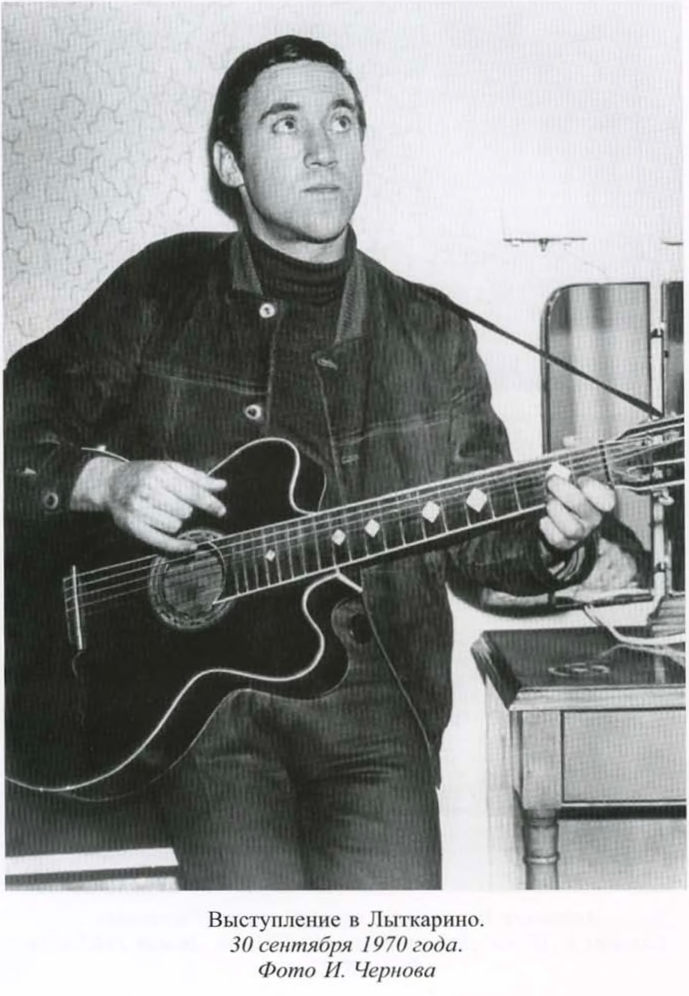
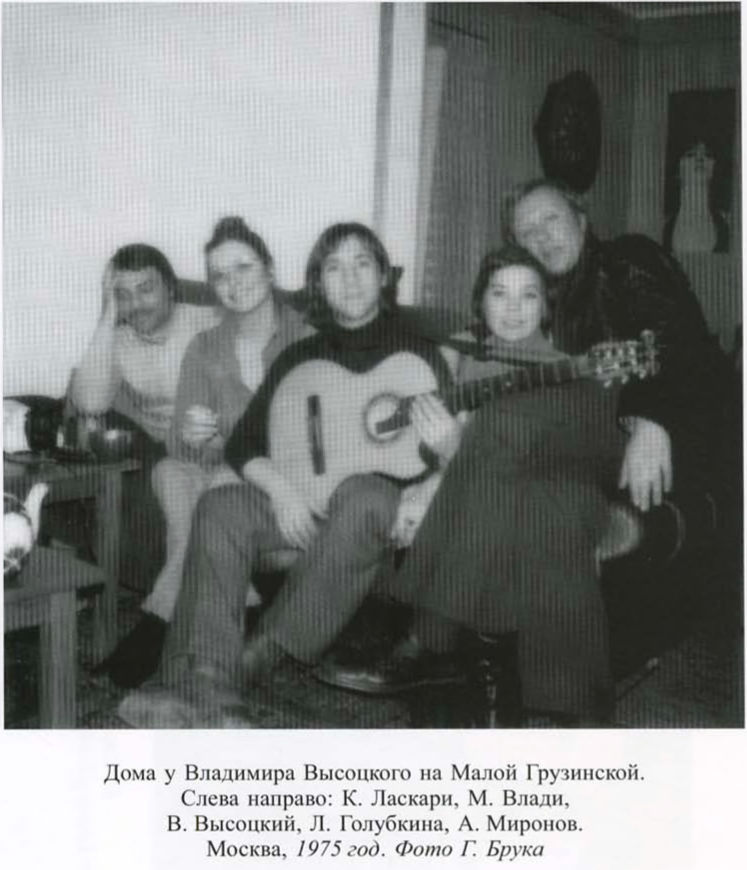

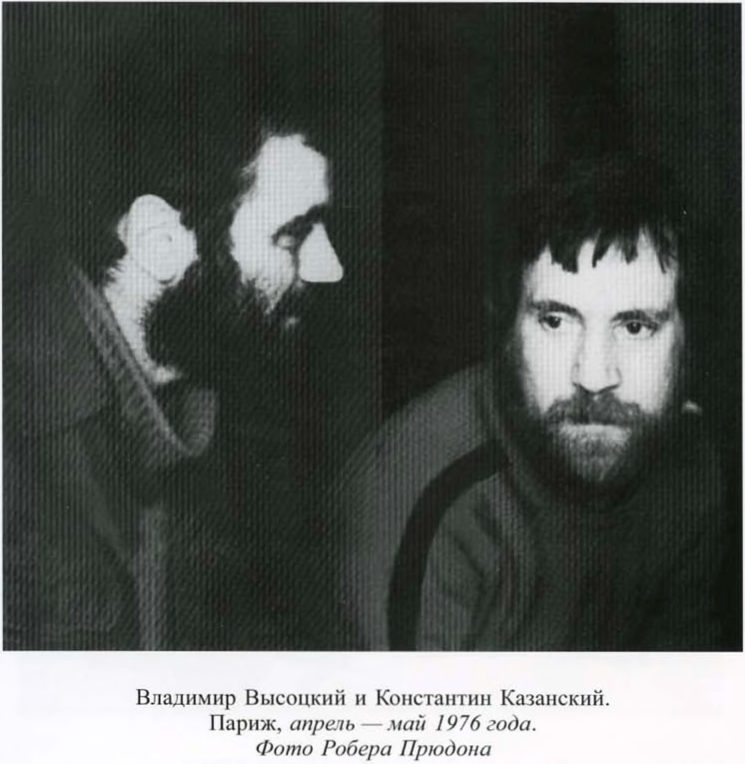
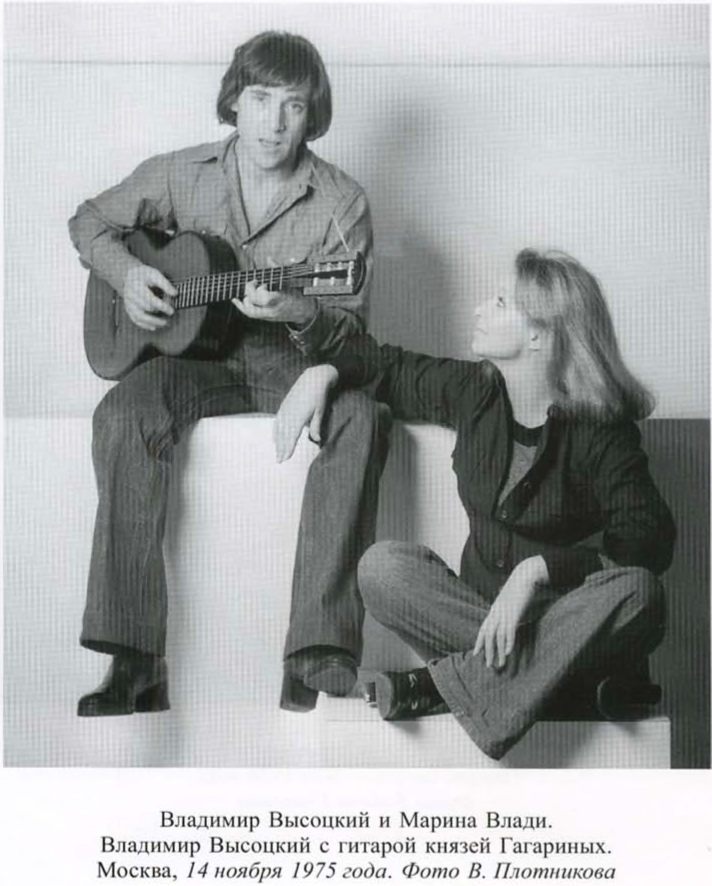

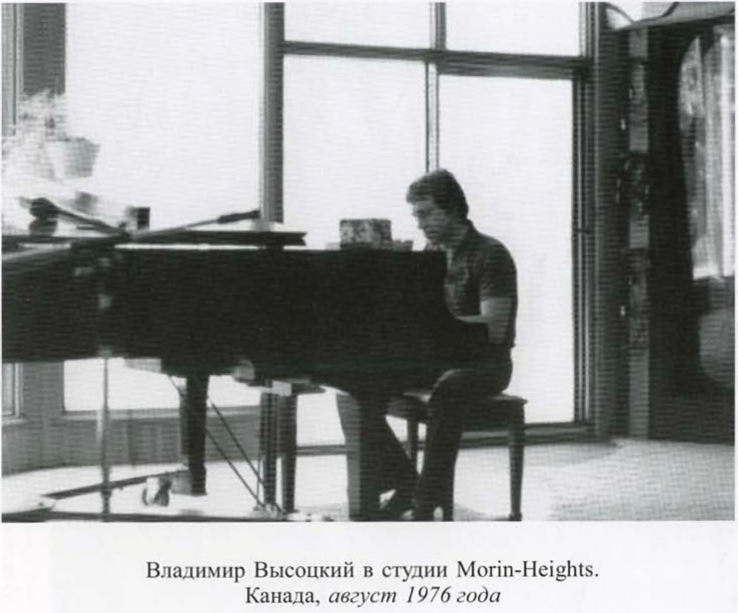
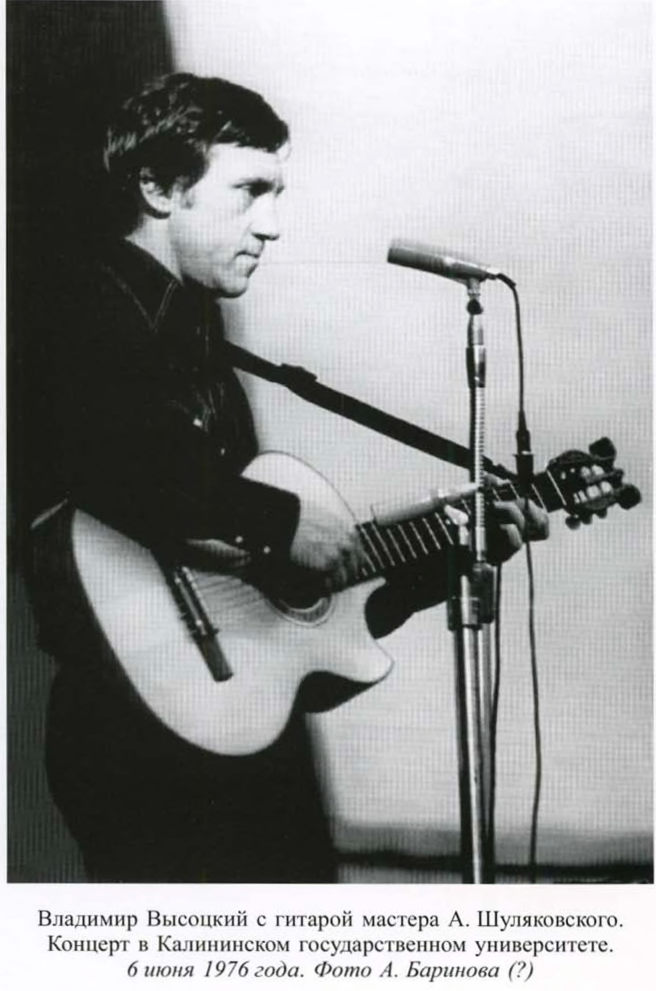


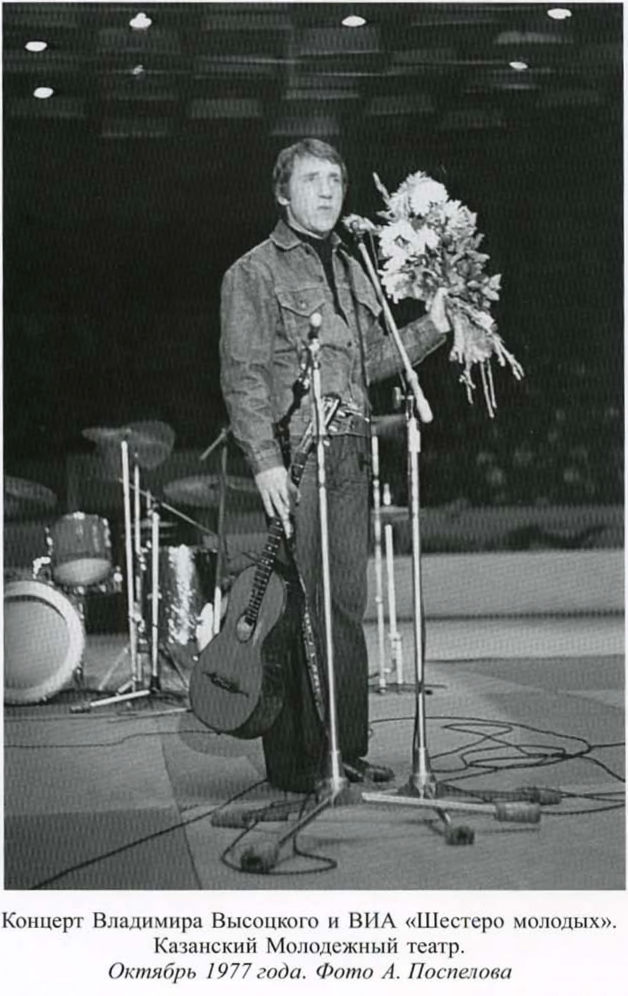





Ирония является важнейшим средством выражения авторского отношения к персонажу в произведениях этого периода: от ее присутствия в той или иной степени зависит расстояние, отделяющее автора от его персонажа: чем ближе автору характер и состояние героя, тем меньше иронии в интонации произведения («Серебряные струны», «За меня невеста отрыдает честно», «Ребята, напишите мне письмо» и др.), и наоборот («Наводчица», «Городской романс» и др.). Это, на первый взгляд, легко уловимое различие не всегда обращало на себя внимание, что приводило к традиционному для ролевой лирики отождествлению автора и его персонажа. Отсюда всевозможные слухи и вопросы типа: «сидел — не сидел?»
Возьмем, к примеру, самую первую песню — «Татуировка». Здесь «при всей простоте характеров и ситуации присутствует — пусть под знаком иронии — определенный драматизм, столкновение страстей»[163], хотя этот конфликт пока еще и не такой острый, как в последующих произведениях поэта. Здесь пока еще все очень тонко, лирично и легко разрешимо:
Но недавно мой товарищ, друг хороший,
Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя с груди у Леши
И на грудь мою твой профиль наколол. (I, 17)
И хотя буквально все здесь пронизано иронией — и «любовный треугольник», и найденный выход из положения, — заметно, что автор относится к своим героям по-доброму, почти по-дружески, с пониманием и сочувствием. Уже здесь, в этой первой песне Высоцкого, есть все, что в дальнейшем станет характерным для его творчества в целом: соединение эпоса, лирики и драмы, использование сказовой манеры, игра со словом, новеллистический финал. Наконец, самое главное — уважительно-сочувственное отношение к человеку.
При том что ранние произведения Высоцкого носили вполне литературный характер, его изначальные установки (протест «против официоза, против серости и однообразия на эстраде»), используемые им художественные средства, заимствованные во многом из поэтики блатного фольклора, форма бытования, близкая к фольклорной, теперь уже использующая достижения современной техники, большое количество эпигонов, их произведения нелитературного характера, нередко приписываемые Высоцкому, — все это придавало творчеству поэта ярко выраженный неофициальный характер и в значительной степени способствовало его восприятию как городского фольклора.
В этом отношении показателен следующий случай. Леонид Елисеев, альпинист, участвовавший в съемках кинофильма «Вертикаль» в качестве консультанта, еще до знакомства с Высоцким слышал его ранние песни, но считал их народными. Когда же они встретились на съемочной площадке и радист «врубил» их по радиотрансляции, между Елисеевым и Высоцким произошел следующий диалог:
«— Ну надо же! И здесь мои песни, — сказал он. (Высоцкий. — О. Ш.)
— Как так? — не понял я.
— Это мои песни. Я их написал.
— Во-первых, это не твои песни, а народные. А во-вторых, кто поет?
— Я пою, — говорит он.
— Да нет! Это Рыбников поет.
— Ничего подобного! Это не Рыбников, это я пою. И песни это мои.
— А ты что, сидел, что ли? — спрашиваю.
— Нет.
— Знаешь, Володя, я с блатными в детстве и юности много дела имел. Эти песни мог написать только тот, кто очень хорошо знает лагерную и тюремную жизнь.
— Ну, а я не сидел.
В тот раз я ему все же как-то не до конца поверил. И только позже, когда сам увидел, как он писал альпинистские песни, всякие сомнения у меня отпали»[164].
Высоцкий не считал свои первые песни блатными, а определял их либо как стилизации, пародии на блатной фольклор, либо как «дворовые городские песни» — своеобразную «дань городскому романсу, который к тому времени был забыт»[165]. Они были ему по-своему дороги, так как «принесли… большую пользу в смысле поиска формы, поиска простого языка в песенном изложении, в поисках удачного слова, строчки»[166]. Высоцкий никогда от них не отказывался: «Однако ни от одной своей песни не отказываюсь. Только от тех, что мне приписывают. Среди них есть и хорошие, но чаше всего попадается откровенная халтура, которую делают „под Высоцкого“ и исполняют хриплыми голосами»[167]. Кроме того, он неоднократно признавался, что при их написании не рассчитывал на большие аудитории, они писались для узкого круга друзей, для компании «на Большом Каретном»: «И не моя вина, что они так широко разошлись»[168].
Как и большинство людей его поколения, Высоцкий любил джаз, имел коллекцию джазовых пластинок, с удовольствием слушал не только «Порги и Бесс» Аж. Гершвина и классиков жанра — Эллу Фицджеральд и Луи Армстронга, но и «Модерн джаз квартет», «знаковый ансамбль тех времен»[169].
К рок-н-роллу Высоцкий относился, по-видимому, спокойно, без особых эмоций, потому что неоднократно повторял: «Мне говорят, что с моим голосом я обязательно должен был бы петь рок-н-ролл. Но это вы слышали тысячу раз, таких ансамблей миллионы, поэтому рок-н-ролл я петь не буду, а буду заниматься своим делом, которое люблю»[170]. Однако, судя по воспоминаниям вдовы поэта М. Влади, на одном из рок-концертов, где они присутствовали в качестве слушателей, Высоцкий принялся подпевать Эмерсону, Лейку и Пальме-ру, в энный раз исполнявшим на бис свои песни. «Наши обалдевшие соседи привстают посмотреть, откуда исходит этот громыхающий голос, подхватывающий темы рока, и, заразившись твоим энтузиазмом, все начинают орать»[171].
Но, судя по всему, особого интереса к рок-н-роллу Высоцкий все же не испытывал. Это связано с тем, что, во-первых, рок-н-ролл — это уже другая эпоха, волна, на которой выросло иное поколение, а во-вторых, возможно, Высоцкий воспринимал его как разновидность эстрады, считая его эдаким облегченным жанром западной музыки: «Они не понимают: как можно с таким напором и с такой отдачей петь некоторые веши, почему это нас так волнует? У них этих проблем нет, и они их никогда не исследуют — в песнях у них не принято об этом разговаривать. Маккартни, правда, пытался — кстати, он тоже пел балладу о брошенном корабле, я не знаю, может быть, они у нас немножко и совпадают, но у них этот жанр считается несколько облегченным…»[172] Возможно, это связано еще и с тем, что одним из важнейших атрибутов этого жанра является зрелищность, в то время как Высоцкий главным всегда считал текст, то есть ту информацию, которую он несет.
И, наверное, не случайно рок-музыканты — А. Башлачев, К. Кинчев, Ю. Шевчук и др. — считают Высоцкого своим учителем — «первым российским рокером» и «отцом русского рока», ибо русский рок отличается от западного прежде всего тем, что ведущую роль в нем играет текст. Юрий Шевчук признавался: «Я считаю Владимира Семеновича одним из своих учителей, но не всегда я отличник…»[173]
Именно Шевчуку принадлежит инициатива создания альбома «Странные скачки» (1996, DDT Records), где песни Высоцкого звучат в исполнении рок-музыкантов[174]. А автор одной из работ, посвященных русскому року, считает, что «Владимир Высоцкий был и пионером панк-мышления, и рок-революцию в аранжировке и инструментале начал задолго до длинноволосых или „внольстриженных“ экспериментаторов»[175]. И хотя преемственность русского рока творчеству В. Высоцкого на первый взгляд может показаться не весьма очевидной, но эта точка зрения достаточно популярна как среди исполнителей, так и в среде специалистов[176]. Многие рок-музыканты признавались, что начинали чуть ли не с подражания Высоцкому или со стилизаций под него: «В 1983 году у меня впервые получилась приемлемая стилизация под Высоцкого, на которого я тогда молился. Потом несколько лет под него работал…»[177]
По мнению И. Смирнова, автора одной из первых работ на эту тему, «для рокеров „времени колокольчиков“ Высоцкий занимает место в пантеоне рядом с Джоном Ленноном»[178]. Причем ориентацию русского рока на Высоцкого И. Смирнов считает не примитивным подражанием, а, скорее, движением «в культурном потоке, направление которого в наибольшей степени (по сравнению с другими бардами, а также писателями, политическими и религиозными деятелями etc.) определял именно автор „Серебряных струн“ и „Коней привередливых“»[179].
Относительно преемственности русского рока авторской песне вообще и творчеству Высоцкого, в частности, существуют разные мнения: одни считают, что рок-культура буквально выросла из авторской песни, другие же воспринимают эти два явления как параллельные потоки в едином культурном пространстве.
Один из современных представителей авторской песни, Олег Митяев, на вопрос о том, существует ли противостояние рок-культуры и авторской песни, или где-то какими-то гранями они смыкаются, ответил:
«Знаете, я сейчас подумал о том, где смыкаются рок-культура и авторская песня. Они смыкаются в Высоцком. Он свой и для авторской песни, и для рокеров, несмотря на то, что он играл на обычной гитаре. Сам Высоцкий не считал себя ни рокером, ни бардом. Вот, быть может, на этой нейтральной полосе встречаются рок и авторская песня. Высоцкий — поэт прежде всего. Его экспрессивная поэзия и манера исполнения присущи року. А содержание песен глубокое, которое больше характерно для авторской песни. В лучших проявлениях рок-песен проявляется Высоцкий, и в лучших произведениях авторской песни Высоцкий просто звучит»[180].
Итак, авторская песня. По определению Высоцкого, «это не вокал под оркестр» — это «отдельный вид искусства»[181], который он любил, пожалуй, больше всего, и призывал: «Любите людей, которые занимаются авторской песней. Обласкайте их вниманием»[182]. Сам Высоцкий, однако, себя ни бардом, ни менестрелем не считал: «Я к ним не имею никакого отношения. Я сам по себе. Я пишу стихи и пытаюсь исполнить их под музыку для того, чтобы они еще лучше работали»[183]. Он не принимал массовости этого движения, ибо за массовостью теряется индивидуальность, которую он ценил превыше всего. Да и качество поэзии от этого, конечно же, тоже не улучшается: «Я вам должен сказать, что я никогда не принимал участия в движении так называемых бардов и менестрелей и не понимаю, что это вообще за „движение“, да и какие это барды и менестрели? Это просто люди, которые плохо ли, хорошо ли пишут стихи и плохо ли, хорошо ли исполняют их, в основном под гитару, потому что это очень доступный инструмент. Сейчас такое количество этих бардов и менестрелей, что я к ним не хочу никакого отношения иметь. У меня есть несколько любимых мною людей, которые занимаются авторской песней, но некоторые люди с гитарами принесли очень много вреда авторской песне. Их очень много, в каждом учреждении существуют люди, которые играют на гитарах и сочиняют песни. Я прекрасно понимаю тягу людей к тому, чтобы самим писать стихи и петь это под гитару, но, к сожалению, очень многие люди хотят выходить с этим на широкую аудиторию, чем и вредят…»[184]
Отвечая на вопрос об отношении к творчеству так называемых самодеятельных авторов, Высоцкий прежде всего разделял самодеятельную и авторскую песню и признавался, что относится с симпатией лишь к очень немногим: Юрию Визбору, Юлию Киму, Михаилу Анча-рову. Однако всегда подчеркивал, что непререкаемым авторитетом в этом направлении для него всегда был и остается Булат Окуджава.
И хотя Высоцкий воспринимался современниками и воспринимается сегодня как явление того же ряда, но в то же время его художественный мир оказывается неизмеримо глубже и шире того движения, которое возникло в конце 50-х годов XX века на волне «хрущевской оттепели» и получило название «авторская песня». И все-таки многие черты — способ исполнения, форма бытования и др. — роднят творчество Высоцкого с этим явлением русской культуры.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Нельзя ориентироваться на детские вкусы
Нельзя ориентироваться на детские вкусы Тут я вспомнил, что надо позвонить в журнал «Пионер», где лежало мое длинное стихотворение о мальчике, мечтавшем попасть на Марс. «…Он на станцию приходит, он к одной из касс подходит: «Я хотел спросить у вас, как попасть…» – «Куда?»
Без гнева и пристрастия
Без гнева и пристрастия Петр Владимирович Долгоруков одновременно – или почти одновременно – прожил три разных жизни Крупнейшего знатока генеалогии, составителя «Российской родословной книги» уважают, к его трудам постоянно обращаются. Зарубежные печатные
Интересы, увлечения, пристрастия
Интересы, увлечения, пристрастия Маргарита Иосифовна Алигер:Всю жизнь она много читала на разных языках и никогда, по-моему, просто беллетристику и развлекательную литературу. Читала она тоже по-своему: всегда одновременно несколько книг и никогда не подряд, страницу за
Увлечения, интересы, пристрастия
Увлечения, интересы, пристрастия Александр Егорович Ризенкампф:Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не
ПРИСТРАСТИЯ
ПРИСТРАСТИЯ Берия: особое мнение из Вёшек. Борьба за Мелехова. «Поднятая целина» и Хрущев в лодке. Шифровка в Париж. Пастернак и Солженицын. Швеция: кланялись ли казаки? Книга под литерой «Д*» и заступник из Осло. Литературное завещание
Глава восьмая «Музыкальные стиляги»
Глава восьмая «Музыкальные стиляги» «Оттепель» пятьдесят четвертого ничем еще не предвещала бурного весеннего паводка пятьдесят шестого. Этот год и по сей день, с легкой руки Григория Чухрая («Чистое небо»), в фильмах сравнивают с ледоходом, с плывущими по рекам толстыми
Художественные вкусы
Художественные вкусы Михаил Викторович Кирмалов:Иван Александрович, по-видимому, не любил музыки. Такое впечатление осталось у отца после того, как они с Иваном Александровичем слушали «Русалку» Даргомыжского. Отец уговорил Ивана Александровича сходить послушать в
Склонности и пристрастия
Склонности и пристрастия Эрих Федорович Голлербах:Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Персидские миниатюры и картины Фра Беато Анжелико нравились ему не меньше, чем охота на тигров. Если
Эстетические предпочтения и вкусы
Эстетические предпочтения и вкусы Илья Ефимович Репин (1844–1930), живописец:Тургенев же – особенно вследствие своего аристократизма – был эстет.Ги де Мопассан:Он любил музыку и живопись, жил в атмосфере искусства, откликался на все утонченные впечатления, на все
Увлечения, пристрастия, привычки
Увлечения, пристрастия, привычки Михаил Васильевич Бабенчиков:В ранние годы Ал. Ал. пережил ряд сильных увлечений: сперва театром, затем французской борьбой, авиацией… Порой это захватывало его целиком, и было странно видеть, как этот уравновешенный человек, с такой,
Привычки, пристрастия, страхи
Привычки, пристрастия, страхи Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:Курил он беспрерывно (окурками были наполнены и пепельница, и блюдечко) [32, 302].Ирина Владимировна Одоевцева:Обыкновенно он гулял один.— Терпеть не могу, не переношу, — объяснял он свое пристрастие к
Глава 37 Вкусы Двора
Глава 37 Вкусы Двора Вкусы Двора. "Ревизор" в "высочайшем присутствии". "Высочайшее" одобрение. Трения с дирекцией и конторой.По мере того как время шло, дирекция все более и более отступала от предположенного плана. Голоса, раздававшиеся вокруг, заглушали все благие