II ПОЭТЫ И ЛЮБОМУДРЫ
II
ПОЭТЫ И ЛЮБОМУДРЫ
В середине сентября Пушкин получил письмо от Анны Вульф. Девушка была глубоко встревожена его отъездом, столь похожим на арест. «Боже правый, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас, рискуя жизнью, с каким удовольствием я бы ею пожертвовала и одной только милости просила бы у неба — увидать вас на мгновенье перед тем как умереть».
Получив это письмо, поэт, вероятно, «живо тронут был», как и его любимый герой в аналогичном случае; но письмо девушки, даже искренне любившей его, уже прозвучало голосом из другого мира. Москва успела увлечь новыми встречами и знакомствами, оглушить грохотом официальных празднеств, утомить пестрой сменой развлечений. Балы московскою барства, где его непрерывно вовлекали в котильоны и кадрили, литературные салоны, где развлекали стихами и пением, гулянья под Новинским, где толпа с восхищением следила за своим любимым поэтом, образцовые столичные театры, где он снова смотрит «колкого Шаховского» и «Итальянку в Алжире»; ресторан Яра, где цыганский хор воскрешает перед ним бессарабские таборы и буйных певиц Варфоломея, наконец, новые светские красавицы Римская-Корсакова, Зинаида Волконская и особенно «Саксонская статуэтка» — Софья Пушкина, которой поэт после двух встреч в обществе предлагает стать его женой, все это после михайловского затишья взвинчивало нервы, возбуждало психику, привлекало соблазнами юродскою блеска и навсегда отводило в прошлое Тригорское и его скромных обитательниц.
Но особенно тепло встретила Пушкина литературная Москва. Он всегда высоко ценил писательский круг старой столицы «Московская словесность выше петербургской, — писал он впоследствии — ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы».
В родном городе сохранялись старые литературные знакомства и связи — Вяземский, Чаадаев, Дмитриев, дядя Василий Львович; но уже выступало и молодое литературное поколение, нарождалось самобытное движение русской мысли Пушкин впервые познакомился с ним в кружке Веневитинова.
«Юный даровитый поэт вроде Андре Шенье» — так характеризовал Веневитинова один из участников литературной Москвы двадцатых годов Он служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел и объединил в кружок своих молодых сослуживцев, получивших прозвание «архивных юношей». Лирик-философ, искавший новых путей для русской поэзии, прекрасный оратор, приводивший слушателей в восторг своими «жаркими диссертациями», к тому же музыкант и живописец, Веневитинов увлекал своей разносторонней одаренностью и, казалось, был призван руководить новым умственным движением. До 14 декабря он готовился к открытой борьбе с правительством и даже учился с юношеским увлечением фехтованию и верховой езде, чтоб успешнее действовать в обстановке уличного восстания. Но в момент встречи с Пушкиным, когда освободительное движение русского общества было грубо подавлено, он принял новую тактику — «план Сикста V»: «Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь больший круг действий». Во всем этом еще сказывалось брожение молодой одаренной натуры, которая в литературе уже проявляла свою зрелость. Веневитинов успел заявить о себе в печати рядом первоклассных лирических и критических выступлений. Он напечатал незадолго перед тем в «Сыне отечества» этюд о первой главе «Евгения Онегина», отстаивая свою любимую идею о переходе литературной критики на философскую основу. Он заявлял себя горячим ценителем Пушкина:
Волнуясь песнию твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала…
Так писал Веневитинов автору знаменитых строф об Овидии, Байроне и Шенье, призывая его воспеть и современного поэта-мыслителя Гёте.
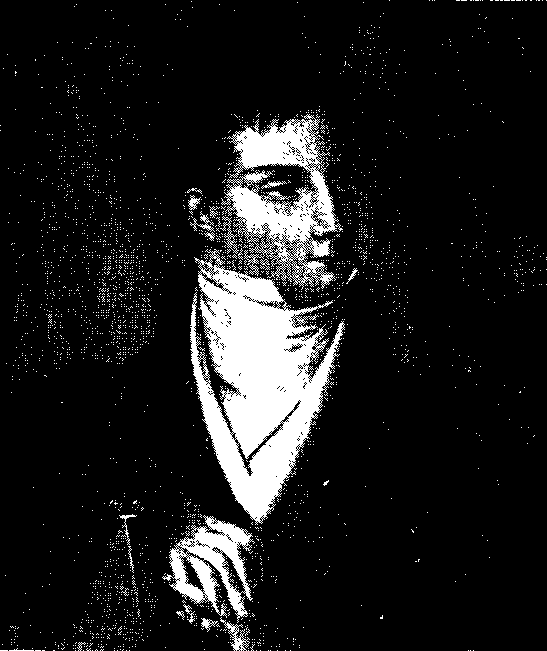
Д. В. Веневитинов (1805–1827).
С портрета Ансельма Лагрене (1826)
Философские искания определяли направление литературного объединения, руководимого Одоевским и Веневитиновым, — московского «Общества любомудрия». Но после 14 декабря председатель Одоевский торжественно сжег в камине устав и протоколы дружеского союза, и члены его общались теперь лишь на помпе литературных чтений и споров. В основу своей поэзии и критики они полагали некоторое умозрительное начало, обращаясь для выработки его к античным мудрецам и современным западным мыслителям, особенно Шеллингу. Пушкину, воспитанному на классиках и скептиках Франции, идеализм московских любомудров был глубоко чужд. «Немецкую метафизику… я ненавижу и презираю», писал он Дельвигу 2 марта 1827 года. Впрочем, некоторые критические течения новейшей мысли, принятые и московскими «архивными юношами», значительно ослабляли «метафизику» членов кружка, а подчас совпадали и с основами воззрений Пушкина. «Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров, писал Кошелев. — Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний». Все это могло привлечь сочувственное внимание Пушкина и вызвать его живейший интерес.
Любомудры давно уже мечтали о журнале.
Веневитинов разработал основные принципы программы будущего издания, выдвигая главной его задачей «просвещение», или «самопознание народа». Необходимо создавать в России творения, которые бы носили на себе «печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке…» Так, искусство древней Греции неразрывно связано с мыслью Аристотеля. Новое просвещение в России должно опираться «на твердые начала философии», а лучшим выражением его во всем многообразии художественных и научных явлений мог бы явиться журнал.
Планы такого издания отвечали и замыслам Пушкина. При первой же встрече с Веневитиновым он заговорил о необходимости перейти от альманахов к большому периодическому изданию. Осенью 1826 года создалось ядро нового журнала — редакция «Московскою вестника» Его участники стремились достигнуть высшей зрелости в художественном творчестве и дать углубленное философское обоснование критической и научной прозе. Так намечалась борьба за высокую поэтическую и философскую культуру, за полноценное искусство слова.
Соболевский ввел Пушкина в салон Зинаиды Волконской. Это было «римское палаццо у Тверских ворот» или академия искусств среди фамусовской Москвы.
В особняке имелся большой театральный зал с латинским девизом на фронтоне сцены: «Смеясь высказывать истину». Портреты Мольера и Чимарозы с двух сторон украшали просцениум.
В одной из ниш зрительного зала высилась огромная статуя Аполлона. Пушкин дал вскоре лучшее в мировой поэзии описание этого дельфийского кумира:
Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Скульптурность и ослепительность этой строфы тем поразительнее, что она составляет часть эпиграммы на одного из посетителей салона Волконской — А. Н. Муравьева, отбившего по неосторожности руку у мраморного бога и пытавшегося оправдаться стихами, написанными на цоколе статуи.
Здесь, среди изображений богов и драматургов, Пушкина познакомили с женщиной уже не первой молодости (в момент знакомства с поэтом Зинаиде Волконской было тридцать четыре года), но с пленительной и утонченной внешностью. Ее «задумчивое чело» Пушкин вскоре запечатлеет в своем посвящении «царице муз и красоты». Волконская приветствовала поэта исполнением романса на его слова. Замечательная музыкантша, композитор и певица, обладавшая первоклассным контральто, воспитавшая свои вокальные и сценические дарования у таких мастеров, как Россини и знаменитая Марс, Зинаида Волконская зачаровала слушателей и самого поэта пением его «морской» элегии, написанной некогда на палубе брига между Кафой и Гурзуфом. Московскому композитору Гениште удалось передать шум бриза, волн и парусов, а глубокий грудной голос певицы придавал подлинный драматизм взволнованному строфическому рефрену:
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, глубокий океан…
Один из слушателей этого концерта — Вяземский, — следивший за впечатлением Пушкина, уловил на его лице «детский и женский признак сильной впечатлительности» — смену красок от радости и смущения…
Поэт высоко оценил и это «обольщенье тонкого и художественного кокетства» (по словам Вяземского) и замечательную личность Волконской. Это была, несомненно, самая значительная из всех жизненных «спутниц» Пушкина, самая культурная русская женщина его эпохи и, вероятно, одна из наиболее одаренных. Излюбленным обществом ее были писатели, ученые и артисты. В Италии она объединила кружок иностранных и русских художников, куда входили Торвальдсен и Канова, Брюллов и Сильвестр Щедрин. В Москве у нее бывали крупнейшие ученые и писатели и первые певцы-итальянцы. Под влиянием Карамзина она заинтересовалась русскими древностями, народными песнями, обрядами, легендами и приступила к исследованию языческого быта древних славян. В связи с историей России она изучала скандинавскую археологию. По примеру европейских учреждений, она разработала план русского «эстетического музея» при Московском университете и общества для издания хартий и монографий по истории и древностям. Волконская дала в России первые опыты искусствоведения и сравнительной критики художников Изощрив в Италии свой вкус, она научилась сближать явления различных творческих планов, сопоставляя, например, разработку одной темы — страшного суда — в итальянской живописи, поэзии и ваянии — у Джотто, Данте и Микельанджело. В беседах с ней Пушкин мог обильно питать свои исконные интересы к европейской художественной культуре, к западному театру, к живописи Ренессанса.
В салоне Волконской Пушкин встречался с одним из друзей Чаадаева — ученым Гульяновым, скромным и выдающимся русским филологом, который выступал с критикой учения знаменитого египтолога Шамполиона о иероглифах и трудился над большими исследованиями о происхождении языков и общей грамматики. Это был один из незаметных в биографии Пушкина искренних и горячих его друзей: с обычной своей скромностью он доставил впоследствии поэту минуту глубокой внутренней радости.
Ощущая потребность ознакомить литературных друзей со своими произведениями последних лет, Пушкин охотно выступает перед избранной аудиторией поэтов, историков и философов. Он широко и щедро расточает себя перед лучшими представителями научной и творческой мысли России.
29 сентября Пушкин читает «Бориса Годунова» у Вяземского, где его слушают Блудов и Дмитриев, помнившие автора еще мальчиком в матросской курточке. «Представьте себе Дмитриева при чтении этой трагедии, действительного тайного советника и генерал-прокурора классицизма, — писал Вяземский. — Впрочем, надобно ему отдать справедливость: он явил большую терпимость и уступчивость». Сам Вяземский признавал «Бориса Годунова» зрелым и возвышенным произведением, в котором Пушкин явил в полной мере историческую верность нравов и языками «вознесся до высоты, которой он еще не достигал». Но тут же Вяземский ставил вопрос: «трагедия ли это или более историческая картина?»
Главное чтение «Бориса Годунова» происходило 12 октября в доме Веневитиновых. С утра собралась обширная аудитория, как на концерт или лекцию. Веневитинов пригласил своих сослуживцев по архиву иностранных дел и сотрудников по московским изданиям. Здесь были поэты и ученые — Боратынский, Мицкевич, Хомяковы, Киреевские, Погодин, Шевырев и другие представители московского «любомудрия» и «любословия».
Пушкин появился в большом белом зале Веневитиновых ровно в полдень. Он был в черном сюртуке, высоком жилете, застегнутом наглухо, свободно повязанном галстуке. Поэт развернул объемистую тетрадь. «Наряжены мы вместе город ведать», начал читать он своим сдержанным, необыкновенно благозвучным, чуть поющим голосом.
Первые сцены, отрывочные и короткие, еще не захватили аудиторию. Кремль, Красная площадь и Девичье поле, по позднейшему воспоминанию Погодина, даже вызвали недоумение слушателей. Новаторство Пушкина в драме смущало учеников Сумарокова и Озерова. Но ночная беседа в Чудовом монастыре сразу же поразила и увлекла всех. С необычайной жизненностью и драматизмом выступали исторические портреты старинных властителей, иногда очерченных в нескольких стихах, развертывалась древняя хроника преступлений и битв. Аудитория ожила, стала вибрировать в ответ чтецу, прорываться восклицаниями и восхищенными возгласами. «Сцена у фонтана», развернутая в психологическом плане, полная внутреннего напряжения, вызвала дружный взрыв восторгов. Перед такой взволнованной и возбужденной аудиторией Пушкин дочитал свою рукопись с ее заключительной краткой и леденящей ремаркой: Народ в ужасе молчит. — Кричите да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует».
Долгое безмолвие было ответом и Пушкину. Лишь понемногу вышли из своего оцепенения завороженные слушатели и бросились к чтецу с восклицаниями и приветствиями. Пушкин, по свидетельству Погодина, продолжал в увлечении читать слушателям и другие свои произведения. Здесь в рассказе мемуариста, вероятно, вкрадывается неточность: едва ли он слышал в тот день «У лукоморья», так как этот пролог был, видимо, написан лишь два года спустя. Но естественно предположить, что после чтения раздались в зале Веневитиновых отзывы и мнения о прочитанной трагедии (вскоре они появились в печати)
Особенно сильное впечатление произвела сцена в келье. По мнению Шевырева, «это создание есть неотъемлемая собственность поэта, и что еще отраднее — поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе благородные черты народности». «Мне показалось, — вспоминал впоследствии Погодин, — что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописателя…» Веневитинов в своем отзыве правильно наметил разрешение вопроса о роли Карамзина в истории замысла Пушкина: «Эти два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но в различных рамках и каждый со своей точки зрения. Если историк смелостью колорита возвысился до эпопеи, то поэт, в свою очередь, внес в свое творение величавую строгость истории». Пройдет десять лет, и Мицкевич, вспоминая «Бориса Годунова», напишет о Пушкине: «Ты стал бы Шекспиром, если бы судьба тебе благоприятствовала».
Но судьба не благоприятствовала. Перед отъездом двора и гвардии в Петербург по окончании коронационных празднеств Пушкин получил письмо от начальника нового учреждения высшей политической полиции — «III отделения собственной его императорского величества канцелярии» — генерала Бенкендорфа. Под учтивой формой в нем скрывался ряд язвительных замечаний и строгих предписаний. Поэту ставилось на вид, что он не счел нужным представиться шефу жандармов («Я ожидал прихода вашего… но не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить» и пр). По поручению царя начальник высшей полиции назначал поэту некий политический экзамен — написать трактат «о воспитании юношества». Лестная фраза об «отличных способностях» автора сопровождалась бесцеремонным выпадом: «Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания» Письмо заканчивалось уверением «в истинном почтении и преданности».
Это был подлинный голос новой власти; уже не «Титово милосердие», а облеченное в холодную форму официальной учтивости строжайшее распоряжение, еле прикрывающее лощеными выражениями недовольство и подозрительность начальства. Такой именно тон прочно установится в отношениях николаевского правительства к поэту и сохранится до самого конца. «Вы всегда на больших дорогах», лично заявит Бенкендорф Пушкину, а царю сообщит о нем свое подлинное мнение: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно».
Заняться в суете московской жизни трактатом о воспитании Пушкин не мог; он решил выполнить заданный урок в михайловском уединении, куда необходимо было вернуться для устройства дел перед окончательным переездом в Москву. На прощальном обеде, устроенном в его честь друзьями, он выносит незабываемое впечатление от поэтической импровизации Мицкевича. К этому времени он уже успел сблизиться с польским поэтом, который судьбой своей напоминал отчасти его собственную биографию. Политический изгнанник, оставивший по приказу петербургского правительства свою родину для скитаний по югу России, Мицкевич развернул в ссылке свое выдающееся поэтическое дарование и дал за последние годы «Крымские сонеты» и поэму «Конрад Валленрод» (которую Пушкин начал вскоре переводить). Мицкевич прибыл в Одессу через полгода после отъезда Пушкина (в феврале 1825 г.), пережил здесь мучительный роман с Каролиной Собаньской, а в своих южных сонетах зарисовал столь знакомые Пушкину места, как аккерманские степи, Черное море, Бахчисарай, гробницу Потоцкой, Кикинеиз, Аю-Даг. Все это должно было сразу сблизить двух поэтов, которые высоко оценили друг друга и заключили своеобразный дружеский союз. Впоследствии Пушкин изобразил в одном стихотворении личность и чарующие беседы Мицкевича, который в свою очередь оставил одну из самых замечательных характеристик своего русского друга-поэта.
На прощальном обеде 24 октября Мицкевич в полной мере проявил свой выдающийся дар импровизации. Обычно он изумлял свободным развитием любой трагической темы. «Выражения его сжаты, но исполнены страсти и силы», писала о его устном творчестве Зинаида Волконская. На этот раз Мицкевич импровизировал французской прозой. «Можно было думать, что он читает наизусть поэму, им же написанную», записал свое впечатление Вяземский. Образ гениального поэта-импровизатора навсегда запомнился Пушкину.
В начале ноября, числа седьмого, Пушкин приехал в Михайловское. Его искренно растрогала встреча с няней и крестьянами, о чем сохранился известный рассказ в его письмах. Но необходимо было спешно писать порученный ему доклад о воспитании. Это был акт первого открытого наступления николаевского правительства на «вольнодумного» поэта.
Пушкин понял, что высочайшее «прощение» было Даровано ему не безвозмездно, а предполагало ряд ответных действий и выступлении, глубоко враждебных его личности.
Пушкин не был педагогом, никогда не служил по ведомству народного просвещения, ничего не писал о воспитании. Естественно было бы запросить его мнение по вопросам печати, цензуры, журналистики, то-есть попытаться наладить с ним сотрудничество в кругу близких ему вопросов. Но преследовалась, видимо, другая цель получить от него декларацию о негодности воспитательной системы, приведшей ею поколение к 14 декабря, а его самого «на край пропасти» (как писал ему вскоре Бенкендорф). Царский манифест, изданный в самый день казни декабристов, выдвигал эту тему, которая могла послужить наилучшей пробой государственному публицисту.
Но творческая натура Пушкина сопротивлялась подобным поручениям. В самой методике построения своей записки он как бы выразил свой протест против «высочайше» навязанной темы. Замечательный писатель-труженик, умевший прилежно подготовлять материал для своих работ и тщательно отделывать его, на этот раз выполнял задание без обращения к литературе вопроса, в виде беглой сводки отдельных мыслей и случайных замечаний, не приведенных в систему, не объединенных общей идеей, не облеченных в обычную законченную форму его писаний.
Между тем в среде новых московских друзей Пушкина вопросы теоретической педагогики вызывали живой и глубокий интерес. Здесь было решено «перевести со всех языков лучшие книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий». Большие современные проблемы «свободного воспитания», «социализирования детского существа», провозглашенные педагогической мыслью XVIII века, особенно в лице Песталоцци, должны были бы отразиться в докладе об образовании юношества, написанном в 1826 году. Не может быть сомнения, что эти новейшие идеи были бы учтены Пушкиным, если б он разрабатывал такую важную тему в духе философского сотрудничества с литературными друзьями, например, для «Московского вестника»[47].
Но от поручения Бенкендорфа необходимо было отделаться как можно скорее. 15 ноября, через неделю после приезда Пушкина в Михайловское, трактат о воспитании был уже закончен. Он представляет собой коротенькую статью без общего плана, без заботы о композиции и стройном развитии темы, без обычных качеств пушкинской прозы, с ее энергичными и окончательными формулировками, с ее остроумием и изяществом. Чувствуется, что манифест 13 июля, который цитируется в одном из первых абзацев записки, господствует над всем изложением и сообщает ему свой официозный стиль. Все эти «преступные заблуждения», «злонамеренные усилия», «возмутительные песни» и пр. ставят эту статью и в стилистическом отношении неизмеримо ниже всех прочих опытов Пушкина в жанре философской прозы.
Сам поэт не придавал своей записке творческого Значения и никогда не пытался довести ее до печати и читателей. Это, конечно, не «Эмиль» Руссо, не «Мысли о воспитании» Льва Толстого. Свою докладную записку царю сам автор называет «вверенное мне препоручение». Именно этим объясняются такие положения статьи, как запрет для школьников литературных занятий и литературных обществ, лишение их права печататься в журналах, предложение «тягчайшего наказания» за эротическую рукопись и «за возмутительную [48] — исключение из училища» и пр.
Следует все же признать, что и в таком вынужденном заявлении Пушкин сумел сохранить некоторые живые и ценные положения. Он горячо отстаивает «просвещение», защищает ланкастерские школы, отмену телесных наказаний, преподавание политической экономии по системе Сея и Сисмонди, тщательное изучение русской истории (правда, по Карамзину). Он призывает педагогов «не хитрить, не искажать республиканских рассуждений». Основная политическая позиция Пушкина в этой статье отвечала его сложившимся за последние годы воззрениям о необходимости творить историю с полным учетом реальных сил и фактических возможностей, она только получала здесь более резкое и несколько официальное выражение[49].
Пушкину это давалось не легко. Недаром перед отъездом из Михайловского, 23 ноября 1826 года, он записывает строки, с поразительной ясностью и полнотой выражающие чувство, которое уже до конца не перестанет владеть им, — потребность побега от официальных почестей в творческое одиночество:
Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод…
Но жизнь деспотически разрушала эти влечения. Закончив записку «О народном воспитании», Пушкин собирается в отъезд и в конце ноября уже находится в Пскове. Здесь он получает через Адеркаса письмо Бенкендорфа. По существу это был выговор за оставление без ответа сентябрьского письма начальника III отделения и за общественные чтения в Москве «Бориса Годунова». Пушкин в ответ и оправдание отсылает Бенкендорфу рукопись своей трагедии «в том самом виде, как она была читана», для заключения о судьбе его произведения.
Игра в штосс и безденежье задерживают Пушкина в Пскове; только 19 декабря вечером он приезжает в Москву. Здесь происходит второй акт начавшейся драмы — «дружбы» с правительством, которая уже становилась непрерывной борьбой за независимость, самостоятельность и писательское достоинство.
Обращаясь весной 1826 года из Михайловского к верховной власти, Пушкин рассчитывал в лучшем случае на освобождение в обычном, общепринятом порядке путем соответствующей резолюции. Он не мог предвидеть той «личной милости», в какую намеренно превратили этот официальный акт с целью покрепче связать его моральными обязательствами. Тяжесть подобного правительственного метода вскоре сказалась полностью. «Помилование» Пушкина, возвещенное ему самим императором, обязывало поэта реагировать на этот жест стихотворной благодарностью. Отступление от такого обычая становилось невозможным после недавних писем Бенкендорфа с выговорами за недостаточную оценку царских милостей, с намеками на неблагодарность, с еле прикрытыми требованиями ответных заявлений своей верноподданнической активности. С точки зрения правительственных кругов, Пушкин как поэт был обязан «воспеть» своего верховного благодетеля. В обществе, хорошо знавшем эти неустранимые правила общения с двором, даже ходили слухи, что Пушкин в самом кабинете Николая, узнав о своем прощении, тут же экспромтом написал ему хвалебное посвящение. Но ни в этот момент, ни в ближайшие месяцы Пушкин не смог заставить себя выполнить эту тяжелую обязанность. Александру I он «подсвистывал до гроба», о Николае I он соглашался молчать, сохраняя про себя образ своих мыслей. Теперь же, после приема 8 сентября, он не имел права хранить молчание. Но только в конце декабря Пушкин решается, наконец, на этот мучительный для него шаг и пишет свои «Стансы».
Как и в лицейские годы, когда ему предлагали писать «оды» принцам, он обратился к истории и сосредоточился на замечательном героическом образе прошлого. Пусть аналогия с Петром I здесь грешила крайней натяжкой, все же она освобождала автора от необходимости дать персональную характеристику «царствующего монарха» и писать его парадный портрет в бенгальском освещении придворной лести. Пушкин в трех строфах дает выпуклый образ Петра-правителя и завершает свою хвалу любимому герою простым и сугубо лаконическим выводом: «Семейным сходством будь же горд»; за этим уже следовали собственно некоторые советы поэта царю всячески укреплять это счастливое сходство. Трудно было в подобном жанре быть менее льстивым.
Лишь значительно позже это стихотворение было понято, как заступничество за декабристов и призыв к реформам. Современники же Пушкина этих нот не расслышали. Напротив, оптимизм поэта («В надежде славы и добра — Гляжу вперед я без боязни…») находился в противоречии с настроением передовых кругов, разгромленных Николаем. «Будущее являлось более чем грустным и тревожным», характеризует общие переживания осенью 1826 года Кошелев; стансы Николаю I расходились с этим подавленным настроением и не могли встретить общественного сочувствия. Многие современники, в том числе и кое-кто из ссыльных декабристов, признали «Стансы» компромиссом. На такие упреки Пушкин ответил в 1828 году новыми стансами, посвященными «Друзьям» («Нет, я не льстец…»). Это было ответом обществу, но отчасти и актом самооправдания. Ведь совсем недавно, в августе 1826 года, Пушкин отказывался от всякого обращения к Николаю I, а к концу года был вынужден посвятить ему хвалебные строфы. Этим нарушалось требование его писательской программы, неоднократно выраженное им формулой «непреклонная лира»[50]. Пушкин болезненно и тяжело переживал всякое отступление от этого принципа, которому до конца стремился оставаться верным. Так открывается один из глубоких источников внутренней драмы поэта в последнее десятилетие его жизни[51].
Между тем в Петербурге решалась судьба «Бориса Годунова». Николай I не любил трагедий, которые обычно раздражали его хвоим вольным обращением с владыками. 14 декабря 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину заключение царя о необходимости переделать трагедию «в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». Сдержанное возмущение слышится в ответе поэта на «всемилостивейший отзыв его величества»: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».
Среди этих напряженных тревог произошла встреча, глубоко взволновавшая поэта. 26 декабря Пушкин застал у Зинаиды Волконской юную попутчицу своей поездки по Кавказу и Крыму — Марию Николаевну Раевскую, ставшую в 1825 году женой Сергея Волконского. Девушка, внушавшая ему чувство живой и нежной преданности, вдохновительница его первых южных элегий, встретилась с ним теперь в самый разгар захватившей ее трагедии. Беспечная девочка, игравшая с прибоем азовских волн или называвшая своим именем таврическую звезду, обрекала себя теперь на скитания по Сибири и на жизнь у каторжных рудников. Москва для нее была только первым этапом по пути следования в Нерчинск. Эпоха неожиданно раскрывала в людях героизм, о котором до 14 декабря трудно было догадываться. Музыкой и пением знаменитых итальянцев «Северная Коринна» хотела в последний раз развлечь и утешить добровольную изгнанницу, отъезжавшую в ледяную пустыню и ужасающую безвестность. Пережитая катастрофа не сломила ее. Когда заговорили о правительственных неприятностях, которым подверглись устроители концерта в пользу одного заключенного, Мария Николаевна с жаром прервала рассказ: «Их признали слишком свободомыслящими…»

М. Н. Волконская в 1827 году перед отъездом в Сибирь.
Карандашная зарисовка Зинаиды Волконской.
На фоне суеты и лжи современного общества образ этой женщины казался единственным выражением подлинной героической правды. Пушкин был глубоко взволнован. «В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных, в Сибирь, — записала впоследствии Волконская, — он был преисполнен искренним восторгом». Ему хотелось в последний раз согреть ее бодрой мыслью, утешительными словами. Он рассказал ей о своем стихотворном послании к сибирским каторжникам, среди которых у него такие близкие и дорогие друзья:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье…
В самих образах и ритмах этих немногих строф о «скорбном труде» и неизбежном грядущем избавлении звучало действительно нечто гордое и бодрящее, слышалась непоколебимая и убеждающая уверенность в конечном торжестве свободы. Пушкин не хотел прощаться навсегда с подругой своих юных лет. Расставаясь, он обещал навестить ее в Нерчинских рудниках, куда он хотел направиться с Урала, с мест пугачевского восстания, о котором собирался писать книгу. Мария Николаевна благодарила поэта, зная и чувствуя, что им больше не придется свидеться. Пушкин запомнил «последний звук» ее речей и через два года запечатлел их в одном из своих самых проникновенных и прекрасных посвящений. С момента этой последней встречи Мария Волконская стала большим и глубоким событием его внутренней жизни.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Поэты
Поэты Поэтами рождаются, но дельным Хозяевам, фортуны господам, Труд неоплатный кажется бесцельным, Они стихи прощают чудакам. А те уже поют: когда б не наша мука, Чего бы стоила вся ваша суета, Ведь о живых сердцах не говорит наука Того, чем музыка одна лишь занята. Но
53. Поэты не умирают…
53. Поэты не умирают… А история отношений Коко и Пьера Риверди не оставила почти ничего – слишком мимолётным был их роман. Любовь вспыхнула лишь в одном сердце, Коко эта связь почти не задела. По большому счёту, об этом не стоило бы и вспоминать, если бы не слова,
Любимые поэты
Любимые поэты После резолюции Сталина еще брали во внимание посмертную волю Маяковского: «Оставшиеся стихи отдайте Брикам, они разберутся», — и ЛЮ принимала участие в работе над его поэтическим наследием. Со временем положение изменилось, но Лиля Юрьевна продолжала
Поэты на стадионах
Поэты на стадионах В Советском Союзе психология литераторов отличалась известными особенностями. Они продолжали существовать в тепличных условиях Союза советских писателей. Эти условия были очень даже комфортные. Конечно, попасть в ССП было непросто – и чем далее, тем
Поэты
Поэты Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, но уже второй был олухом. Генрих Гейне Стихотворение есть растянутое колебание между звуком и смыслом. Поль Валери Я получил блаженное наследство Чужих певцов блуждающие сны… Осип
Поэты
Поэты 1Тему «Галич и поэты» мы уже частично затрагивали в одной из предыдущих глав, когда говорили про бардов, а чуть выше — про Варлама Шаламова. Однако тема эта настолько обширна, что охватить ее целиком практически невозможно. Поэтому остановимся лишь на наиболее
Поэты
Поэты Когда потеряют значенье ????????????????????слова и предметы, На Землю, для их обновленья, ????????????????????приходят поэты. Под звёздами с ними не страшно: ????????????????????их ждёшь, как покоя! Осмотрятся, спросят (так важно!): ????????????????????«Ну что здесь такое? Опять непорядок на свете без
Поэты и власть
Поэты и власть 10 апреля 1919 года Нестора Махно избрали почётным председателем Гуляйпольского Совета. К этому времени видный московский анархист Иуда Соломонович Гроссман-Рощин (тот самый, с которым Маяковский познакомился и подружился в «Кафе поэтов») уже перебрался на
Поэты и прозаики
Поэты и прозаики Борис Бажанов, живший в украинском городе Могилёве-Подольском, ту пору описал так:«Летом 1919 года я решил вступить в коммунистическую партию…Если я хотел принять участие в политической жизни, то здесь, в моей провинциальной действительности, у меня был
Поэты и бандиты
Поэты и бандиты Интересное воспоминание оставил художник Амшей Нюренберг:«В РОСТА деньги выдавали два раза в месяц. В кассу мы приходили с мешками, так как получка иногда представляла объёмистую и довольно увесистую кучу бумажек».Полученную зарплату приходилось
Поэты-романтики
Поэты-романтики Незамысловатый бытовой реализм, а так же псевдоинтеллектуальный формализм всё более и более завладевают новейшими стихотворцами. Или всё, как есть – до полного натурализма, или, как и быть не может – до полного абсурда. Читаешь такое и – пусто. Ни сердце,
ПОЭТЫ — ВЕСТНИКИ
ПОЭТЫ — ВЕСТНИКИ Религиозное начало русской литературы, ее мистический смысл — вот на чем сосредоточен Даниил Андреев в десятой книге «Розы Мира» «К метаистории русской культуры», где изложено его учение о вестничестве. С точки зрения вестничества он смотрит и на
Поэты о Высоцком
Поэты о Высоцком Ранний уход Владимира Высоцкого потряс многих современных ему поэтов. Многие из них откликнулись на его кончину стихами.Окуджава Булат Шалвович, поэт, литератор, бард (1926–1997). Старший товарищ и наставник Высоцкого. Окуджава оказал очень большое влияние
Поэты
Поэты 1 Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь. Планетами, приметами, окольных Притч рытвинами… Между да и нет Он даже размахнувшись с колокольни Крюк выморочит… Ибо путь комет – Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности –