ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Бывает, живет человек, живет — увлекается и охладевает, радуется и огорчается, негодует и восхищается, силится побороть невзгоды и упивается успехами, поглощенный трудами и заботами, не замечает быстрого бега времени и считает, что жизнь его насыщена событиями, одно важней другого. И вдруг приходит что-то новое, что вытесняет все прежнее и до краев заполняет думы и чувства, помыслы и поступки, дни и ночи. Теперь уже человек недоумевает: как мог он раньше жить без этого нового, огромного, всепоглощающего, без того, что нарушило все планы и смешало все расчеты?!
Так случилось и с Вольфгангом, случилось в тот момент, когда он уже был готов покинуть Маннгейм. Вначале он не понял того, что произошло. И лишь много часов спустя, ночью, вдруг все стало ясно.
Посреди ночи он проснулся. Его разбудила мелодия. Назойливо неотвязная, она продолжала звучать в ушах и после того, как он открыл глаза. Такое бывало с ним и раньше. Случалось, что во сне пригрезится напев и навязчиво звучит, не давая покоя. Чтобы освободиться от него, надо либо записать, либо пропеть мелодию.
Так он и сделал. Тихонько, чтобы не разбудить мать, пропел привязавшуюся фразу. Но на этот раз мелодия не исчезла, а продолжала упрямо звучать. Была бы хоть свежей — необидно, а то ведь затрепанная, давно навязшая в ушах песенка кого-то из модных в салонах композиторов, не то Фишера, не то Вангаля. И откуда взялась она?!
Что поделать, пришлось вылезти из теплой кровати и сесть за инструмент.
И в тишине, нарушаемой лишь дыханием спящей Анны Марии, зазвучал клавесин, робко, чуть слышно, будто за разрисованным морозом окном зазвенела весенняя капель: юная и нежная весенняя капель в лютой стуже декабрьской ночи. И из звуков этих возник образ — девушка, юная и нежная, легкая, как дыхание приближающейся весны. Тонкая худенькая шея, по-детски угловатые плечи, острые ключицы, так мало подходящие к широкому вырезу бального платья, маленькая, красивая грудь. Узкая кисть левой руки оперлась на клавир, а правая рука прижалась к груди; тонкие, суживающиеся на концах пальцы чуть вздрагивают, комкая кружева…
Громче зазвучал клавесин. Теперь мелодия не скакала рывками от звука к звуку, а текла плавно. Клавиши пели, и вместе с их пением в комнату впорхнул теплый девичий голос. Слушая его, забываешь, что в лунном свете клубится пар твоего дыхания, что пальцы леденеют от холода.
Вчера Вольфганг впервые услышал этот голос. Вечером он зашел к одному из маннгеймских друзей. Вечер выдался скучный. Гости уже порядком надоели друг другу и ждали только случая, чтобы поскорее, не обидев хозяев, разойтись по домам. Дочь хозяина, певица, попросила Вольфганга проаккомпанировать ей. Он это сделал. Но играть соло отказался — очень устал за день. Тогда выступил сам хозяин, он сыграл концерт Вольфганга для флейты, а затем вместе со своими приятелями исполнил квартет Вагензейля. Все было очень чинно и очень скучно. Каждый из исполнителей был вполне искусным музыкантом, у каждого хватило умения сыграть свою партию гладко, и у каждого было достаточно много работы днем, чтобы еще вечером расходовать душевные силы. Когда все собрались откланяться и разойтись, хозяйская дочь предложила послушать молодую певицу. Гости нехотя согласились. Остался и Вольфганг.
Певица спела немного, всего две арии и вот эту песенку. Пела не очень совершенно: видимо, волновалась. Но Вольфганг тотчас же разглядел талант. Большим, драгоценным даром обладала эта хрупкая, тоненькая, сильно робеющая девушка. И было обидно, что остальные не замечали ее таланта. Они не очень внимательно, перебрасываясь шутками и вполголоса переговариваясь, слушали пение, лениво, больше для вида, аплодировали, а дочь хозяина — известная придворная актриса — под конец покровительственно чмокнула молоденькую певицу, хотя ей самой и не грезилось петь так, как пела эта юная девушка.
А той это необычайно польстило. Счастливая, она ни на шаг не отходила от своей покровительницы, и Вольфгангу так и не удалось поговорить с молоденькой певицей. К тому же гости заторопились, с одним из них Вольфгангу было по пути, и он поехал домой.
И вот дома посреди ночи он проснулся, разбуженный той самой песенкой.
Чем больше он ее играл, чем больше варьировал на разные лады, тем явственней становились черты вчерашней незнакомки — удлиненный разрез карих глаз, то объятых боязнью, то загорающихся дерзким восторгом, причудливый излом бровей, своенравно вздернутый подбородок, прорезанный ямочкой, прямо и резко очерченный рот. И тем ясней становилось Вольфгангу, что не глупая песенка разбудила его поздней ночью, а та кареглазая волшебница. Теперь эту песенку нельзя было узнать — так преобразилась она под руками Моцарта. А вместе с ней иным становился и Вольфганг. И он вдруг понял, что не видать ему покоя до тех пор, пока не разыщет он эту девушку и вновь не свидится с ней.
На другой день он уже знал, что зовут ее Алоизией Вебер, что ей пятнадцать лет, что она — дочь театрального суфлера и переписчика нот Фридолина Вебера.
Моцарт без труда разыскал в театре суфлера. Это был высоченный, плотный человек, широкоплечий и широколицый, очень добродушный и общительный. Вольфгангу он, разумеется, показался красавцем, хотя Фридолина Вебера красивым считали лет десять тому назад. Моцарт увидел крутой лоб, но не заметил пересекающих его морщин, увидел спокойные, мечтательно-мягкие глаза, но то, что они почти совсем скрыты нависшими веками и набухшими мешками, Вольфганг не заметил. Что действительно было замечательным в этом человеке — это голос: низкий, густой и удивительно раскатистый бас. Фридолин Вебер не разговаривал, а рокотал, широко размахивая при этом руками. Казалось, он жадно ловит каждый миг, когда, наконец, можно вволю размяться после изнурительного сиденья в тесной суфлерской будке и всласть наговориться после долгого шептанья. Когда Вольфганг представился и попросил переписать несколько своих сочинений, присовокупив при этом небольшой аванс, Фридолин Вебер без церемоний сгреб юношу в свои объятия и прогрохотал, что он, честный немец, счастлив встретиться с другим честным немцем, замечательным капельмейстером, надеждой нации, и что он будет несказанно рад видеть молодого маэстро гостем в своем доме.
Едва дождавшись вечера, Вольфганг отправился к Веберам. Жили они на самом краю города. И хотя идти пришлось пешком, а на дворе стояли крещенские морозы, далекий путь показался Вольфгангу коротким, а погода замечательной.
Дверь открыла статная черноглазая девушка в стоптанных туфлях на босу ногу. Лицо ее было выпачкано сажей. Увидев молодого, щеголевато одетого гостя, девушка смутилась, принялась торопливо вытирать засаленным передником лицо, отчего оно стало еще более грязным, крикнула: «Папа, к тебе пришли!» — и убежала.
В прихожую заглянула белокурая девчушка, состроила гримаску и, проговорив: «Папа сейчас выйдет!» — тоже скрылась.
Наконец появился и сам хозяин. Маленькая прихожая сразу же наполнилась шумом и стала еще тесней. Теперь Вебер казался еще больше и шире: на нем был длинный и просторный стеганый халат. Кое-где шелк сильно посекся и наружу выбивались клочья ваты. Схватив гостя под руку, он потащил его в комнаты.
Квартира Веберов была большая, но жилось в ней, судя по всему, тесно. Всюду стояли вещи: шкафы, комоды, этажерки, сундуки, диваны, кресла. Мебель старинная, громоздкая и в свое время дорогая, теперь не представляла никакой ценности: диван красного дерева был изуродован спинкой, грубо сколоченной из дурно обтесанных досок, изящный письменный стол, инкрустированный перламутром, стоял вместо ножек на чурбаках, из-под плюша кресельных сидений торчали пружины.
Везде был беспорядок. Но больше всего он ощущался в кабинете хозяина — длинной, узкой комнате. Здесь все было завалено книгами, нотами, гусиными перьями, листами чистой и исписанной нотной бумаги. Ноты и книги валялись даже на клавесине, а рядом, на крышке того же многострадального клавесина лежали трость, парик и несколько трубок с длинными чубуками.
Фридолин Вебер подошел к камину. Перед ним в мягком кресле дремала пожилая женщина. Красноватый отблеск тлеющих углей, играя на ее сухом, морщинистом лице с тонкими, плотно поджатыми губами и крючковатым носом, придавал лицу мрачное, даже зловещее выражение. Оно еще более усиливалось тем, что у ног женщины лежал тощий черный кот, зеленые глаза которого сверкали в красноватой полумгле.
Фридолин Вебер наподдал кота ногой, хлопнул дремавшую женщину по плечу и, когда она, ничуть не удивившись, раскрыла глаза и не спеша встала, представил:
— Моя жена, фрау Цецилия Вебер… Мой лучший друг, капельмейстер Моцарт…
Слова Вольфганга о том, как приятно ему это знакомство, потонули в могучих раскатах баса Фридолина Вебера, отдававшего жене распоряжение зажечь в честь дорогого гостя все свечи. Однако на фрау Цецилию приказ мужа, хотя и был он отдан громовым голосом, не произвел никакого впечатления. Она, не торопясь, достала табакерку, отправила в нос основательную понюшку и, проговорив: «Угощайтесь!» — но не дождавшись, пока гость возьмет табак или откажется, захлопнула крышку. Только после этого она визгливо прокричала:
— Констанца, свет!
В комнату вошла девушка, открывшая Вольфгангу дверь. На ней было платьице, из которого она давным-давно выросла. Неловко присев в реверансе, Констанца принялась зажигать свет.
Тем временем неугомонный отец выбежал из комнаты и тотчас вернулся, ведя за руки русоголовую девочку и крупную, ширококостную девицу с пухлым, апатичным лицом.
— Моя старшая дочь Йозефа, — пробасил он. — А это самая младшенькая — Софи. А вон та — Констанца, по счету моя…
Но Вольфганг не дослушал, какая по счету Констанца дочь господина Вебера. В дверях появилась та, ради которой он спешил сюда, в этот странный и несуразный дом, — мадемуазель Алоизия Вебер. И оттого, что он с таким нетерпением ожидал этой встречи, сейчас, увидев Алоизию, он так растерялся, что даже пожалел, что эта встреча состоялась. Маленький, покрасневший настолько, что оспины резко проступили на худом лице, стоял он, комкая высунувшуюся из рукава манжету, и никак не мог заставить себя тронуться с места. А в ушах клокотал поток звуков. Подобно зигзагам молний взметались, низвергались и снова взмывали ввысь пассажи скрипок, гудела медь, гремели литавры. И в этом вихре созвучий неслась мелодия, страстная, смятенная, исступленная. Бушевал и неудержимо рвался наружу огромный мир страстей. Но был он слышен одному лишь Вольфгангу. Другие же видели только невзрачного остроносого человечка, не знающего, куда деть свои длинные руки.
К нему подошла Алоизия. Улыбаясь, она протянула руку. Он прижал эту тонкую, пахнущую ландышем руку к своим губам. И буря улеглась. Под тихие всплески скрипок запел кларнет. Умиротворенно и улыбчиво-радостно звучал его чарующе спокойный напев, вызывая трепетные отголоски гобоя, задумчивые отклики виолончели…
С того вечера Вольфганг каждый день бывал у Веберов и очень скоро стал своим человеком в доме. Он почти наизусть знал грустную историю Фридолина Вебера, извилистую дорогу путаной жизни оперного певца, музыканта, поэта, драматурга, а в общем неудачника и прожектера, нашпигованного множеством планов и проектов, один фантастичней другого, одержимого мечтой о богатстве и барахтающегося в нищете.
Он уже хорошо знал, что фрау Цецилия, сварливое и злобное существо, без конца пилящее мужа и тиранящее дочерей, становится покладистей, когда в ее кофе появляется пара-другая ложечек рома; что медлительная, заспанная Йозефа всегда небрежно одета и дурно причесана потому, что очень ленива и что, если бы не воркотня матери, она целыми днями провалялась бы на диване, посасывая леденцы; что маленькая Софи, плутоватый и изворотливый бесенок, ловко увиливает от домашней работы, сваливая ее на плечи безответной Констанцы — Золушки, как ее называли в семье.
И лишь одного человека не знал он в этом доме, того, кто больше всего интересовал его, — Алоизию. Она как бы ускользала от него, оставаясь такой же непонятной, как и в первый день их знакомства. От этого он еще больше робел, оставаясь с ней наедине. Но странно, и эта робость и эта загадочность были ему сладостны, они еще сильней будоражили его.
Каждый день Моцарт с нетерпением ожидал того часа, когда, наконец, сможет остаться с Алоизией вдвоем, когда вновь увидит ее улыбку, легкую, скользящую, таинственно-загадочную, будто она улыбается своим, лишь ей одной ведомым мыслям; когда опять услышит ее смех, серебристый и тихий; когда как бы невзначай коснется ее руки, шелковистой и прохладной; когда, наклонившись над клавесином, за которым она сидит, вдохнет аромат ее волос.
Но всякий раз, как он приближался к ней и чувствовал ее рядом с собой, Алоизия, выждав какой-то момент и дав ему насладиться этой кажущейся близостью, находила предлог, чтобы ускользнуть. Она была близкой, и она оставалась такой же далекой, как прежде. И от этого он еще больше терял голову, еще сильней робел и смущался.
И лишь в одном случае он чувствовал себя властелином — тогда, когда он аккомпанировал, а она пела, когда он учил, а она училась. Он учил ее не исполнять музыку, а музыкально мыслить, не петь разные сочетания звуков, а раскрывать в звуках чувства, мысли и душевные движения людей, не стараться во что бы то ни стало щегольнуть красотой своего голоса, а стремиться к выразительности, глубоко проникаться поступками, чувствами, настроениями своей героини.
Она ловила каждое его слово. По тому, как загораются ее умные, обычно такие холодные глаза, он видел, что каждое указание, каждый совет жадно впитываются ею. А раз, когда он принес специально для нее написанную арию — восхитительное воплощение любовного томления, грации и красоты, — она, пропев ее под его аккомпанемент, пропев неподражаемо, обняла его и поцеловала в губы долгим, дурманящим голову поцелуем. Но еще не успело улетучиться ощущение ее влажных губ, как она выскользнула из его объятий и, улыбнувшись своей загадочно-таинственной улыбкой, убежала в другую комнату звать мать и сестер послушать, что за прелесть сочинил мсье Моцарт.
Был ли он с нею счастлив? Вероятно, да. Это было порывистое и невероятно зыбкое счастье, чреватое и огорчениями, и сомнениями, и муками неисполненных желаний, и тревогами за будущее. Это было тревожное счастье, приносящее и страдания, и радости, и боль, и восторг, и печаль, и вдохновение. Это было то самое благословенное счастье, которого так недостает людям, когда они молоды, и которого столь вожделенно жаждет мятежная юность.
Вольфганг и до встречи с Алоизией не особенно думал о своих делах. Теперь же мысли о любимой, о ее и о своем будущем, — а он уже неразрывно связывал их, — всецело овладели им. В те немногие часы, которые Вольфганг проводил дома, он только и говорил, что о бедном и достойнейшем семействе Веберов, которому он, Вольфганг, должен помочь вырваться из нужды. И, разумеется, в этих разговорах то и дело мелькало имя мадемуазель Алоизии и воздавалась хвала ее талантам и достоинствам.
Все это не могло не встревожить Анну Марию. Она видела, что сын все больше отдаляется от нее. Всегда ровный и ласковый, он становился резким и колючим, как только она пыталась заговорить о денежных делах. А они были очень плохи. Анна Мария видела, что дальнейшее пребывание в Маннгейме грозит полным финансовым крахом. А Вольфганг не хотел понять этого — больше того, раздражался и уходил из дому, как только речь касалась отъезда.
Сначала Анна Мария утешала себя тем, что это увлечение, которое рано или поздно пройдет. Но как-то, проснувшись рано утром, она услыхала его импровизацию за клавесином. И тут ей стало все настолько ясно, что, укрывшись с головой одеялом и зарывшись в подушки лицом, она беззвучно проплакала все утро напролет. В музыке было столько страсти, столько огня и глубины, что мать яснее, чем из любых пространных слов, поняла: пришла та самая пора, которой так страшится каждая мать, — пора, когда для сына, даже для самого нежного и любящего, мать перестает быть любимейшей из женщин.
И тогда Анна Мария решилась на крайнее — написала обо всем мужу.
«Из этого письма тебе станет ясно, что Вольфганг, как только знакомится с новыми людьми, тут же готов пожертвовать всем ради них. Это правда, поет она неподражаемо, но ведь нельзя же забывать и о своих интересах… Одним словом, ему приятней бывать с другими людьми, чем со мной. Я возражаю ему то в одном, то в другом, что мне не нравится, а это ему не подходит. Так что поразмысли сам — что делать?..»
С этим письмом в дом Моцартов в студеный зимний день ворвалась гроза. Старый Леопольд места себе не находил. Заложив руки за спину и бормоча проклятия, он метался по квартире, не обращая внимания на рыдания Наннерл. Будущее Вольфганга, громкая слава, всеобщее признание, богатство, все то, что ждет его впереди и ради чего принесено столько жертв и терпится столько лишений, — все это рассыпается прахом. И ради чего? Ради вскружившей голову девчонки! Куда смотрела мать?! Как допустила до такого?!
Но больше всего Леопольд бранил себя. Как он все это проглядел? Как не призадумался над теми неумеренными восхвалениями, которые Вольфганг чуть ли не в каждом из своих последних писем расточал этой несчастной певице и ее интригану отцу! Как не обратил внимания на частые просьбы выслать в Маннгейм то одно, то другое из его вокальных сочинений! Как не придал значения, а лишь посмеялся над его вздорным планом поехать с Веберами в Италию и сделать там из этой желторотой певицы оперную примадонну! Просчет, просчет и еще раз просчет! И это допустил Леопольд Моцарт, мудрый, прозорливый Моцарт, точно вымеряющий каждый свой шаг в настоящем и проницательно заглядывающий в будущее!..
Но сетованиями горю не поможешь. Надо принимать решительные меры, ведь дело идет о спасении сына.
Как ни был возбужден Леопольд, он и на этот раз не поступился своим главным правилом — не действовать опрометчиво, под влиянием горячей минуты. Он долго обдумывал письмо, которое пойдет в Маннгейм. От этого письма зависело все — вернется ли Вольфганг на путь истинный или будет потерян навсегда, исцелится от нежданной напасти или погибнет, станет великим музыкантом или впадет в ничтожество. Потому это знаменитое письмо, написанное 12 февраля 1778 года, лишено и тени угрозы. Оно — прямой и суровый разговор старшего друга с младшим, разговор, в котором неопровержимая логика доводов убеждает рассудок, а сила изображения покоряет чувства.
«Умоляю тебя, мой дорогой сын! Прочти письмо мое внимательно, а прочитав, выбери время поразмыслить над ним… Терпеливо выслушай меня.
Ты отлично знаешь, как нас угнетали в Зальцбурге. Ты знаешь, сколь плохим стало под конец мое материальное положение и почему я сдержал свое слово, отпустив тебя в столь дальний путь. Тебе известны все мои бедствия.
Твоя поездка преследовала две цели: сыскать постоянную хорошую службу или же, если это не удастся, обосноваться в большом городе, где можно хорошо зарабатывать. И то и другое имело целью оказать помощь родителям и дорогой сестре, а главное — завоевать мировую славу и известность. Частично это уже свершилось в твоем детстве, частично — в юности твоей. Теперь лишь от тебя одного зависит, постепенно возвышаясь, достичь величайшего почета, какого когда-либо удостаивался музыкант. К этому тебя обязывает твой необыкновенный талант, дарованный тебе господом богом. Хочешь ли ты помереть заурядным музыкантом, о котором позабудет весь мир, или знаменитым капельмейстером, о котором потомки будут читать в книгах; на соломенной подстилке, под башмаком у жены, в доме, переполненном полуголодными ребятишками, или же, проведя жизнь по-христиански, в довольстве, чести и славе, полностью обеспечив свою семью, почитаемый всем миром? И все это зависит только от твоего благоразумия и от того, какую жизнь ты поведешь…
Прочь в Париж! Да поскорей! Бери пример с великих людей — или Цезарь, или ничто!» (Для вящей убедительности Леопольд процитировал девиз Цезаря Борджиа.)
Вольфгангу ничего другого не оставалось, как подчиниться отцу: неподчинение привело бы к разрыву.
Нелегко далось ему решение согласиться на разлуку с любимой. Оно стоило громадных усилий и мучительной борьбы. Испытанные им чувства были настолько глубоки, что даже через девять лет воспоминания о них не изгладились из его памяти: в 1787 году он с огромной силой выразил в «Песне разлуки» трагическую горечь, тоску и боль расставания с любимой.
Перед самым отъездом Вольфганг заболел и последние дни в Маннгейме провел прикованным к постели.
В эти печальные дни он думал лишь об одном — о встрече с Алоизией. Но она так и не выбрала времени, чтобы зайти к нему. Занятия с Моцартом не прошли для нее даром. Она почерпнула из них все, что может извлечь умный, способный, все схватывающий на лету человек. Совместные выступления с Вольфгангом, его пьесы, которыми обладала только она, раскрыли перед ней двери салонов. Алоизия Вебер становилась модной певицей. Ее приглашали петь то в один, то в другой дом. Разумеется, ей было уже не до того, чтобы навестить своего больного друга.
А он — он был счастлив, что любимую, наконец, начинают оценивать по заслугам. Радость за Алоизию скрасила последние дни Вольфганга в Маннгейме. Такова уж была его натура. В эти дни он много думал о будущем, и оно казалось ему не таким печальным, как настоящее. Их разлука будет короткой. Он поедет в Париж, быстро там прославится, а она, верная и терпеливая, будет ожидать его возвращения. Ее успехи будут постоянно напоминать о нем — ведь они достигнуты совместно, — и успехи эти облегчат ей тяжесть разлуки.
Итак, в Париж, в город, который пятнадцать лет назад восхищался Вольфгангом!
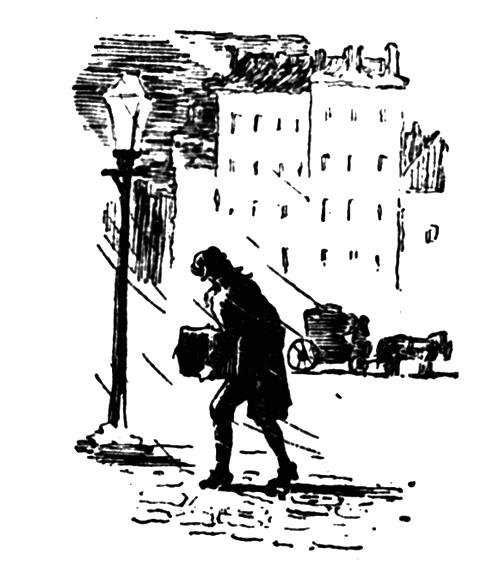
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ В антракте наш маэстро — лауреат всемирных фестивалей — рассказал про свою первую любовь.Жили они с матерью бедно, отец умер, пенсия была мизерной, стипендия в училище — восемнадцать рублей. И вот однажды мать решительно сказала:— Сынок, ты теперь уже
Первая любовь
Первая любовь Двадцать седьмого ноября 1815 года Пушкин записал в своем дневнике: «Жуковский дарит мне свои стихотворенья». Один из первых экземпляров только что вышедшего собрания своих стихотворений, первую их часть, Жуковский подарил Пушкину.Пушкин не расставался с
Первая любовь
Первая любовь Владимиру Ривлину У первой у любви Обычно краткий срок. Не надо «Се ля ви!» — В крови остался сок. И станет он бродить По венам голубым. И душу бередить Тому, кто был любим. О городе своём Забудь в другой стране… А помнишь, вы вдвоём Гуляли, как во сне. Как
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Леночка Берко нравилась не только мне. Однажды подходит ко мне незнакомый молодой человек, улыбается и говорит: "Вы меня не знаете, а я вас знаю. А знаете, почему я вас знаю? Потому что вы ходите с самой красивой девушкой из индустриального института. А я из
Первая любовь
Первая любовь Была поздняя осень, и в пустынном Александровском парке деревья стояли уже голые, черные, но было еще тепло, и я пришел на свидание без шинели.Она показалась в конце аллеи, длинной как жизнь, усыпанной мелкими желтыми листьями акаций.Она тоже была без пальто,
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 1Не в силах сдержать радостного возбуждения, я, как волчок, вертелся перед гимназистками на катке у Поганкиных палат. По утрам, едва проснувшись, я в отчаянии боролся с мучительным чувством неудовлетворенного желания. После четырнадцати лет оно не оставляло
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Как много написано об этом чувстве — поэтами, художниками, композиторами! Разумеется, была любовь и у юного Сёмы Маршака. Звали ее Лиля Горвиц. Племянница знаменитой балерины Иды Рубинштейн — любимой ученицы М. М. Фокина (специально для нее писали музыку
Первая любовь
Первая любовь Илья Ильич тяжело переносил свое одиночество в большом, шумном Петербурге. Единственным светлым пятном в этой трудной жизни была семья Бекетовых. Илья Ильич все чаще бывал у них. В доме Бекетовых были дети, с которыми Мечникову легче было находить общий
14. Первая Любовь
14. Первая Любовь Скромный, молчаливый, аккуратный, внимательный и при этом обладавший удивительным чувством юмора юноша очень понравился старику Винтелеру. Но не только ему. В Альберта влюбилась, и не без взаимности, дочь учителя Мари. Ей было 19, ему – 17. Спустя годы Мари
Первая любовь
Первая любовь В Лондон Винсент поехал через Париж, где посетил Лувр, осмотрел экспозиции Люксембургского дворца. Он ничего не упускал, днями напролёт изучая коллекции живописи и стараясь проникнуться атмосферой французской столицы, которая ещё несла на себе некоторые
Первая любовь
Первая любовь В первую пору своего восхищения Лемешевым я не расставался с его книгой «Путь к искусству». Это помогло мне в дальнейших сборах материалов для будущего музея С.Я. Лемешева. Иногда какой-нибудь незначительный факт из книги приводил к интересной встрече, к
Первая любовь
Первая любовь Десять серий «Тайн Нью-Йорка» Свою кинематографическую жизнь я начал в качестве оголтелого зрителя. Нас в Киеве была целая шайка оголтелых. Вместо того чтобы чинно сидеть за партами и смотреть, как Аполлинарий Леонтьевич обводит указкой границы
Первая любовь
Первая любовь Мы завидовали умению Сергея балансировать поставленной на кончик носа тросточкой.Это было удивительно! Самая обыкновенная тросточка, с которой Сергей постоянно разгуливал, держалась какой-то волшебной силой на самом кончике его носа, опровергая законы
Первая любовь
Первая любовь Это был настоящий бал в настоящем дворце, с прекрасным оркестром.Осенью 44-го нам, участникам армейской самодеятельности, посчастливилось выступать в оперном театре в одном из городов Белоруссии. Мы дали один-единственный концерт для высокого командования
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Он вошел в мою детскую комнату, одетый в коричневый бархатный костюмчик с белым крахмальным воротничком, белые чулочки и белые башмачки. Белая челочка и белое личико. В руках он держал коробку, которую протягивал мне. Он открывал розовый ротик колечком, но
Первая любовь
Первая любовь Первый раз Изольда влюбилась в десятом классе. У этой симпатичной девчушки-хохотушки с милыми ямочками на щеках всегда было много ухажеров. Конечно, это вызывало зависть подружек. И это при том, что в те времена девочки и мальчики учились отдельно друг от