10 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЕКРЕТОМ
10
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЕКРЕТОМ
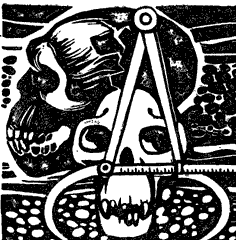
Время от 1859 до 1863 года было для Гексли переходным и вместе с тем вершинным. Оно было переходным в том смысле, что он вступил теперь на поле деятельности слишком обширной и разнообразной, чтобы ее можно было постоянно совмещать с напряженной и плодотворной научной работой. Оно было вершинным в том смысле, что пророк — по крайней мере, на известное время — обрел свою миссию, мастер пера выработал собственный, отличающий его почерк, трибун одержал самые значительные свои победы — и при всем том не пострадал ученый. По существу, он ухитрился в значительной степени объединить все стороны своей деятельности, исполнить все, что ему было назначено, в едином труде: «О месте человека в природе», который был одновременно превосходным литературным произведением, великолепным образцом пропаганды дарвинизма и, пожалуй, самым выдающимся из его научных достижений.
Весь 1861 год он одной рукой обрабатывал материал для своей книги, а другой вершил суд и расправу в полемике об эволюции. Он сделал в Эдинбурге два доклада о родстве человека с животными. У скептически настроенного Эдинбурга он сорвал аплодисменты. Эдинбург религиозный пренебрежительно держался в отдалении. Но когда слухи о необычайности происшедшего дошли и до него, внезапно огласил страницы газет визгом оскорбленного благочестия. Гексли в нерушимом спокойствии отозвался открытым письмом. Два его доклада, свежие и самобытные с научной точки зрения, увлекательные для обывателя, были впоследствии напечатаны в виде второй части «Места человека в природе».
Как широко овладел умами дарвинизм и как прочно живым олицетворением его сделался Гексли, показал триумф его лекций на тему «Что мы знаем о причинах явлений органической природы», прочитанных в 1862 году для рабочих. «Я никогда не видел такой внимательной, восприимчивой и благодарной аудитории… — писал Фредерик Гаррисон. — Нельзя было не поражаться этим волевым, осмысленным лицам. Стоило видеть эти головы: что за лбы, что за жадная любознательность во взгляде!»
Изданные отдельной брошюрой, эти лекции раскупались нарасхват. Нетрудно вообразить, какое они вызвали интеллектуальное потрясение. В доходчивых, живых словах они рисуют грандиозное, ощеломляюще сложное хитросплетение механических причин, недавно открытых наукой в мире живой материи; проводят связь между открытиями Кювье, Ляйелла и Дарвина — с одной стороны, и открытиями Майера[121], Дюбуа-Реймона[122], Гельмгольца и Пастера — с другой. С присущей ему виртуозностью Гексли въезжает в эту страну чудес — здесь трудно обойтись без каламбура — верхом на коне. Он разбирает анатомическое строение лошади, исследует ее как физиологический механизм, выявляет ее положение в группе позвоночных соответственно различным типам приспособления, прослеживает ход ее развития от зарождения до самой смерти. Он объясняет сущность жизненного цикла, включая фотосинтез растений и постоянное использование энергии Солнца. Четвертая и пятая лекции посвящены изложению дарвинизма, а шестая — его критике, которая здесь равнозначна защите.
В «Причинах явлений в органической природе» выступает Гексли уверенный, Гексли-догматик — как кое-где в письмах к Кингсли выступает Гексли сомневающийся, Гексли-агностик. Действительность слагается из энергии и материи, а все сущее, в том числе и человек, есть более или менее искусное их сочетание. Между органической и неорганической материей коренных различий нет. Мысль — не более как ток электричества по проводам нервов. Эти лекции, а также «Место человека в природе» дают достаточно ясное представление о том, как повлияло на Гексли «Происхождение видов». Дарвинова эволюция окончательно приобщила его к культу материи, усвоенному от Гельмгольца, озарив сумрачную эту веру лучом надежды, устремленным в даль тысячелетий. По-видимому, в будущем человек мог рассчитывать не только не безграничные научные познания, но и на безграничное биологическое совершенствование.
Лекции были приняты восторженно всеми, начиная от специалистов и кончая рабочими. Увидев дело рук своего верноподданного, остался доволен и Дарвин. «Мне досталось немало хулы, — писал он, — но и хвалы отпущено было в таком изобилии, что я сделался истым гурманом по части букета и свежести похвал и, честно говоря, не помышлял, что простому смертному по силам преподнести мне столь лакомое блюдо, какое создали Вы». Что же до самих лекций — «я прочел четвертую и пятую, — писал он Гексли. — Ничего лучшего просто нельзя придумать. Их следует распространять как можно шире — кстати, оцените великодушие этих слов, потому что четвертую я в сердцах отшвырнул, подумав про себя: „Какой смысл было писать толстенную, тяжеленную книжищу, когда в этой зеленой книжонке столь ничтожных размеров есть все?“» Лекции произвели на него такое впечатление, что он впервые усомнился, стоит ли Гексли посвящать свое будущее исследовательской работе. Пожалуй, лучше ему написать новый учебник по зоологии. Нужда в таком учебнике велика, польза от него была бы огромна. Гексли это предложение отклонил.
1862 год Гексли встретил полноправным профессором Хирургического колледжа: ученый, с которым они делили лекционный курс, ушел в отставку. Новый профессор очень быстро удостоверился, что читать двадцать четыре лекции куда легче, чем двенадцать, и договорился печатать из года в год краткое их содержание. Со временем труд этот составил его «Сравнительную анатомию».
Однако, хотя двадцать четыре лекции, как выяснилось, читать легче двенадцати, это отнюдь не означало поверхностного отношения к подготовке. У Гексли, говорит его коллега сэр Уильям Флауэр[123], было правило «не допускать в своих лекциях ни одного утверждения, не подкрепленного личными наблюдениями»; а так как позвоночные были для него материалом несколько новым, он приступил к ним, начав с приматов, и «по многу раз сам препарировал все формы, какие только разбирал». В немалой степени эта работа пригодилась ему при подготовке «Места человека в природе». Не всегда удается разом убить хотя бы двух зайцев, а Гексли бил их десятками и всегда без промаха. Измученный невралгическим ревматизмом, то и дело страдающий от головных болей и несварения желудка, он по свободным дням делал обмеры черепов, каждый вечер препарировал приматов, заседал в комиссиях, без конца читал лекции, готовил «Место человека в природе», пожирал в долгие бессонные предутренние часы книги по метафизике и философии, и его еще хватало на то, чтобы в неиссякаемом своем кипении писать Дарвину: «Эх, иметь бы две головы, и чтобы ни одной не требовалось сна!»
Проделывалось все это быстро, целенаправленно. Сэр Уильям Флауэр — он обычно помогал Гексли по вечерам — описывает его за работой:
«В препарировании, как и во всем прочем, он был стремителен, твердой и уверенной рукой прокладывал себе путь к намеченной цели, никогда не отвлекался, чтобы выяснить заодно побочные вопросы, никогда не тратил времени на подчистку в угоду внешней видимости — одним словом, полное отсутствие того, что называется „наведением лоска“. Очень выручал его при этой работе дар рисовальщика, точные, смелые наброски были большим подспорьем в ведении записей».
В большой войне, которая разразилась в 1859 году после выхода в свет «Происхождения видов», самые жаркие схватки завязывались вокруг проблемы человека. Эволюция означала низменность происхождения, а низменное происхождение превращало человека в презренного выскочку. Многих совсем не устраивало столь темное прошлое.
А между тем эта печальная истина неумолимо подтвердилась еще задолго до 1859 года. Уже в 1797 году, в кратком докладе на заседании Археологических обществ в Лондоне, Джон Фрер[124] сообщил, что нашел кремневые орудия в столь древних слоях, что деяние творца здесь решительно исключалось. Доклад встретили со скорбью и предали богопослушному забвению. В 1847 году, сделав историческую находку в Абвиле, Буше де Перт[125] опубликовал свои «Antiquites Celtiques»[126], в которых доказывал, что человек существовал в ледниковый период, то есть, в понятиях богословских, пасся купно с мастодонтом и носорогом. Книга де Перта была так объемиста, материал ее так обстоятелен, что не считаться с нею было нельзя. Ляйелл, Флауэр, Престуич[127] и другие съездили в Абвиль и вернулись убежденными.
В 1848 году на Гибралтарской скале был найден в высшей степени любопытный череп. Объем мозга чрезвычайно невелик, очень толстые черепные кости, лоб ужасающе низкий и покатый, над глазными впадинами — массивный валик. Гибралтарское научное общество сообщило, что найден просто «человеческий череп». В 1856 году подобный череп вместе со скелетом нашли в долине Неандерталь в Германии. Поблизости оказался палеонтолог по имени Шафгаузен, который принялся исследовать находку. Он заключил, что кости чрезвычайно древнего происхождения и принадлежат человеку, но более первобытному, чем представители любого из ныне существующих «дикарских» племен.
Вот какая цепь событий в антропологии тянулась к 1859 году, когда в мир нагрянуло «Происхождение видов». В последовавших сражениях из-за природы человека верховное командование в стане науки перешло от Ляйелла к Гексли. Как ни просветили Ляйелла новые воззрения, как ни твердо он решил подходить к проблеме человека лишь с этих новых позиций, а все-таки в критические минуты оказалось, что к нему опять вернулась его детская вера в бога. С течением времени становилось все более очевидно, что определять вмешательство свыше не по Моисееву летосчислению, а по геологическому совесть ему еще позволит, но никак не более того. В эволюции человека, казалось ему, естественный отбор — всего только второстепенное обстоятельство. Дарвин тут «ничего утешительного» ему предложить не мог; больше того, когда Ляйелла только начинали одолевать муки раскаяния, Дарвин, как ни в чем не бывало, подытожил для него данные эмбриологии: «Нашим предком был зверь, который дышал в воде, имел плавательный пузырь, большой хвост-плавник, неразвитый череп и был, несомненно, гермафродит!» Разумеется, свои богохульства Дарвин высказывал строго по секрету. В работах по биологии он по-прежнему не касался кощунственной темы.
Гексли не разделял ни Ляйелловых сомнений, ни уклончивости Дарвина. «Я не намерен останавливаться, — предупредил он Дарвина, — покуда нить ясных рассуждений ведет меня дальше». По счастливому совпадению борьба за истину означала борьбу против Оуэна, и в том же году на заседании Британской ассоциации в Оксфорде Гексли принес прославленного анатома в жертву дарвинизму.
В феврале 1862 года он начал очередной цикл лекций «О положении человека в ряду органических существ»; лекции шли с большим успехом. «К той пятнице каждый из них вполне проникнется сознанием того, что он обезьяна», — писал Гексли жене. Эти лекции, напечатанные в «Записках по естественной истории», возродили Оуэна к жизни и к новой полемике, и на заседании Британской ассоциации в 1862 году он всеми правдами и неправдами пытался дать отпор противнику. Однако сладкий яд его улыбки уже не таил в себе грозной опасности: все слишком хорошо понимали, что за нею кроется. Гексли одержал полную победу и только выиграл от бешеных наскоков врага. В завершение побоища сэр Уильям Флауэр добил Оуэна окончательно и погреб под многочисленными и неопровержимыми доводами в пользу дарвиновских позиций. К 1863 году, когда появилось «Место человека в природе», Оуэн успел стать чем-то вроде исторической достопримечательности.
Эта книга родилась как естественный плод полемики. Она была торжеством разума, но еще больше — торжеством отваги; вкладом в дело научной истины, но еще большим вкладом в дело научной свободы. Неверно было бы утверждать, что никому, кроме него, эта тема не приходила в голову, просто он сказал то, что никто, кроме него, сказать не отважился. И сказал с такой силой убеждения, что покорил многих людей, которые вообще едва ли над чем-нибудь задумывались. Его вновь и вновь увещевали не рисковать своей карьерой, не связываться с таким богословским пугалом, как эти злополучные скелеты и черепа, но события показали, что он был тысячу раз прав. Люди давно ждали, чтобы наука уверенно и внятно сказала свое веское слово.
Только не надо делать вывод, будто его книга была смелым жестом, и не более того. Гексли первым использовал данные эмбриологии, палеонтологии и сравнительной анатомии — наук, которыми специально занимался, — чтобы установить происхождение человека от человекообразных обезьян. Он объединил все имеющиеся материалы, подобрал соответствующие критерии, в том числе сформулированные им самим, и воплотил свою работу в биологическом трактате, по совершенству стиля и силе доказательств равном, как считает сэр Артур Кизс[128], лишь исследованию Гарвея «О движении сердца и крови».
Издание 1863 года состояло из трех частей. Первая часть «Место человека в природе» — это история изучения высших обезьян, начиная от Пигафетты[129] и Пуркаса[130]. Повсюду Гексли выделяет черты, роднящие их с человеком.
Вторая часть рассматривает данные эмбриологии и сравнительной анатомии. Здесь Гексли стремится показать на ряде примеров, что между человеком и остальной природой нет никакой пропасти. По эмбриологическому развитию человек гораздо ближе к обезьяне, чем обезьяна к собаке. По размерам черепа и скелета у него больше сходства — с гориллой, чем у гориллы с гиббоном. Своими достижениями в области морали и культуры человек, как считает Гексли, обязан не весу своего мозга, а в первую очередь членораздельной речи. Общность многих его инстинктов с инстинктами низших животных не принижает его, а возвышает, ибо он развил один из этих инстинктов и обуздал другие. Самое яркое место в этой части — поэтически выраженная мысль о единстве всего живого, с одной стороны, и величии человеческого развития — с другой.
«Сравнивая цивилизованного человека с животным миром, уподобляешься путешественнику в Альпах, который видит, как возносятся к небу горы, и с трудом различает, где кончаются мрачные утесы и сияющие вершины и начинаются небесные облака. Конечно же, мы простим очарованному путнику, если он не вдруг поверит словам геолога о том, что эти могучие громады, в конце концов, не что иное, как затвердевший ил первобытных морей или застывшие шлаки подземных горнов — такое же вещество, как самая обыденная глина, только поднятое внутренними силами до сих гордых и на первый взгляд недосягаемых высот».
В третьей части приводятся данные палеонтологии. Дошли ли до нас какие-нибудь окаменелые останки, дающие представление о переходе от высших обезьян к человеку? Гексли в подробностях разбирает недавно найденные черепа — энгисский и неандертальский. Он осторожен в своих выводах. Черепа эти — в особенности неандертальский, — несомненно, принадлежат человеку, но более подобны обезьяньим, чем черепа любой из рас, живущих в наши дни. В связи с человеческими расами доисторических времен встает вопрос о современных расах. По-прежнему ограничиваясь лишь типами черепов, пользуясь точным геометрическим, им самим разработанным способом обмера, Гексли выделяет среди большого количества разновидностей два полярно противоположных типа: во-первых, прямочелюстной, короткоголовый, и во-вторых, «прогнатный», то есть с выступающими челюстями, длинноголовый; они противостоят друг другу и по географическому распространению:
«Проведите на глобусе черту от Золотого берега в Западной Африке до татарских степей. У юго-западного конца этой черты живут самые длинноголовые люди на земле, с сильно выступающими челюстями, самые курчавые и темнокожие, — настоящие негры. У северовосточного конца той же черты живут самые короткоголовые, прямоволосые и желтокожие из людей, с самым прямым профилем, — татары и калмыки. Две крайние точки нашей воображаемой черты есть, так сказать, настоящие этнографические антиподы. Линия, проведенная под прямым — или приблизительно прямым — углом к этой черте полярности через Европу и Южную Азию к Индостану, даст нам нечто вроде экватора, вокруг которого группируются расы круглоголовых, овальноголовых, длинноголовых, люди с выступающими и прямыми челюстями, люди светлые и темные — но никто из них не обладает столь резко выраженными признаками, как калмыки или негры».[131]
Сказанное совсем не означает, что какая-то одна из этих противоположностей непременно стоит на более низкой ступени эволюции, чем другая. У негра челюсти больше напоминают обезьяньи, чем у калмыка, зато у него гораздо длиннее черепная коробка. Если уж на то пошло, самый низший, то есть наиболее обезьяноподобный, тип мы находим у коренных жителей Австралии, чьи черепа удивительно похожи на череп неандертальца[132].
Изыскания Гексли по части сходства в строении человека и обезьяны подвигли его знакомца Чарлза Кингсли на несколько неожиданные заключения. Примерно в то же время, когда вышло первое издание «Места человека», каноник писал своему другу Фредерику Морису:
«Если Вы не поверите в мое новое великое учение… по которому душа вырабатывает тело, как моллюск вырабатывает себе раковину, Вы останетесь во тьме за вратами истины… Мне ведомо, что у обезьяны мозг и глотка почти такие же, как у человека, — и что это доказывает? Что обезьяна — простофиля и тупица, орудия у нее немногим хуже человеческих, а обращаться она с ними не умеет, тогда как человек с орудиями немногим лучше обезьяньих способен творить чудеса».
Гексли как-то не слишком возрадовался, когда ему стали навязывать «великое новое учение» как нечто вытекающее из его книги. Сам он воспринимал ее как акт вивисекции, отторжения души от человека с тем, чтобы подвергнуть остаток — приматов — научному исследованию.
На долю «Места человека в природе», вопреки всем страхам друзей Гексли выпало ровно столько поношений, чтобы автор почувствовал себя неким гением бесстрашия. Церковники уже к 1863 году поунялись. Церковники набожно уповали на лучшие времена. У них даже прорезалось чувство юмора. «Атеней», например, в отклике на «Место человека в природе» и «Древность человека» тонко заметил, что Ляйелл вознамерился состарить человека, а Гексли — «понизить его в звании». «Если верить Ляйеллу, человек жил на земле уже сто тысяч лет назад; если верить Гексли, сто тысяч обезьян доводятся человеку предками». И не без колкой снисходительности к Гексли автор статьи подводит черту: «Получается, стало быть, что между Оуэном и Гексли разница есть, а между человеком и обезьяной — никакой».
На автора статьи в «Атенее», как, впрочем, и на всех других, произвела впечатление одна черта «Места человека» — его малый объем. «Древность человека» пережевывает свои добросовестные неопределенности на пятистах страницах. «Место» — менее чем на двухстах утверждает чеканный, широкий принцип. Гексли огорошил викторианский мир уроком краткости, опережающей свой век.
Сердца дарвинистов наполнились гордостью, их уста — хвалебными речами. Гукер нашел книгу «умнейшей»; Ляйелл, как всегда, горячий и чуждый своекорыстию, считал, что, будь она чуточку длинней, получился бы настоящий шедевр.
«Дайте ему досуг, который есть у нас с Вами, — писал он Дарвину, — прибавьте к этому всю мощь и логику его лекций, его обращения к Геологическому обществу и полдесятка последних его работ (письма о теории Дарвина в «Таймс» и т. д.), да объедините все это в одну книгу — какое бы место он занял!»
Дарвин тоже жалел, что книга маловата. Отчего было не сказать несколько слов о ложных ребрах, о межчелюстной кости, о мышцах уха, о повадках молодых орангутангов в зоопарках Европы… Но все равно он не мог налюбоваться, нахвалиться этой работой. Страницы 109–112 по совершенству и сжатости не уступают любому месту из Бекона, а «что за восхитительная шпилька» (по адресу Оуэна, естественно) на странице 106! Да и как было не хвалить автора, который так успешно выигрывает за тебя бой, так превосходно толкует твое учение, так поэтически объявляет его основой цивилизации и движущей силой прогресса?
«Место человека в природе» особенно порадовало Дарвина еще и потому, что «Древность человека» принесла ему горькое разочарование. История дружбы Ляйелла с Дарвином — это мирная и не очень простая повесть о мастере, который на старости лет едва не угодил в подмастерья. Это длительное и глухое столкновение Зораба и Рустама[133], в котором совсем не было ожесточения, было много великодушия, доля отчуждения, налет грусти и под конец — некое подобие смерти. Нам, тоже стоящим на перепутье, все-таки трудно понять, отчего, разрываясь меж старым и новым миром, викторианцы, подобные Ляйеллу, с отчаянным упорством цеплялись за любой самый шаткий компромисс. Частично трагедия, конечно, состояла еще и в том, что Дарвин был стольким обязан Ляйеллу.
С середины 40-х годов, то есть со времени знакомства с находками Буше де Перта в Абвиле, Ляйелл убедился, что человек несравненно старше, чем он — или пророк Моисей — мог подумать. Прочитав в 1859 году «Происхождение видов», он решился сказать об этом открыто.
Дарвина, который, стоя на вершине эволюционной гипотезы, вполне свыкся с этим взглядом, на первых порах обнадежила и слегка встревожила такая неустрашимость его друга. «Какова ирония, — писал он Гукеру, — не он ли постоянно увещевал меня обходить стороной проблему человека!» Дарвин давно установил, что, сделав хотя бы шаг навстречу его учению, люди, как правило, со временем идут дальше, а кто уже пошел дальше, со временем перейдет в его веру. Ляйелл успел пройти немалый путь и в волнующие дни вслед за выходом в свет «Происхождения», казалось, стоял уже на самом пороге эволюции. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что означает переход в новую веру.
«Я… совершенно готов безоговорочно принять Ваши толкования фактов, — писал он Дарвину в 1859 году, — …и уже давно с полной ясностью вижу, что малейшая уступка повлечет за собой все, что Вы предсказываете на заключительных страницах.
Это и заставило меня столько времени пребывать в нерешительности, с постоянным ощущением того, что и человек со всеми его расами, и прочие животные, и растения едины, и если хотя бы на миг признать какую-то причину, будь то vera causa[134] или иная, совсем неведомая, вымышленная причина — назовем ее хотя бы словом „творение“, — все последствия неминуемы».
Однако, полагаясь на свой разум, он забыл принять и расчет свое сердце. В отличие от Дарвина он не принадлежал к тем людям, чья умственная и духовная жизнь всецело подчинена единой идее. Его постоянные геологические поездки были в то же время и просто по-человечески приятными путешествиями. Он жил геологией мелового, или оолитического, периода не больше, чем политическими и культурными событиями собственного века. К религиозным воззрениям своих дней он относился с гораздо более живым и сочувственным интересом, чем Дарвин или Гексли, и религия для него значила много.
«Каюсь, — писал он Гексли, — что в своих рассуждениях о трансмутации я опередил и чувства свои, и воображение. Но именно по этой причине я приведу к Дарвину и к Вам больше сторонников, чем любой иной, кто, подобно Леббоку, родился позже и должен был отказаться от сравнительно немногих старых, взлелеянных за долгое время представлений. В них для меня в молодые годы таилась главная прелесть теоретической стороны науки, когда я еще верил вслед за Паскалем в теорию „падшего ангела“, как ее именует Холлэм»[135].
И вот, пройдя немалый путь, он, к невыразимому огорчению Дарвина, начал шаг за шагом отступать назад. Чем больше он размышлял об эволюции, тем привлекательней ему казалась мысль о вмешательстве свыше. «У меня такое чувство, что Дарвин и Гексли слишком обожествляют второстепенные причины, — писал он Гукеру. — Они полагают, будто изменчивость и естественный отбор позволили им проникнуть в область „непознаваемого“ глубже, чем это есть на самом деле». Кроме того, Ляйелл питал необъяснимое пристрастие к Ламарку и считал, что Дарвин лишь видоизменил его учение. «Согласен заглянуть в Ламарка еще раз, — обещал ему Гексли, — но сомневаюсь, чтобы оценка моя от этого изменилась к лучшему». И вполне справедливо продолжал:
«Мысль об общности происхождения принадлежит не ему — и уж тем более мысль об изменениях путем вариаций… Дарвин прав относительно естественного отбора — открытие этой vera causa ставит его, я считаю, неизмеримо выше всех его предшественников, — и называть его учение разновидностью учения Ламарка было бы, по-моему, все равно что называть Ньютонову теорию небесной механики разновидностью системы Птолемея».
Однако Ляйелл такой кристальной ясностью видения не обладал. Был на исходе 1860 год, а он упрямо и недоверчиво размышлял над такими пустяковыми причудами эволюции, как грызуны из Австралии и мыши с Галапагосских островов[136].
И все же Дарвин не терял надежды.
«Я получил длинное письмо от Ляйелла, — писал он Гукеру, — который изобретательно изыскивает всяческие трудности… Это хороший знак: стало быть, он как следует овладел предметом и взялся за дело всерьез. И вообще замечательное письмо, оно порадовало меня до глубины души».
Но время шло, а эти мыши и грызуны никак не исчезали. Откровенно говоря, это были мыши и грызуны от богословия. Религиозные чувства Ляйелла, не на шутку растревоженные и взбаламученные, грозили проглотить его униформизм. Дарвин писал:
«Прискорбно читать, как Вы намекаете на сотворение „четко различимых последовательных типов, а также известного количества столь же четко различимых исконных типов“. Помните: если Вы допускаете это, Вы отвергаете доводы эмбриологии (для меня наиболее веские из всех), а также доводы морфологические и гомологические. Вы режете меня без ножа, да и себя Вы режете — думаю, что Вы еще о том пожалеете. На этом покончим с видами».
Несмотря на расхождение во взглядах, переписка между Ляйеллом и Дарвином за эти годы полна необыкновенного очарования. Бодро рыщут по сумрачным лесам метафизики собака динго и ящерица амблиринхус. Обсуждение «беременности у охотничьих собак» и «приспособляемости дятлов» соседствует с дискуссиями о «предопределенности судьбы, свободе воли, абсолютном предвидении». К сожалению, многие из писем Ляйелла утеряны. Историю еретика приходится восстанавливать по ответам святого. «Я склонен не соглашаться, что динозавры лишены свободы воли, какой, бесспорно, обладаем мы», — писал Дарвин.
Как всегда, когда речь шла о судьбе его заветной идеи, он обнаруживал бесконечную терпеливость и находчивость:
«Еще два слова насчет обожествления естественного отбора: то, что ему придается такое большое значение, никак не исключает законов еще более всеобщего характера, то есть таких, которые повелевают всем миром. Я говорил, что естественный отбор играет по отношению к строению организма ту же роль, что архитектор по отношению к зданию. Само существование такого человека, как архитектор, свидетельствует о наличии более всеобщих законов; однако, отдавая должное архитектору за постройку здания, никто и не вспомнит о законах, которые привели к возникновению человека».
И еще в том же письме:
«Я не могу поверить, что в образовании видов Создатель принимал хоть на йоту больше участия, чем в установлении орбиты планет. Только по милости Пейли и ему подобных, я думаю, стало принято считать, будто живые существа непременно должны пользоваться особым вниманием с его стороны».
Несмотря на отдельные разочарования, Дарвин продолжал питать надежды на лучшее, пока не прочел рукопись Ляйелла собственными глазами. В июле 1860 года он еще писал о Ляйелле Грею: «Принимая во внимание его возраст, прежние его взгляды и положение в обществе, я нахожу его поведение в этом вопросе героическим». Еще 26 сентября он полагал, что Ляйелл, «быть может, сам того не сознавая, за последние полгода во многом перешел на новые позиции». После он уже ни о каких новых позициях не говорил, но по-прежнему оставался великодушен. Прочитав куски неоконченной рукописи, он горячо отзывался о точности в части геологии, о замечательном обилии фактов. «Что за славную древнюю родословную Вы подарили роду человеческому!» — восклицает он, и дальше опять характерное восклицание: «P. S. Какой отменный пример — этот рог вымершего оленя, обработанный человеком!»
«Древность человека», как и «Место человека в природе», вышла в свет в январе 1863 года. В книгу Ляйелла было вложено гораздо больше труда, имя его было пока что гораздо более известным, но время его обогнало. Он по-прежнему не решался переступить черту, проведенную папой Александром VI поперек мира, по-прежнему вел дипломатическую игру с недомолвками и соблюдениями приличий. Больше того, предусмотрительная туманность его выражений уже просочилась и в его воззрения. «Древность человека» начинается как геологический трактат, а кончается как опыт умеренного богослова. Ляйелл оказался не в силах прийти к твердым взглядам в вопросах эволюции, естественного отбора, происхождения человека, степени и характере вмешательства свыше. Потому, как замечает Дарвин, книга его была обречена на то, чтобы остаться «компиляцией».
«Однако, — оговаривается Дарвин, — компиляцией самого высокого класса». В ней содержится скрупулезный разбор личных наблюдений в Энгисе, Неандертале, Натчезе и других местах, а также анализ геологических слоев, в которых там были сделаны находки. В ней подробно прослеживается полемика между Гексли и Оуэном из-за так называемой «птичьей шпоры» и тактично выносится приговор в пользу Гексли. В ней есть главы, посвященные ледниковому периоду, которые, по мнению Дарвина, «местами просто прекрасны». До сих пор здесь все основательно, последовательно, исполнено уверенной силы профессиональных знаний. Но вот Ляйелл переходит к рассмотрению видов, и отсюда начинается та бесконечная нерешимость, из-за которой «Древность человека» столь интересна как человеческий документ и столь незначительна как научный трактат. «Он проявляет большое искусство в умении находить самые выразительные доводы в пользу изменчивости видов, — говорит Дарвин, — и тем не менее одно из наиболее сильных его высказываний подобного рода начинается так: „Если когда-нибудь будет с высокой степенью достоверности установлено, что виды развиваются путем изменчивости и естественного отбора…“». Применение им дарвиновских принципов к развитию языка отличается тщательностью и строгостью, выдавая глубокие познания в области эволюционной теории и глубокое невежество в лингвистике, но завершается глава — возможно, в ответ на сугубое внимание Гексли к человеческой речи в его «Месте человека» — разбором мудрого изречения Гумбольдта: «Человек является человеком лишь благодаря речи, но чтобы придумать речь, он должен быть уже человеком».
Рассуждения Гумбольдта о человеке служат уместным введением к последней главе, посвященной классификации человека — коренной проблеме книги Ляйелла, которая занимает центральное место и в книге Гексли. Гексли удается прийти к определенному решению главным образом потому, что он умеет, пусть хотя бы на время, отрешиться от того, что в человеке есть духовное начало. Ляйеллу же прийти ни к какому решению не удается, ибо он о духовном начале не забывает ни на секунду. Классифицировать человека как обезьяну, быть может, поучительно, однако Ляйелл не желает воспользоваться даже поучительным методом, если он предполагает пусть временное, пусть условное, но все-таки отрицание того, что человек создан по образу и подобию божьему. Он начинает с разбора биологических классификаций, особо выделяя «нематериальное начало», которое, хоть и «прослеживается до отдаленного прошлого органического мира», делает большой скачок при переходе к человеку. Потом он перефразирует Карлейля, повторяет архиепископа Кентерберийского и заканчивает картинкой «все возрастающего владычества духа над материей», написанной почти в манере Теннисона.
«В воскресенье вечером сюда приезжают Ляйеллы и пробудут до среды, — писал Гукеру Дарвин. — Страшусь этого заранее, и все-таки должен буду поставить его в известность о том, как он меня разочаровал, не высказавшись по вопросу о видах и тем более о человеке. И что самое смешное, он-то думает, будто вел себя с мужеством великомученика былых времен».
На самом деле Дарвину было совсем не смешно. Примерно неделю спустя он высказался Ляйеллу о «Древности человека» начистоту. «Вы… напускаете туману и вводите читателя в заблуждение». Он жалуется на такие обороты, как «мистер Д. тщится показать…» или «по мнению автора, это якобы проливает свет…», которые едва ли не хуже, чем прямое несогласие. Обидней всего, что естественный отбор упорно изображается Ляйеллом как перепев воззрений Ламарка. Дарвин с нарастающим раздражением протестует против того, чтобы идеи его и Уоллеса связывали с «никудышной», по его мнению, книжкой, из которой он лично «не почерпнул ничего».
Написав это, Дарвин тут же пожалел о своей откровенности, однако Ляйелл отозвался «добрым и обворожительно искренним письмом», и переписка их быстро обрела прежнюю сердечность. В скором времени Дарвин уже делился с ним мнениями о взглядах герцога Аргайльского на половой отбор и благодарил за прекрасный совет насчет сносок к главе о собаках в его новой книге. Но теперь, пожалуй, кое-что изменилось. «Есть всего два отважных человека, — писал он Гексли, — Вы да еще Гукер».
И между тем из старых друзей Дарвина только Ляйелл, кажется, обманул его надежды. Остальные почти поголовно отреклись от прежних колебаний. Гукер и Гексли прозрели очень рано, и свет истины сразу снопами брызнул им в глаза. Джордж Бентам, не принадлежавший к числу близких друзей Дарвина, был так потрясен знаменитым докладом о работах Дарвина и Уоллеса, что забрал назад собственную рукопись об устойчивости видов, которую намечалось зачитать тогда же. «Происхождение» произвело полный переворот в его взглядах. Генсло, тот самый профессор ботаники, за которым Дарвин ходил по пятам в Кембридже, а ныне тесть Гукера, встретил «Происхождение видов» непроницаемым молчанием, настороженно и беспристрастно председательствовал во время знаменитой расправы Гексли над епископом Оксфордским, незаметно перешел к сдержанной защите новой ереси и на исходе своих дней, медленно и безропотно угасая, все с той же осмотрительностью и чувством меры отошел от своих прежних ортодоксальных взглядов.
Но больше всех новообращенных порадовал Дарвина глыбоподобный, бивнезубый, зычноголосый Хью Фоконер, который в своё время рычал, что Дарвин своей чертовой эволюцией совращает с пути истинного Ляйелла и Гукера. Когда «Происхождение» вышло в свет, у Фоконера был самый разгар «всесторонних», полных приключений исследований созвучной его особе проблемы слонов, живых и вымерших. «Всю Швейцарию, — сообщал Ляйелл, — облетела весть о том, как Фоконер подбросил шляпу до самого потолка при виде бесподобных останков ископаемого „mastodon angustidens“ из Винтертура». К радости и удивлению Дарвина, он примерно то же проделал со своей шляпой, прочитав «Происхождение видов». И немедленно прислал на отзыв свою рукопись о слонах.
«При всех моих недостатках я испытываю к Вам такое неподдельное уважение, так к Вам расположен и покорен Вашей работой, что мне было бы огорчительно, если бы откровенное изложение моих взглядов вызвало у Вас какие-то возражения».
«В Вашей статье нет ни одного слова, против которого я мог бы хоть что-либо возразить», — ликовал Дарвин. А ведь Фоконер прежде так твердо придерживался устоявшихся взглядов!
Последовала веселая и дружественная переписка о слонах. Когда Оуэн хитрым маневром украл у Фоконера право дать название вымершему американскому слону, Дарвин не спал до трех часов ночи, клокоча от возмущения. Возвратившись в Англию после одного из своих палеонтологических набегов на континент, Фоконер с торжеством объявил:
«Я… привез с собой живого протея, предназначенного для Вас с той самой минуты, как он попал ко мне в руки… Бедная крошка еще дышит — хотя уже месяц не получает почти никакой пищи, — и я жду не дождусь, когда смогу избавиться от тягостной повинности морить ее голодом. У Вас ее ждет благоденствие и реальная возможность без промедлений развиться в какого-нибудь голубка — скажем, дутыша или турмана».
Знаки расположения слоноподобного доброжелателя способны иной раз привести человека в легкое замешательство. Дарвин рассыпался в благодарностях, сослался на отсутствие в доме аквариума и спешно предложил подарить бедную крошку Зоологическому обществу. Спустя немного времени Фоконер, воздев бивни и хобот и сотрясая воздух устрашающим ревом, ринулся на страницы печати, обвиняя Ляйелла в том, что тот в «Древности человека» присвоил лучшие из обнаруженных им костей. «Как не совестно обращаться подобным образом с почтенным ветераном науки», — писал Гукеру Дарвин; однако своей слабости к Фоконеру он так и не превозмог.
К 1863 году Дарвин сумел внушить доверие к эволюции всей европейской науке. «Дарвин побеждает всюду, — писал Морису Кингсли, — он нахлынул как наводнение, сметая любые преграды одной лишь силой фактов и достоверности». Дарвин мог торжествовать вдвойне: он не только выиграл битву, но и точно предсказал ход ее от начала до конца. Старшее поколение пребывало в нерешительности и разброде, но те, кто «был поколеблен хоть самую малость», со временем дрогнули не на шутку. Даже самые недоверчивые и знаменитые довольно быстро перестали придираться. Отец эмбриологии Бэр, который всю жизнь просидел над микроскопом, созерцая самые наглядные доказательства эволюции, проявил к новому учению сдержанный, но уважительный интерес, о чем и написал по-французски. Замечательный ботаник Декандоль, ссылками на которого пестрит «Происхождение» и который исследовал те же проблемы, что и Ламарк, объявил себя почти безоговорочным сторонником дарвинизма. Браун, видный и сведущий компилятор, вызвался руководить переводом книги на немецкий.
Но самым дорогим подарком — а также наилучшим подтверждением верности его прогнозов — была для Дарвина горячая поддержка со стороны молодого поколения. Юный друг Уоллеса Г. У. Бэтс блестяще объяснил в свете естественного отбора явления мимикрии[137]. По настоянию Дарвина он же выпустил в 1863 году свое прелестное «Путешествие по реке Амазонке», ставшее классическим образцом литературы о научных путешествиях. «В описании тропических лесов он не уступит никому, кроме Гумбольдта», — гордо заявил Дарвин.
В 1864 году с резкой критикой «Происхождения» выступили два крупных ученых. Одним из них был Р. А. Кёлликер[138], известный своими мастерскими работами по микроскопии, другой — П. Ж. М. Флуранс[139], автор незаурядных трудов по физиологии нервной системы и к тому же — Непременный секретарь Французской академии наук, донельзя этим последним обстоятельством упоенный. Гексли, которому было в ту пору очень недосуг, разделался с ними обоими одной статьей, сокрушив Кёлликера тяжестью его же сухих и четких, но превратных толкований Дарвина, и как козявку раздавил Флуранса кирпичом его же чиновного самодовольства:
«Однако Непременный секретарь Французской академии наук обходится с мистером Дарвином как Наполеон Бонапарт с каким-нибудь „id?ologue“[140] и, обнаруживая прискорбную немощность логики и убожество познаний, принимает, несмотря на это, непререкаемый тон, повсюду достаточно смехотворный, а временами прямо-таки выходящий за рамки приличий».
И после уничтожающей иллюстрации своих слов добивает Флуранса окончательно: «Ну а мы, англичане, такою благодатью, как Академия наук, обделены и потому не привыкли, чтобы с самыми талантливыми нашими людьми обходились этаким манером хотя бы сами Непременные секретари».
Дарвин захлебывался от удовольствия: «Дайте мне излить мой восторг… иначе я просто лопну».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Нижне-Амурская геологическая экспедиция
Нижне-Амурская геологическая экспедиция Проезжая на низкорослой бурятской лошадке по пологим увалам, где вольготно расположился Хабаровск, Иван мысленно призывал себя к терпению. Кончается июнь, две недели он торчит в этом городе,[92] теряя драгоценное время, хотя уже 28
Глава 13 Деревянная шкатулка
Глава 13 Деревянная шкатулка После поездки в Москву и Баку мой брат почувствовал еще большую страсть к путешествиям и как-то вернулся из Парижа, куда ездил один, с целой кипой фотографий Пеппи. Кто такая Пеппи? Пеппи была гувернанткой Рут в Чернови-цах, ее наняли, чтобы
Портсигар с секретом
Портсигар с секретом С этим же периодом связан постепенный отказ Брежнева от курения по настоятельному требованию врачей. А курил он в основном один сорт сигарет — «Новость», который специально выпускала для него табачная фабрика. Он часто пробовал и другие сорта, в том
Шкатулка с пряностями
Шкатулка с пряностями Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса (если это его настоящая фамилия). Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «жизнь», они промелькнули мимо и остались позади. Но их история
Глава 44. Концлагерь с «человеческим лицом»
Глава 44. Концлагерь с «человеческим лицом» Когда радио объявило о начале войны между Израилем и Египтом, то я сразу подумал, что Москва выступит на стороне Египта, а США — на стороне Израиля и начнется мировая война. С этой вестью я направился кМуравьеву, но заглянув в
Глава пятая ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ШКАТУЛКА
Глава пятая ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ШКАТУЛКА Конечно, все люди умирают, но когда придет моя очередь, я скажу: нет уж, спасибочки! Рей Брэдбери 1В мае 1954 года Рей Брэдбери вернулся в Лос-Анджелес.На все предложения, поступавшие из Голливуда, он теперь отвечал отказами.Опыт совместной
Глава 10 Русская геологическая школа
Глава 10 Русская геологическая школа Работа, проделанная Геологическим комитетом, так велика, что, обозревая ее, забываешь о смехотворном, анекдотически крохотном штате его сотрудников и мизерном годовом бюджете в 30 тысяч рублей. Деятельности Геолкома посвящены солидные
Желтое издание с человеческим лицом
Желтое издание с человеческим лицом Среди немногих раритетов в моей библиотеке хранится небольшая брошюра, вот ее данные:И. Голомшток, А. Синявский. Пикассо. Москва: Издательство «Знание» Всесоюзного Общества по Распространению Политических и Научных Знаний, 1960. Цена 1 р.
Часовые механизмы с секретом
Часовые механизмы с секретом Театр, который находит Буратино, заводной, с башенками. Герои заводят часы на одной из башен, и начинается представление, напоминающее парад фигурок в старинных часах или уличных шарманках; оно инсценирует детские стихи Маршака и Чуковского:
Письмо двадцать первое: МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
Письмо двадцать первое: МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА О своем "непоступлении" в музыкальную школу я тебе уже писал. Теперь, конечно, жалею: хотя бы ноты выучил. Пробовал сделать уже позднее, в уральских лагерях — не получилось, омертвевшие значки-кругляши на полосках нотоносцев
Манипуляция человеческим сознанием
Манипуляция человеческим сознанием Это сложный трюк, ловкая проделка Страна вступает в девяностые годы и в полосу, перегруженную противоречиями и опасностями, надвигается разрушительный ураган, партия коммунистов принимает меры предосторожности.Желание врагов
Манипуляция человеческим сознанием
Манипуляция человеческим сознанием Это сложный трюк, ловкая проделка Страна вступает в девяностые годы и в полосу, перегруженную противоречиями и опасностями, надвигается разрушительный ураган, партия коммунистов принимает меры предосторожности.Желание врагов
Глава 11 Шкатулка
Глава 11 Шкатулка — И-и, милый! — ответила Анна Михайловна, когда Сергей спросил, существует ли еще жмаевская мельница. — Давно снесли кособокую. На том месте баню построили. — И подумав, добавила: — А шмаринские хоромы целехоньки. Сходи, погляди. Чать, любопытно.А почему
ПОЗОЛОЧЕННАЯ ШКАТУЛКА
ПОЗОЛОЧЕННАЯ ШКАТУЛКА Александринский театр, более чем какой-либо другой русский театр, подвергался непреоборимому и тлетворному воздействию близости к придворным и бюрократическому аппарату.Классический ансамбль театральных зданий, созданных Карлом Росси, с его