Голубой зал Кремля
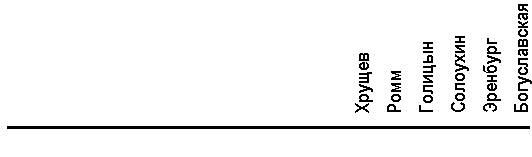
Голубой зал Кремля
Черный ящик моей памяти захрипел, разразился непотребной бранью, заплевался. Из него выскочил злобный целлулоидный болванчик. Замахал кулачками.
Ах, если бы все это осталось виртуальной реальностью…
Но Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь парадными костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции. Было человек шестьсот. Шло 7 марта.
Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума, почти впритык и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев… Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.
Я впервые был в Кремле. Как родители радовались — меня в Кремль позвали! На двух предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В. Некрасовым и К. Паустовским были по приглашению во Франции, я там еще остался для выступлений. Все было впервые тогда: стотысячные заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного вешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках, — все было впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым. Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официозной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — в «Известиях», которую редактировал яркий и всесильный зять Хрущева, появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В. Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, и подвал Ермилова против Эренбурга.
В той же газете появилось открытое письмо главного редактора, обличающее мои стихи в «Юности». Думаю, что игрок Аджубей просто не мог поступить иначе.
К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманывают и что ему можно все объяснить. Он оставался нашей надеждой. В первый вечер заседания Хрущев был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М. И. Ромма, однако обаяние Чухрая смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предрешено. В первый день нападали на Эренбурга, и все чаще, как по сценарию, стали упоминаться имена мое и Аксенова. Ванда Василевская заявила, что в Польше не могут построить социализм из-за того, что мы с Васей им мешаем.
Запомнился писатель, стоявший на трибуне вполоборота, обращавшийся больше к сидящему сзади Хрущеву, отводя спину вбок, как собака вежливо отводит зад и оглядывается, когда бежит впереди хозяина. Особенно усердствовал против меня А. Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши… околачивать, согласно соленой присказке. А. Прокофьев обличал мою непартийность: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!» Эти вопли заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет.
Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически.
Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуменом эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хэппенингов.
Хрущев восхищает меня как стилист.
И когда глава Державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон. Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет.
Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. «Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!»
Вот как описывал со стороны нашу беседу М. Ромм:
«Два выступления были ключевых… Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше… и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т. д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал…
…Во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, закричал:
— А вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке!..
Вознесенский читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет…
Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:
— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего!.. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.
Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню… Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово описал в „Войне и мире“, когда Ростопчин призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать».
Действительно, поводом для скандала была процитированная В. Василевской моя фраза: «Гениального Пастернака я считаю современником Лермонтова».
Услышав поток брани за спиной — «Господин Вознесенский, вон из страны!» — я не понял, кто это заорал. Не Хрущев же! Повторяю, я, как и все мои друзья, тогда еще идеализировал Хрущева. Когда же зал, главным образом номенклатурный, с вкраплениями интеллигенции, зааплодировал этому реву, заскандировал: «Позор! Вон из страны!» (по отношению ко мне, конечно), — я счел зал своим главным врагом и надеялся побороть его по стадионной привычке. Не тут-то было! Я продолжал бубнить по тексту. И вдруг, оглянувшись, увидел невменяемого, вопящего Премьера. В голове пронеслось: «Да опомнитесь же! Неужели этот припадочный правит страной?! Он же ничего не сечет». Я обернулся к залу, ища понимания. В лицо орали перекошенные. Осталась последняя надежда — вдруг стихи смогут образумить это ревущее стадо. Но Кремль — не Лужники. Ишь, прынц нашелся…
Вот опять «взгляд со стороны», запись по стенограмме из архива ЦК КПСС, конечно приглаженной, отредактированной от ненормативной лексики:
«Н. С. ХРУЩЕВ: Почему вы афишируете, что вы не член партии?! „Я не член партии“ — вызов дает! Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!
Вы скажете, что я зажимаю. Я — Секретарь, Председатель. Прежде всего я — гражданин Советского Союза, я боец и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали свободные условия не для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! Ишь ты, какой — „я не член партии!“ Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии… Товарищи, идет борьба, борьба историческая, здесь либерализму нет места, господин Вознесенский!.. То, что Ванда Львовна сказала, — это вы сказали. Это клевета на партию! Для таких будут жестокие морозы… Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогли венграм разгромить эту банду… Ваши дела говорят об антипартийщине, антисоветчине. Вы говорите ложь!..
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Нет, не ложь!
X.: Молоко еще не обсохло. Ишь какой. Он поучать будет. Обожди еще!
Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим.
В.: Я русский поэт. Зачем мне уезжать?
X.: Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер… Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Никакой оттепели: или лето, или мороз… Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение. И больше никто. Только одно сейчас — ваша скромность, скромность, если вы не перестанете думать, что родились гением.
В.: Я так не думаю.
X.: Вы думаете. Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят. Вы считаете, как только родились, то сразу руку подняли, хотите указать путь человечеству. Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта. Вы по своим стреляете…»
«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. (Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН.) Только привычка ко всякому во время выступлений, видно, удержала меня в рассудке. Из зала, теперь уже из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!» Из первого ряда подскочило брезгливо-красивое лицо: «В Кремль! Без белой рубашки, без галстука?! Битник!» Позже я узнал, что это был Шелепин, тогда Председатель КГБ. Мало кто из присутствующих знал слово «битник», но сразу подхватили: «Битник! Позор!»
В ополоумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо О. Ефремова, взметенные бровки Ю. Завадского. Помню бледные скулы А. Тарковского и Э. Неизвестного. Они были подавлены.
Мотнувшись взглядом по президиуму, я столкнулся с пустым ледяным взором Козлова. И он, и все остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. Как остановить этот кошмар? Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи.
Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика. Запомнилось, как Козлов внимательно и настороженно взглянул на мою руку со стаканом.
«Никаких стихов! Знаем! Долой!» — упоенно вопили вокруг.
И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую пробивающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробудило сознание, что-то стало раздражать — или это мне померещилось? — будто бы он увидел в ревущей торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу взбесившейся неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набычась, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочитает». Когда я дошел до строк:
Какая пепельная стужа
сковала б Родину мою?
Моя замученная Муза,
что пела б в лагерном краю? —
я понял, что я погиб.
Но читая, я, как обычно, отбивал ритм поднятой рукой:
…когда по траурным трибунам
самодержавно и чугунно,
стуча, взбирались сапоги!
В них струйкой липкой и опасной
стекали красные лампасы…
Это потопило меня окончательно. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава давал в политике задний ход, похваливал Сталина. Гробовая тишина. Лишь в углу раздались хлопки и захлебнулись. Паники не было, была одна безнадега. «А?гент, а?гент!..» — закричал в зал Премьер. «Ну вот, агентов зовет, сейчас меня заберут», — подумалось.
Зал злорадно затих.
А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо выпустив пар: «Вы что руку подымаете? Вы на что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь?»
И тут, бранясь, он, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал?
Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску и процедил: «Работайте». Я понял, что пока я спасен, а зал пока не выиграл. Потом меня прорабатывали другие залы.
Знал ли обо мне Хрущев раньше? Он не был знатоком поэзии. Но впоследствии была опубликована докладная записка в Политбюро за подписью Шелепина. В ней только перечислялись фамилии окружения Пастернака. И там среди знаменитых имен упомянута моя фамилия. Я думаю, что другие имена не интересовали Хрущева. Но фамилия «Вознесенский» могла запомниться по аналогии с председателем Госплана Вознесенским, любимцем Сталина, коллегой и кудрявым соперником Хрущева и Берии.
Так или иначе, впервые в истории в лицо русскому поэту была публично брошена угроза быть выгнанным из страны. Думаю, на моей судьбе случайно поставлена точка в традиционных отношениях «Поэт и Царь». Дальше судьбы поэзии и власти пошли параллельно, не пересекаясь. И слава Богу! Как будто кого-то сейчас интересует, что думает власть о поэзии.
От получасового ора Премьер взмок, рубашка прилипла темными пятнами.
Но он и не думал передыхать.
— Ну, теперь, а?гент, пожалуй сюда! Ты, очкарик!! Нет, не ты, а ты, вот ты, в красной рубахе, ты — а?гент империализма, — короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне.
Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего, замаячил на трибуне.
ХРУЩЕВ: Почему хлопал?
ГОЛИЦЫН: Я хлопал Вознесенскому, потому что люблю его стихи, и я не агент…
— Да?! А еще что ты любишь?
— Я люблю стихи Маяковского.
— Чем докажешь?
— Могу наизусть прочитать.
— А зачем на трибуну вышел?
— Вы позвали.
— Ну, говори, если вышел.
— Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.
— А сам кто ты есть?
— Я — Голицын.
— Голицын? Князь? (Смех в зале.)
Пройдет немного времени, и они так же рьяно и искренне станут добывать себе графские титулы и наперегонки хоронить останки убиенной семьи монарха.
— Я — художник.
— Ах, художник!! Абстрактист!
— Нет, я реалист.
— Чем докажешь, чем докажешь?
— Я могу свои работы принести показать…
— Следующий!
— Я — советский человек. Не знаю, почему возник этот вопрос.
— А вы подумайте. Мы сами можем хлопать, а где не надо — не хлопаем.
Третьей жертвой Голубого зала был Василий Аксенов. У него было время сгруппироваться. Вождь хрипел: «Вы что, за отца нам мстите?» Танк пер на соловья асфальта, писателя, определившего время, еще безусого, с наивными пухлыми губами. Но не сломавшегося…
Тут вождь утомился. Объявил перерыв.
Эренбург впоследствии спросил меня: «Как вы это вынесли? У любого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, упасть на колени, и это было бы простительно».
Помню, как в тумане, прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.
Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыжниках, уложенных плотно, один к одному, подобно скользким ухмылкам на лицах зала. Куда идти?
Кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаясь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего…»
Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей, требовал для меня и моего подельника… высшей меры, как для изменников Родины.
На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный «Агитплакатом», где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны всякую нечисть и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». В. Войнович рассказывал, что такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоит при въезде в Ялту. Но простые люди и на Владимирщине, и в Прибалтике, да и в Москве, не одобряя власть, конечно, очень по-доброму тогда ко мне относились.
По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И. Драчу и О. Сулейменову.
Сознание отупело. Пришла депрессия. Впрочем, я был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М. Монро». Боясь прослушки, я не звонил домой, наивно полагая, что власти не знают, где я. Приставкин вспоминает, как я загнанно сторонился всех, опасался читать стихи. По Москве пошел слух, что я покончил с собой. Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил Генри Шапиро, журналист «ЮП»: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.
Через год, будучи на пенсии, Н. С. Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.
Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде автографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забывал того, что Хрущев сделал для страны — освободил людей.
Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был плясать перед ним «гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство — топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасы!» Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде.
Не он виноват, черное затмение виновато. Льстецам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А. Твардовский и М. Шолохов, и не имел, скажем, К. Паустовский.
Фото Хрущева с кулаком надо мной висело в витрине «Известий» на Пушкинской площади. Фото сразу украли, разбив витрину.
Потом только я понял, что? напоминает жест Премьера. Именно так спускали воду, дергая за туалетную ручку, из бачка старой конструкции. Очень трудно было отыскать такую ручку для моего видеома.
Одна высокопоставленная американка рассказала мне, что во время хрущевской поездки в США их спецслужбы похитили у Никиты Сергеевича его дерьмо. На анализ. Для этого специальный уловитель был вмонтирован в трубу унитаза. По анализу хотели спрогнозировать характер Премьера: количество желчи, вспыльчивость, способность к гневу и т. д. Это, вероятно, помогло во время Карибского кризиса. Правда, они не учли, что коварные русские спецслужбы могли подставить двойника и подсунуть дезу вместо подлинника.
Историкам еще предстоит написать портрет Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.
Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы — ничто»? Я тупо повторял: «Я — поэт».
В. Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминает в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: „Я — ученик Пастернака“».
Я прочитал воспоминания Ромма уже в журнале и поражен точностью его памяти, даже некоторые эпитеты сходны с моими записями, например «холодный Козлов», хотя я не был даже знаком с Роммом, о чем очень жалею.
Повлияла ли встреча с царем на мою психику? Наверное. Душа была отбита стрессом. Из стихов пропали беспечность и легкость. Назло им, вопящим: «В Кремль? Без галстука?! Битник!..» — я перестал с тех пор носить галстуки вообще, перешел на шейные платки, завязанные в форме кукиша. Это была наивная форма протеста.
Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя.
В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков.
Орет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
подошла, не отказалась.
Живу меж темени и луж,
и черепов, как Верещагин.
И женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.
Необъяснимая вещь психология — даже теперь, зная, что вся истерика Хрущева была отрепетирована, чтобы напугать интеллигенцию, испробовать угрозу высылки из страны, в душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем. Я не держу на него зла за себя.
Как в анекдоте о вожде: «А мог бы и бритвой полоснуть!..»
Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности.
Многое позабылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покатившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упади он, разбейся на весь зал — очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному…
Но стаканчик уцелел. Случай?
«Чем случайней — тем вернее».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
14. Над «Голубой линией»
14. Над «Голубой линией» На гигантском фронте от Баренцева до Азовского моря стояло относительное затишье. Весна лишила войска дорог, сделала недоступными реки.Но к середине апреля обстановка на Таманском полуострове улучшилась: «Голубая линия» сузилась, полевые дороги
«Голубой ангел»
«Голубой ангел» Для фильма Штернберг выбрал рассказ Генриха Манна, в котором обыкновенный учитель влюбляется в певичку кабаре. Главную роль должен был играть, и тут разногласий ни у кого не возникало, знаменитый актер Эмиль Яннингс, а вот с певичкой Лолой-Лолой возникли
«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» Только приехав в Берлин, рассказывал Штернберг, он узнал, что приглашен снимать фильм о жизни Распутина. Он отказался, поскольку не имел ни малейшего желания заниматься историей, развязка которой столь широко известна. Его отказ был встречен спокойно:
Белый и голубой
Белый и голубой В электроцехе я уже основательно пустил корни, как вдруг в середине ноября меня вызывают в пристройку, где работали конструктор Юрий и нормировщик Борис. Когда я вошел, там были уже плановик Жорж и мастер станочного цеха Василий. Короче, вся «головка».— Ну,
«Голубой огонёк»
«Голубой огонёк» – Дорогие телезрители, здравствуйте! Сегодня у нас на «Огоньке» сложилась на редкость непринуждённая и творческая атмосфера! Вы видите на ваших экранах, как много у нас сегодня в гостях известных актёров, режиссёров, писателей и поэтов. Однако приятней
19. «Голубой ангел»
19. «Голубой ангел» Фильм «Голубой ангел», европейская премьера которого состоялась ещё до приезда Дитрих и Штернберга в Голливуд, в Америке увидели только после премьеры картины «Марокко». И дело не в адаптации (фильм требовал перевода на английский язык), а в желании
В администрации Кремля
В администрации Кремля Как уже было сказано выше, после поражения А. Собчака на выборах губернатора Владимир Путин получил предложение остаться на работе в Санкт-Петербурге, но он не считал возможным оставаться и работать с новым губернатором Владимиром Яковлевым. В
Голубой подарок
Голубой подарок Дело было во времена свежеиспечённой виагры. Мой приятель пожаловался мне, что у него на свою жену давно не встаёт. А с другими женщинами он, обременённый обязательством верности, не проверял. Правда, признался он, от порнографии он испытывает
Голубой огонек
Голубой огонек Первое время на НТВ я комплексовал. Да, у меня был опыт работы журналистом. Я побывал в нескольких горячих точках, что считаю необходимым для всех этапом в профессии: зона боевых действий для журналиста как экзамен, как дипломная работа — исследование,
Голубой океан
Голубой океан Нансену за шестьдесят.Его дети выросли, у них свои дороги.Лив нашла счастье с инженером Андреасом Хёйером. Молодые построили себе дом возле «Пульхегды», и вскоре по светлым комнатам уже бегала крохотная золотоволосая Ева. Коре после окончания
Голубой писец
Голубой писец На «Белом пятне» случилось и еще одно памятное событие. Когда мы с Танькой только въехали в гостиницу, мы обнаружили, что в одной из комнат уже стусовались наши люди. Среди них был и какой-то новый персонаж – особь мужского пола лет тридцати, в очках. Стоило
Голубой вагон
Голубой вагон Доцент-фтизиатр был милейший субъект, имел фамилию Афанасьев.Учил нас, если можно так выразиться, туберкулезу. Предмет был такой: Туберкулез. Мы все вздрагивали: вдруг научимся? Тем более, что завкафедрой нам намекала на лекции: "При этом заболевании бывает
11. Два Кремля
11. Два Кремля Жизнь семьи Добровых в первые послереволюционные годы была особенно трудной, тревожной и скудной. Впрочем, как и у всех. Филипп Александрович много работал, пытаясь прокормить большую, плохо приспосабливавшуюся к новой жизни семью. Он даже занялся
2. Голубой мак
2. Голубой мак Еще до приезда в Калифорнию Бербанка поразила красота золотистого калифорнийского мака — эшольции. Он не переставал восхищаться красотой этих диких цветов и всю свою последующую жизнь, но не ограничивался одними созерцательными восторгами. Бербанк ввел