Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском
Вначале 1969 года мы впервые приехали в Советский Союз, мало что зная о его тогдашних писателях, поэтому рассказы Надежды Мандельштам об Иосифе Бродском и ее желание познакомить нас с ним во время нашего пребывания в Ленинграде выглядели не важнее, чем сотни других намеченных для нас встреч. Однако рекомендательное письмо Надежды изменило как наши судьбы, так и судьбу самого Иосифа. Между нами завязались долгие и сложные отношения, не прерывавшиеся всю мою жизнь.
Теперь, летом 1984 года, я собираюсь рассказать все, что помню о русском периоде жизни Бродского, о его отъезде из России и о первом годе, который он провел в США. Во многих смыслах это период, представляющий значительный литературный интерес, и, как ни странно, именно о нем у меня осталось больше всего документальных свидетельств. Вообще-то мы с Эллендеей ведем записи от случая к случаю, но, по всей видимости, Иосиф с самого начала показался нам необычной и в каком-то смысле важной для нас личностью. Этим и объясняется то, что у меня сохранилось столько заметок, могущих послужить подспорьем для памяти.
Даже способ, каким мы тогда добирались в Ленинград, был весьма необычен. Мы ехали с пастором Роджером Харрисоном на его ярко-красном “плимуте барракуда”, самом заметном автомобиле во всей стране, который, как я записал тогда, промчался “по десяти тысячам одинаково унылых деревушек” между Москвой и Ленинградом, словно золотая карета по бедным городкам из “Мертвых душ”, провожаемый взглядами изумленных крестьян. Разумеется, у нас не было разрешения ехать в Ленинград на машине, поэтому любое дорожное происшествие нагоняло на нас беспросветный ужас. Гаишники контролировали все движение, особенно на междугородних трассах; первый пост ГАИ находился уже в 40 км от центра Москвы, и дальше иностранцам без соответствующих бумаг ехать не дозволялось. Кажется, этот пост мы миновали благополучно, но позже, когда нам попался другой, Роджер не понял, что означают жесты стоящего на обочине полицейского, и промчался мимо красным вихрем. У следующего пункта дорогу нам преградила цепочка его товарищей, вооруженных автоматами. Мы остановились, Роджер вышел, и мы услышали его обычное полуразборчивое кудахтанье (на самом деле он очень бегло говорил по-русски); особенно он напирал на свои дипломатические номера и на то, что мы не кто-нибудь, а настоящие американцы. Гаишник со скучающим видом заглянул в его документы, в наши (где значилось, что с сегодняшнего вечера нам разрешается пребывать в Ленинграде), после чего, утомленный жизнерадостным слабоумием Роджера, отпустил нас с миром.
Позвонив Бродским в первый раз, я принял за Иосифа его отца, но затем перезвонил, исправил недоразумение и договорился о встрече. Она состоялась 22 апреля 1969 года.
В тот день нас поразило несколько обстоятельств. Во-первых, жилище Иосифа – его семья занимала две комнаты в коммунальной квартире. Переступив порог, вы попадали в длинный коридор – сразу направо кухня и туалет, а дальше комнаты жильцов. Иосиф провел нас мимо нескольких из них, расположенных по левую руку, и свернул во тьму. Там находилась бывшая фотолаборатория его отца (некоторое время он работал фотографом), а когда наши глаза привыкли к темноте, мы увидели впереди гигантскую баррикаду из сундуков, тумбочек, чемоданов и каких-то громоздких ящиков. Эта баррикада тянулась от стены к стене и от пола до потолка, очень высокого: в прежние времена здесь обитал какой-то аристократ, и потолок до сих пор украшали изысканные лепные карнизы. Иосиф отдернул маленькую занавеску и пригласил нас нырнуть в открывшуюся дыру. Последовав его приглашению, мы очутились в крошечной комнатке с окном на улицу – слева виднелся Литейный проспект, справа церковь. Кровать Иосифа стояла под окном, у батареи, о которую он много лет тушил окурки. Справа был его письменный стол, над ним – пять-шесть полок, где почти не осталось места для новых книг (как мы вскоре убедились, во всем городе едва ли можно было найти лучшую поэтическую коллекцию); слева стоял небольшой кожаный диванчик, перед ним новенький на вид столик с инкрустациями из слоновой кости сверху и по бокам, а чуть дальше, в изголовье кровати – потертое кресло. У левой стены, за столиком, был проход, перегороженный еще несколькими книжными полками, в щели между которыми по вечерам проникал свет и независимо от времени суток – даже умеренно громкие голоса. Как мы узнали позже, этот проход вел на другую половину жилища Бродских, в комнату его родителей, служившую им единовременно спальней, гостиной и кухней. Иосиф обособился от своих родителей, но не слишком. Несмотря на такое близкое их соседство, его комната выглядела очень поэтично. Она была уютна – этакое гнездышко, насквозь пропитанное духом Иосифа (Гоголь пришел бы в восторг, увидев здесь идеальное подтверждение своей теории о том, что раковина отражает характер ее обитателя).
В течение нескольких следующих лет какие-то мелочи менялись, но в целом обстановка оставалась прежней. На большом столе красовались два канделябра, каждый на пять свечей, а маленький латунный подсвечник с чудесной резьбой Иосиф подарил нам – он и сейчас стоит у меня в кабинете. Средоточием комнаты были книжные полки с богатым разнокалиберным грузом иностранных изданий, в основном поэтических – хозяин получал их со всего света в дар от своих поклонников, количество которых неуклонно росло, – и томиками, раздобытыми Иосифом на мероприятиях вроде Американской выставки в Москве. Знакомые часто брали у Иосифа что-нибудь почитать, но он переводил без устали, так что многие книги и словари постоянно находились в работе.
Комната изобиловала сувенирами западного происхождения. Абажур настольной лампы был оклеен этикетками “Кэмел”, и мы спросили, когда он впервые увидел эти сигареты. Иосиф сказал, что в 1945-м его отец привез с фронта несколько пачек, и с тех пор они ему дороже Рембрандта или любого другого художника. С тех пор мы всегда привозили ему блок сигарет “Кэмел”, но обычно оказывалось, что они у него уже есть. На одной из полок мы заметили бутылку “Курвуазье” (пустую), а на стене висела вырезанная из газеты (или составленная в шутку) надпись на английском: “I AM AN ENEMY OF THE STATE”[4]. Еще там были постеры “SEX MANIAC”, “WORK IS THE CURSE OF THE DRINKING CLASS” и “WANTED J. B.”[5]. Они и через несколько лет никуда не делись, но призыв “STAMP OUT REALITY”[6] исчез. Одно время Иосиф даже хранил часы с изображением Спиро Агню[7]. По всей комнате – в частности, над столом – были расклеены журнальные иллюстрации с видами Америки и Европы (в основном с замками), а также открытки и фотографии, в том числе снимок его жены и сына и два портрета Ахматовой.
В ящике напротив письменного стола помещалась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Еще наличествовали словарь Даля, словарь американского сленга в трех или четырех томах, Оксфордский словарь, русско-английский словарь Лангеншейдта, а позже мы добавили к ним и словарь Random House. Над столом выстроились книги всех известных английских и американских поэтов: Йейтс, Элиот, Дилан Томас, Уилбер и т. д. Позже к ним добавилось много Кавафиса, которого Иосиф без устали рекламировал (преуспев только в случае с Эллендеей), и Набокова, которого мы регулярно ему привозили.
Магнитофон на столе обычно играл Моцарта (когда Иосиф вернулся из ссылки, он, по его словам, две недели пролежал, слушая Моцарта). Позднее здесь звучали “My Lady d’Arbanville” Кэта Стивенса, “Битлз” (“Revolution” и “Abbey Road”), Джоан Баэз, Бах, джаз и так далее. Кровать с плюшевыми подушками (коричневыми и красными, гобеленовыми) была застлана армейским одеялом.
В ту первую встречу мы не знали, чего ожидать, и он тоже, но очень быстро почувствовали взаимное расположение. Меня тронули его обаятельная улыбка и смущение – он явно старался сказать или сделать что-нибудь такое, чтобы развлечь нас, как полагается хорошему хозяину. Он был симпатичный, с ярко-голубыми глазами и редеющими рыжими волосами. Его движения были энергичны и порывисты, речь сбивчива: начиная что-нибудь объяснять, он часто поправлял себя или начинал фразу заново, а то и вовсе говорил “нет, не то”, “дело просто в том, что…” – в его стихах, хоть, разумеется, и прошедших литературную обработку, тоже мелькают подобные словечки, характерные для его речи и манеры мышления. Он постоянно вскакивал, чтобы что-нибудь найти, хватался за голову и ерошил волосы. Поначалу он держался несколько официально, желая по какой-то причине произвести на нас впечатление. Нас удивило, что он говорит по-русски с сильным еврейским акцентом – он и сам подчеркнул это, схватив себя за горло. Когда он принялся разыгрывать роль поэта для гостей, мы стали подшучивать над ним, и он не обиделся, довольный тем, что мы заметили его притворство. Он умел смеяться практически над чем угодно, включая себя. По крайней мере, когда он бывал один или с кем-то наедине, за поэтическими рассуждениями о добре и зле, жизни и смерти всегда ощущалась глубокая скептическая подкладка. Нам это понравилось, и он показался нам весьма привлекательным, этаким модно-современным в хорошем смысле. Очень скоро мы почувствовали к нему настоящее доверие. Надетая им было маска официальности спала, едва он взял телефонную трубку и перешел на свою обычную речь, щедро уснащенную беззлобной нецензурщиной. Мы быстро поняли, что он “свой” – один из нас. Это сродство не имело ничего общего с симпатиями и антипатиями, с дискуссиями о поэзии и политике; оно находилось на совершенно ином психологическом уровне, и при общении с любым другим русским мы не ощущали ничего похожего. Он умел мгновенно расположить человека к себе, стоило ему только захотеть. Что подкупило Иосифа в нас самих (если такое вообще было), я не знаю. В ту пору мы решили, что в моем случае важную роль сыграли сдержанность и ироничность, характерные для американцев моего происхождения, вкупе с серьезным интересом к Пушкину, Гоголю и Набокову, а также высокий рост и откровенно заграничный облик. Ему нравились американцы такого типа. Что касается Эллендеи, то он скорее оценил ее внешность, чем интеллект: Иосифа нередко увлекали самые поверхностные вещи. Он всерьез считал, что о книге можно судить по обложке.
Вскоре после знакомства с Иосифом мы в первый раз явились к нему на вечеринку, где оказались единственными гостями-иностранцами. Присутствовали Евгений Рейн, отрекомендованный Иосифом не только как его друг, но и как учитель, жена Рейна (когда мы потом вышли на улицу, она твердо заявила, что мы сейчас посетили одного из величайших русских поэтов), Леонид Чертков, широко известный литературовед, один из двух авторов статьи о Набокове в Краткой литературной энциклопедии (позже он эмигрировал во Францию), и его жена Татьяна, тоже филолог, интересующаяся в первую очередь футуристами и грузинской литературой. И на этот раз Иосиф был не в своей тарелке, то и дело что-то искал или выходил, чтобы что-нибудь принести – например, коньяк в пандан к захваченному нами джину. Когда я спросил, почему он так суетится, он ответил, что хочет сказать или сделать что-нибудь, чтобы “заполнить пустоту”. Очевидно, это слово было употреблено не в обычном смысле, что явствует из его многочисленных стихов, где доминирует пустота на метафизическом уровне, возникающая из будничной. К примеру, в “Натюрморте” она разрастается, усиливая гнев и неровность стиля, которые слышались особенно ясно, когда он сам читал это стихотворение.
Когда я задал собравшимся свой любимый провокационный вопрос (намеренно туманный по части определений): “Может ли плохой человек написать хорошую книгу?”, Иосиф ответил твердым “нет”. Но к следующему нашему визиту он изменил свое мнение. Он сказал, что причиной тому стали его раздумья о Достоевском: ясно, что он был плохим человеком, но тем не менее написал хорошие книги.
Гости долго обсуждали и другой коварно подкинутый мной вопрос: есть ли какая-нибудь связь между физическими особенностями и образцово ясным стилем (может ли неуклюжий человек, лишенный красоты и грации, писать красиво)? Обсуждение протекало в типично русском духе, причем ответы были самые разнообразные – от решительного “нет” до заявления Рейна, что в стиле отражаются не только физические особенности, но и черты лица автора: чтобы убедиться в этом, говорил он, достаточно посмотреть на портреты всех крупнейших русских писателей, особенно Гоголя и Достоевского.
В 1969-м и еще некоторое время после этого Иосиф утверждал, что самый великий русский поэт – Баратынский (и уж точно не Пушкин, который ему никогда не нравился). Я спрашивал: разве он не один из целой плеяды, имитатор? Иосиф отвечал, что нет: даже там, где у Баратынского встречаются штампы, это на самом деле не штампы, надо просто копнуть чуть глубже. Сначала я подумал, что Баратынский – временная любовь, поскольку нас предупреждали, что Иосиф способен радикально менять свои воззрения, но работа Иосифа над английскими поэтами-метафизиками, не говоря уж о его собственных стихах, явно имеет некоторую связь с характерной для Баратынского поэзией мысли. В то время он регулярно и так же горячо заступался и за Тредиаковского, что нас лишь забавляло. Иосиф настаивал на важности традиций; когда восемнадцатилетний мальчишка рассуждает так, будто двух сотен лет поэзии до него не существовало, это выглядит глупо, говорил он; может, это и неизбежно, однако достойно сожаления. Поэтому он любил неоклассиков и считал, что их заимствования у поляков, французов и так далее несущественны, поскольку они употребляли их с толком.
На той же вечеринке, наполовину в шутку, наполовину всерьез, Иосиф прочел также лекцию о влиянии фильмов про Тарзана, вышедших в Советском Союзе в 1951 году. Он сказал (и остальные согласились), что они были первым шагом в движении к индивидуализму среди молодежи. Появился культ длинных волос, потом индивидуалистическое поведение, потом брюки-дудочки и, наконец, правительственное распоряжение покончить со всем этим безобразием. Потом наступил черед польских журналов, особенно “Пшекруя”, с их переводами Пруста, Джойса, экзистенциалистов и другими запрещенными плодами западного модернизма.
Может быть, потому, что я написал книгу о Набокове, он отзывался о нем весьма уважительно. Он сказал, что, хотя авторский перевод “Лолиты” плох, он читал изначально написанные по-русски “Дар”, “Защиту Лужина” и “Приглашение на казнь”, и что Набоков велик, поскольку он безжалостен, “когда речь идет о современной пошлости, и что он понимает масштаб вещей, как и положено любому великому поэту или прозаику, и свое место в этой иерархии”. Еще Иосиф очень высоко ставил Ходасевича и сказал, что Набоков, возможно, прав, но для него самым любимым поэтом XX века все равно остается Цветаева. В общем, он предпочитал ясных и глубокомысленных поэтов туманным; поэтому он не любил символистов, но хорошо относился к акмеистам, особенно к Ахматовой (Эллендее это показалось подозрительным: очевидно, что Мандельштам был более значителен). Америке повезло, сказал он, потому что у нее есть Фрост – стихов его одного уже хватит на целое столетие.
Что касается современной русской поэзии, сказал он, то “в России поэзия существует только количественно, но не качественно”. Как всегда, мы спросили о двух поэтах, чьи имена были у всех на слуху, и Иосиф сказал, что не стоит читать ни Евтушенко, ни Вознесенского, но в своем роде первый все-таки лучше, потому что Вознесенский привлекает читателя только одним – каламбурами. У него нашлось несколько добрых слов для Еремина (из непечатаемых) и для Кушнера (из печатаемых иногда). Что же до современной русской прозы, то он осудил Солженицына, назвав его сочинения просто-напросто апофеозом социалистического реализма (не первый и не последний раз мы слышали это суждение).
В мае, за месяц до нашего предполагаемого отъезда из России, Иосиф приехал в Москву, и мы провели с ним вечер и еще полдня. Вечер прошел дома у нашего знакомого Андрея Сергеева, который был и хорошим другом Иосифа – кстати сказать, Иосиф, вообще склонный к преувеличениям, называл его самой светлой головой в Москве. После предпринятой нами тщетной попытки раздобыть лед для водки началось поочередное чтение стихов на русском и английском. Мы уже получили представление о манере Иосифа в Ленинграде. Каждый, кто слышал, как он читает стихи, поймет, насколько поразил нас его напевный речитатив, резкие перепады тона, постепенное нарастание высоты и громкости и резкие, неожиданные остановки. Мы спросили, откуда взялась эта манера, и он ответил, что не вырабатывал ее специально, она просто была у него с самого начала. Он не видел тут никакой связи с еврейскими канторами или с церковью. Я исполнил по-русски пушкинский “Зимний вечер”, но не удостоился аплодисментов. Затем, кажется, Андрей прочел какие-то стихи Фроста. И наконец, Иосиф прочел стихотворение Эдвина Робинсона, и само-то по себе маловразумительное, а благодаря его английскому и манере чтения сделавшееся абсолютно непостижимым. Он был крайне обижен, когда мы признались, что ничего не поняли – что для нас это настоящая заумь. Он искренне полагал, что прочел эти стихи не только ясно и по-английски, но и так, чтобы подчеркнуть их смысл.
К сожалению, б?льшая часть вечера ушла на долгий и бесплодный спор о Вьетнаме. В течение нескольких следующих лет мы регулярно спорили с нашими русскими друзьями на эту тему, и они, как правило, не понимали нашей антивоенной позиции. Особенно горячился Андрей: он утверждал, что очень глупо с нашей стороны не уничтожать коммунизм везде, где только можно. Именно этот аргумент нам обычно и доводилось слышать от наших охваченных милитаристским пылом оппонентов, причем не от каких-нибудь невежд, незнакомых с американской культурой и историей, а как раз наоборот, от тех, кто знал о ней больше других (но, за редкими исключениями, все равно ничего в ней не понимал). Иосиф склонялся скорее на его сторону, хотя в тот раз выступал своего рода примирителем (позже, в достопамятной словесной битве в Ленинграде, он был неумолим). Так что худшим, что мы тогда от него услышали, было следующее: мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. “Это очень печально, но они же не люди”, – добавил он. Андрей согласился, и оба сказали: все ведь элементарно, кто это начал? Они искренне считали, что это простой вопрос. Я продолжал задавать им вопросы, я сказал, что хочу как следует понять их позицию и то, как именно они предлагают решать с точки зрения закона, кто в Америке хороший, а кто плохой (то есть противник войны), дабы в соответствии с их планом наказать последних. Иосиф перебил меня, заявив, что если бы у него была рыжая жена (как у меня), ему “было бы наплевать на все остальное”. Мы вспомнили студентов, которые подвергались насилию со стороны властей на съезде Демократической партии США в 1968 году, в Беркли и других местах. Андрей заявил, что так им и надо: мол, если студенты собираются на митинги и протестуют, то “они превращаются из студентов в политиков”. Если студенты хотят лезть в политику, пожалуйста, но тогда они уже больше не студенты. “И чего они вообще митингуют – у вас ведь можно голосовать, это у нас нельзя!” Типичным для этой линии поведения были и выпады против чернокожих борцов за свои права. Не так уж плохо они живут, говорил Андрей, чтобы всерьез на что-то жаловаться. Один русский зэк попросил, чтобы его отправили жить в негритянское гетто. Нам не раз повторяли этот анекдот в доказательство того, что русским живется гораздо хуже, чем самым разнесчастным американским неграм.
В конце мы сказали, что переписывать такие законы, как свобода слова, следует с большой осторожностью (Андрей заявил, что свобода слова должна быть “не для всех”, в частности не для маоистов). Стоит переделать один закон, сказали мы, как тут же возникает нужда в переделке следующего. На это Иосиф сказал: “Когда такое слышишь, плакать хочется – ведь у нас-то здесь вовсе ничего нет”. Мы и по сию пору ведем с Иосифом подобные, хотя и более аргументированные споры, и, насколько мне известно, никто из нас никогда не принимал их чересчур близко к сердцу, но Андрей был очень расстроен и через несколько лет разорвал с нами отношения, решив, что у нас, особенно у Эллендеи, слишком уж левые взгляды.
Когда мы вышли от Андрея после этого долгого вечера, полного стихов и политики, Иосиф отдал мне законченную рукопись поэмы “Горбунов и Горчаков”. Нам предлагалось прочесть ее и тайком вывезти за рубеж. С нее и начались наши публикации самиздата в Энн-Арборе. Эта поэма стала первым крупным русским произведением, появившимся в первом выпуске Russian Literature Triquarterly в 1971 году, и ей же была посвящена моя единственная за всю жизнь статья о поэзии Иосифа. Единственная не потому, что его стихи меня не интересовали – как раз наоборот, но я уже давно решил, что при всех естественных сложностях моих дружеских отношений с русскими писателями разных школ и убеждений мне не стоит усугублять имеющиеся разногласия своими опусами об их творчестве.
Иосиф стал для нас таким же важным и близким другом в Ленинграде, каким была Надежда Мандельштам в Москве. В обоих случаях их квартиры служили центром, из которого все расширяющимися кругами расходились наши знакомства с другими русскими, по большей части писателями, переводчиками и учеными.
В ходе наших визитов Иосиф постепенно поведал нам историю своей жизни. К тому времени мы уже прочли полный отчет о скандально известном судебном процессе 1964 года, записанный Фридой Вигдоровой и опубликованный в чудесном альманахе Гринберга “Воздушные пути”. Цитаты из этого отчета были известны каждому, и на его основе писались пьесы и романы повсюду – от Турции до Франции. Нас также втянули в бушующие в московских и ленинградских литературных кругах споры о том, правильно или неправильно поступил Иосиф, отказавшись признать необычайное мужество Фриды и поддержку со стороны многих других людей.
На вопрос, почему его освободили так рано, Иосиф обычно отвечал уклончиво. Он либо говорил, что это было связано с некими конкретными личностями в Ленинграде, как и сам процесс, либо ссылался на некое общее чувство вины. Но факт остается фактом: до, во время и после суда над Иосифом были предприняты очень серьезные усилия, направленные на то, чтобы защитить его и сделать этот суд достоянием гласности, причем подобное случилось впервые за всю историю борьбы за права человека в постсталинской России. Иосиф был не склонен публично признавать важность всей этой деятельности. Более того, от него обычно не слышали и лестных отзывов о самом отчете, появление которого можно считать беспрецедентным. Составляя его, журналистка Фрида Вигдорова пошла на огромный риск и показала всему миру, насколько кафкианским может быть суд в Советском Союзе (ее записи повсеместно переводили и цитировали). Многие считали, что Иосиф так и не отдал ей должного. Мы никогда не задавали ему никаких вопросов касательно этой истории.
Я вкратце изложу здесь детали его ранней биографии – скорее ради того, чтобы зафиксировать слышанное нами из его уст, чем ради того, чтобы запечатлеть истину в последней инстанции. Существуют другие свидетели, которые могут дать более полные отчеты. Я уверен, что возникнет множество разногласий практически по всем поводам, поскольку даже в рассказах самого Иосифа, которыми он потчевал нас на протяжении многих лет, хватает расхождений относительно конкретных обстоятельств и степени важности тех или иных событий. Этому не стоит удивляться, особенно если учесть, что в деле частенько бывали замешаны женщины.
Иосиф говорил, что он почти всегда чувствовал себя белой вороной, и началось это еще в школе, с тех пор как он себя помнил. Отчасти это объяснялось тем, что его презирали как рыжего еврея, но в основном он просто не вписывался в общую картину. В качестве любопытного диссонанса к воспоминаниям самого Иосифа об этом периоде я приведу свидетельство жены его друга Григория Воскова. В 1979-м она сказала нам, что в школе его очень даже любили. Он получал тройки по математике и страшно расстраивался из-за этого. Но когда он решил бросить школу, почти весь класс явился к нему домой, чтобы его отговорить. Нам было ясно, что по крайней мере она сама восхищалась Иосифом всю жизнь.
Как бы мы ни судили о том, насколько счастлив или несчастлив был Иосиф в школьные годы, он признался, что вступил в пионеры (хотя и это тоже он объяснил чувствами, которые питал к пионервожатой, а не желанием быть как все и не отрываться от коллектива). Он бросил школу в пятнадцать лет, потому что влюбился; он сбежал из дому, чтобы устроиться на работу, раздобыть денег и поселиться с любимой девушкой. Конечно, этих намерений хватило ненадолго, и почти все остальные семнадцать лет он прожил в своей комнате, в коммуналке рядом с родителями. Женщины играли в биографии Иосифа существенную роль с начала и до конца, хотя очень немногие из них были важны для него по-настоящему. Я думаю, это понимали все, кто его знал. Мы отправляли к нему с визитами многих своих подруг, заранее предупреждая о возможных последствиях. Иосиф был не просто поэтом, но поэтом в драматической ситуации, почти в беде. Кроме того, он умел быть чрезвычайно обаятельным искусителем. Имеющиеся свидетельства крайне разноречивы (боюсь, что их содержание сильно зависит от внешних данных рассказчицы), но даже при моей вере в необходимость знать всю правду я уступаю право оглашения дополнительных подробностей другим летописцам.
Интересно, с какой мрачной серьезностью Иосиф порой относился к своим женщинам. В наших ранних беседах о безумии и самоубийстве – и то и другое было для меня отнюдь не пустым звуком – он сказал, что когда-то чуть не лишил себя жизни из-за девушки. (Потом он признался, что его довела до этого Марина; когда она была с каким-то другим мужчиной, он несколько раз полоснул себя в туалете по левому запястью то ли бритвой, то ли ножом, а потом вышел оттуда, спрятав окровавленную руку в карман.) А когда я сказал под конец, что это на самом деле не слишком разумно, он возразил, что наоборот, очень разумно, если только не затрагивает других; правда, обычно это бывает к тому же грязным и жалким. Как бы то ни было, он сумел пережить свой самоубийственный порыв.
Бросив школу, Иосиф работал в разных местах. До суда он сменил их не то четырнадцать, не то пятнадцать – был фрезеровщиком на заводе, истопником, дважды работал фотографом (пойдя по стопам отца), рыл землю и ходил с радиометром в геологических экспедициях, и так далее. Особенно важной для него оказалась первая из геологических экспедиций – это были своего рода отдушины для отщепенцев вроде него. Туда брали даже тех, кто никуда больше не мог устроиться, и вдобавок эти путешествия обеспечивали известную степень свободы.
Рассказывая, как ему не терпелось выбраться из СССР, Иосиф привел в пример случай, когда он первым из своих земляков чуть было не угнал самолет. Любопытно, что он поведал нам об этом в своей комнате, хотя был уверен – или почти уверен, – что в ней есть “жучки”. Как и многие другие из наших русских знакомых, он считал главной опасностью телефон и отключал его, когда собирался сказать что-нибудь откровенно антиправительственное. Еще надежнее было зайти в ванную, пустить воду и говорить под ее шум, а вернее всего – отправиться в долгую прогулку по отдаленным и достаточно открытым местам, где подслушивать затруднительно. Конечно, мы знали о направленных микрофонах, которые позволяли записывать на пленку разговоры тех, кто вызывал у КГБ особенный интерес, но с этим риском приходилось мириться. Забавно, что в конце концов многие плевали на свои опасения и высказывали то, что хотели, даже если считали, что помещение прослушивается. Рано или поздно люди уставали от предосторожностей. У Иосифа были особые причины полагать, что у него установлены тайные микрофоны: его прошлое, многочисленные гости из-за рубежа, близость к дому, где находилось ленинградское отделение КГБ, и так далее. Тем не менее он о многом говорил открыто, в том числе об этой истории с самолетом.
Тогда ему было примерно лет восемнадцать. Он путешествовал с другом, разделявшим его антисоветские убеждения, и очутился где-то далеко на юге Советского Союза, поблизости от границы. В том городке, куда они забрались, был маленький аэропорт, и они решили сбежать из страны, украв самолет.
Они сидели, наблюдая за суетой в аэропорту, и строили свои мальчишеские планы. Согласно этим планам, Иосиф должен был оглушить пилота (кажется, его приятель умел управлять самолетом). Он пошел бродить по городу, обдумывая это, потом уселся на скамейку и стал грызть орехи. Когда он грыз орехи (вот она, поэтическая деталь), его поразило сходство ядра ореха с человеческим мозгом, и он понял, что не сможет через это пройти. Однако то был не последний раз, когда угон самолета едва не сыграл в жизни Иосифа роковую роль. Не было это и его единственным юношеским бунтом против власти. Еще он рассказывал, как отправил свои стихи в “Знание”[8], а когда их ему вернули, налил в презер ватив воды с майонезом и, проезжая мимо редакции, в знак презрения швырнул эту бомбочку в открытое окно.
Судя по тому, что рассказывал нам Иосиф тогда и после, в его жизни не было более важной фигуры, чем Марина Басманова. Именно она скрывается под буквами “М. Б.” в первоначальном названии “Новых стансов к Августе” (“Ардис”, 1983) – “Стихи к М. Б.”. Она была его первой и, возможно, единственной любовью. Она мать его сына Андрея, носящего ее фамилию – Басманов, что раздражало Иосифа, как он признавался нам еще в России (он сказал, что в той графе свидетельства о рождении, где должно было стоять имя отца, она просто поставила прочерк). В этой книге собраны все стихи, когда-либо написанные для нее прямо или косвенно (иногда он кривил душой, говоря другим женщинам, что какие-то из этих стихов обращены к ним, хотя на самом деле на уме у него была только М. Б.). С точки зрения Иосифа она всегда была его женой (хотя официально они не состояли в браке), даже несмотря на то, что они расстались, даже несмотря на то, что она, по его мнению, изменяла ему с другими, в частности с его собратом по перу, тоже одним из “ахматовских мальчиков”, соперником из того же круга, а теперь и товарищем по эмиграции – поэтом Дмитрием Бобышевым. Бобышев говорил, что у них с Мариной все началось всерьез лишь после ее окончательного разрыва с Иосифом, поэтому его нельзя обвинять в том, что он предал своего хорошего, если не лучшего, друга.
Иосиф рассказывал, что впервые увидел Марину, когда она вела по ленинградской улице велосипед – высокая, ошеломительно красивая, ни дать ни взять героиня фильма сороковых. Он влюбился в нее с первого взгляда (и с этого самого дня ее тип навсегда остался “его типом”). Она покорила его сердце еще до того, как они познакомились. Как он умудрился добиться этого знакомства и что именно произошло дальше, я не знаю, но известно, что некоторое время они жили вместе как муж и жена и что за этим последовало рождение Андрея. С самого начала у них были сложные отношения. Мы не знаем подробностей этого романа, хотя кое-что друзья нам рассказывали, но мы точно знаем по своему опыту, что Иосиф был органически не способен долго поддерживать по-настоящему близкие отношения с кем бы то ни было, в особенности с женщиной.
Каждый его роман, который нам доводилось наблюдать – а они были весьма многочисленны, – кончался быстро: клаустрофобия Иосифа полностью подавляла все прочие эмоции и порывы.
Когда родился Андрей, Иосиф, по словам очевидцев, был чрезвычайно взволнован и озабочен. Он целиком погрузился в хлопоты, самоотверженно добывал все необходимое вроде молока (что в СССР было непросто) и вообще выглядел гордым отцом, хотя они с Мариной (по крайней мере, на время) разъехались. Но Марина уже и тогда вела себя непоследовательно: то позволяла ему видеться с ребенком, то лишала его этой привилегии. А потом грянул суд и ссылка на Север, в леспромхоз под Архангельском. Там его навещали друзья и Марина.
Мы с Эллендеей встретились с Мариной только однажды. Несмотря на это, с учетом всего, что нам известно, мы готовы утверждать, что ни одна американка в подобных условиях не стала бы вести себя как она, сколь бы трудно ей ни приходилось с Иосифом. Она часто пропадала из виду и в эти периоды жила со своей семьей – людьми, как нам сказали, очень старомодными и чудаковатыми. Они не одобряли даже электричества, не говоря уж о еврейском поэте-тунеядце Иосифе. Лишь немногим друзьям Иосифа дозволялось поддерживать с ней хоть какой-то контакт, и время от времени они рассказывали ему об Андрее – что он похож на отца, такой же рыжий, что у него те же интонации и повадки. Наша единственная встреча с Мариной состоялась на нейтральной почве, в ленинградском парке, где трое наших детей самозабвенно играли в песочнице и на качелях, а русские дети, закутанные в пальто и шарфы, стояли как статуи и изумленно смотрели на неуемных иностранцев. Марина держалась прохладно и настороженно; она оживилась лишь один-единственный раз, когда мы шли по улице и Иосиф принялся учить Эллендею правильно произносить русское ругательство “сволочь”. Это показалось Марине забавным, и она рассмеялась. Она понимала, что мы сыграем свою роль в отъезде Иосифа за границу, мы это чувствовали, а ей, думаю, не хотелось, чтобы он уехал. Она была как собака на сене и очень держалась за свою власть.
Иосиф то и дело повторял нам, какая она замечательная. Она-де не только умна и оригинальна (другие говорили, что она умна и непрактична), но еще и прекрасный художник-график. Он показывал нам сделанные ею журнальные обложки, но мы не нашли в себе сил изобразить восхищение. Он знает, говорил мне Иосиф, что она женщина странная и не похожая на других, но чувствует, что его и ее странность одного рода, поэтому они хорошая пара. Во время нашего новогоднего визита в 1971 году я спросил Иосифа, что самое важное из того, чего он не знает. “Когда будет второе пришествие, – пошутил он. Но затем сказал уже серьезно: – Где сейчас моя первая жена, – и добавил: – Почему это до сих пор меня волнует – вот что самое загадочное”.
Чем бы это ни объяснялось, чувство, которое Иосиф питал к этой женщине, было невероятно сильным и долговечным. Это показывает один из самых странных и поразительных эпизодов его позднейшей жизни в Америке.[9] Однажды вечером в октябре 1981 года мне позвонил Иосиф и сказал, что хочет попробовать жениться! Иосиф был на какой-то важной политической конференции в Канаде и там, 48 часов назад, увидел женщину, точную копию Марины. Он был ошеломлен. Когда она шла к нему в отеле, он подумал, что это сон, – настолько сильным было впечатление реинкарнации. Оказалось, она журналистка, голландка, частично еврейка и хочет взять у него интервью для голландского радио. Он включил все свое обаяние, и, хотя кое в чем было несоответствие, он ее убедил. Я спросил его, сделал ли он предложение, и он ответил: “Я высказал идею. Она не была ужасно против”.
Но она уезжала обратно в Голландию, и он собирался за ней. “Это может произойти, а может – нет”, – сказал он. Он признался ей, почему она его так привлекла? Нет, не признался. Он только твердил: “Карл, ну не странно ли? Кажется, я немного сошел с ума”. Я мог только пожелать ему удачи и рекомендовать осторожность. Он поступал нерационально и понимал это. Он поехал за двойником Марины в Голландию, добился ее благосклонности, как говорили в старину, но столкнулся там с целым рядом мелких и не очень мелких кошмаров, начиная от отвратительных (в его понимании) левых взглядов в политике и искусстве и до прежнего и еще действующего любовника (детали вполне гармонировали с общим сюжетом). По прошествии недолгого времени стало понятно, что брак вряд ли состоится, но Иосифу очень не хотелось расстаться с этой мыслью, и вернулся он изнуренным и злым и, тем не менее, все еще очарованным. Думаю, скорее идеей с Мариной в сердцевине ее, чем реальностью.
Эта история показывает, какую невероятную власть имела над Иосифом даже идея Марины (и как он верил, что один человек может заместить другого). Это стоит иметь в виду всякому, кто возьмется анализировать его книги. Хотя это находится за пределами периода, который интересует меня в первую очередь, стоит вкратце рассказать, что случилось, когда мы опубликовали “Новые стансы к Августе” и один экземпляр книги добрался до Ленинграда. Как-то вечером Иосиф позвонил мне и заявил, что произошло нечто чрезвычайно важное. Он попросил меня угадать, от кого он сейчас получил подробный устный отзыв о своей книге. “От Бобышева”, – немедленно сказал я со смехом. “Близко”, – ответил он. “От Марины?” – недоверчиво спросил я и получил в ответ: “Именно”. Насколько я знал, они не говорили друг с другом уже очень долго – лишь однажды, несколько лет назад, он упомянул, что она предложила ему найти ей американца, за которого она могла бы выйти замуж, чтобы уехать из России. Это было удивительно и само по себе, но неудивительно, что из этого ничего не вышло. Как-то я спросил, что слышно по этому поводу, и он ответил, что, по словам одного приехавшего оттуда знакомого, Марина хранит многозначительное молчание – она сказала только, что Андрея заставили учить немецкий, язык, который Иосиф ненавидел больше любого другого. После этого в ответ на мои расспросы он чаще всего говорил, что нет, он сам ничего не знает, поскольку даже старые друзья, от которых он получал информацию, потеряли с ней связь. И тут вдруг она ему позвонила. Она очень спокойно и дружелюбно выразила свое мнение о его книге, сказав, что ей особенно понравилось, и отметив ошибки, которые он, по ее мнению, допустил. Беседа была долгой и, очевидно, вполне мирной. Полагаю, в истории мировой литературы было очень немного случаев, когда муза, особенно с таким трудным характером, внезапно материализовалась подобным образом, дабы вознаградить воспевшего ее поэта.
Мы с Эллендеей приехали в Россию сразу после Рождества 1970 года, планируя встретить вместе с Иосифом Новый год. Пока мы не виделись, в жизни и окружении Иосифа произошло немало перемен, и теперь мы знали его гораздо лучше. Он успел серьезно поссориться с Евгением Рейном – нам он только туманно сказал, что “не любит гедонистов” (его отношения с Рейном на протяжении многих лет были очень неровными, мы же относились к нему крайне отрицательно после того, как в 1977 году он украл у нас очень важную книгу Цветаевой) – и не переносил бывшую жену Рейна, которую называл жадюгой и карьеристкой. Она должна была прийти к нам на Новый год со своим новым мужем, литовским поэтом Томасом Венцловой, которым Иосиф горячо восхищался.
В один из дней перед праздником мы беседовали с Иосифом в его комнате, и в это время к нему пришел его хороший друг Ромас, физик из одной союзной республики, которому мы весьма симпатизировали. От нечего делать он принялся листать книги и открывать ящики и в какой-то момент выдвинул верхний ящик стола с инкрустациями из слоновой кости, изображающими антилоп и других животных. Он увидел маленькую рукопись и вынул ее. Прочел с ошарашенным видом и передал Эллендее, которая явно пришла в ужас, и наконец прочел я. Ромас забрал бумагу, сделал в ней какую-то поправку, и Иосиф резко сказал ему: “Не ты написал, а я. Я знаю эти дела”, – сказал он и добавил, что это сырой черновик и он провозится с ним еще два дня.
Письмо было адресовано Брежневу. Речь шла о вынесенном после суда над участниками “самолетного дела” смертном приговоре Эдуарду Кузнецову и его сообщнику Дымшицу. Письмо начиналось примерно так: “Как гражданин, как писатель и просто как человек…” Это было ходатайство об отмене смертного приговора. “Кровь – плохой строительный материал”, – писал Иосиф. Он сравнивал нынешнюю советскую власть с другими режимами, в том числе с нацистским и царским. Он проводил параллель между немцами и Советами в их антисемитской направленности. Он рассматривал это как государственную политику и сравнивал с царским режимом, установившим черту оседлости. Он писал, что народ достаточно натерпелся и незачем добавлять еще смертную казнь. Ясно было, что, если Иосиф отправит это письмо, он сильно рискует своей свободой. Размеры этого риска стали предметом яростного спора два дня спустя.
А пока что Ромас заспорил с Иосифом о чисто юридической стороне вопроса. Он сказал, что Иосиф ошибается, полагая, будто в Уголовном кодексе нет ничего о смертной казни только лишь за намерение совершить преступление, и зря пишет, что ни в одной стране намерение не приравнено к совершению преступления. Иосиф возражал и достал книжку Уголовного кодекса. Ромас несколько минут ее листал и наконец нашел раздел, доказывавший, что намерение приравнивается к деянию. Иосиф сдался. Ромас сказал, что так обстоит дело во всех странах, унаследовавших кодекс Наполеона (с любыми вариациями). Иосиф ответил, что обычно не читает Уголовный кодекс (тем более что в глазах власти это пустая формальность), но специально его достал, чтобы проверить. Это было характерно для него – отыскать неправильный вывод в требуемом источнике: настолько тверды его мнения относительно того, как должно все обстоять. Оба они, кажется, были согласны в том, что процесс возник из-за провокатора, поскольку обычно газеты сообщали что-то не раньше, чем после месяца проверок, а тут отрапортовали на следующий день. Они размышляли, кто из двоих, приговоренных к смерти, мог быть провокатором. Пишу об этом как о характерной черте советской психологии, а не как о факте, касающемся подсудимых.
Начиная с этого момента мы стали еще больше тревожиться за будущее Иосифа. Все, похоже, подтверждало впечатление, возникшее у нас уже при первой встрече: мы сразу поняли, что, если Иосиф останется в СССР, он рано или поздно окажется в тюрьме, подтвердив этим правоту тех его земляков, которые говорят, что кто однажды попробовал тюремной похлебки, тот будет есть ее снова.
К нашему громадному облегчению (хотя это не положило конца спорам), почти немедленно выяснилось, что советское правительство “великодушно” заменило смертный приговор тяжелейшими работами в лагерях. (Тогда никто и не догадывался, что результатом этого станут тюремные дневники Кузнецова, которые вывезет из страны жена Сахарова Елена Боннэр, и что в конце концов Кузнецова неожиданно вызовут и вместе с несколькими другими заключенными обменяют на российских шпионов, после чего он будет жить в Израиле.) Несмотря на напряженность, Новый год удался на славу. В первый раз нам довелось как следует рассмотреть “родительскую” часть квартиры Иосифа. Все приготовила его мать. Горела люстра в стиле Тиффани, стол украшали лучшая хозяйская посуда и столовое серебро, в нашем распоряжении были вино, шампанское, виски, джин и самые разнообразные закуски. Пришли Андрей Сергеев, Чертковы, Томас Венцлова и его жена Эра (с которой Иосиф был нарочито вежлив, поскольку недолюбливал ее за ее прошлое). Иосиф не мог говорить ни о чем, кроме своего одиночества и отсутствия прекрасной мисс Икс – почему мы не привели ее с собой? (Ответ состоял в том, что она не хотела связываться.) Позже мы с ним сильно расчувствовались, но Чертков превзошел нас обоих – он обнимал и целовал меня, и все это происходило в алкогольном тумане, рассеявшемся лишь тогда, когда Чертков опрометью кинулся в туалет и его вывернуло в унитаз.
Известие о том, что смертный приговор отменен и ему не надо отправлять письмо Брежневу, Иосиф принял с облегчением. Тем не менее мы вели пьяные споры о “жизни в клетке” и о том, что лучше – быть в клетке живым или мертвым (тут пришлась кстати “Малоун умирает”, которую Иосиф только что прочел и которая произвела на него чересчур сильное впечатление). Я сказал, что лет пять назад она и меня наверняка вогнала бы в депрессию, но теперь, когда в моей жизни появилась Эллендея, ничто не может произвести такой эффект. В 11.55 он поставил Баха, после чего мы слушали записи из Вудстока и “Abbey Road”. Мы налили себе “Матеус”, что было довольно необычно, и чокнулись за Новый год – Иосиф по-прежнему был без пары и очень выразительно сокрушался по этому поводу. Эллендея сдалась и позвонила мисс Икс. Иосиф поговорил с ней в шутливом тоне, но она отказалась прийти. Потом Иосиф отправился с нами в гостиницу, и позже мы звонили ей, когда она была уже у него. Так что в итоге его старания увенчались успехом и он получил полное право утверждать (хотя говорил это и раньше), что у него еще никогда не было такой замечательной встречи Нового года.
На 1 января 1971 года нас пригласили к Ромасу, где вновь собралась примерно та же компания: Чертков, Томас, Ромас и его очаровательная жена из Средней Азии. Они жили очень далеко от центра, и нам пришлось долго ехать на электричке, причем на часть пути Иосиф отказался брать билеты. Мы спросили, что он будет делать, если нас поймают, и он ответил: “Пущу в ход все свое красноречие, чтобы избежать штрафа”. Штраф составлял всего один рубль, но это все равно было плохо, признал он, поскольку он только что принял решение не врать целый год. Когда мы стояли между громыхающими вагонами, в холодном тамбуре с железными дверьми и маленькими заледеневшими окошками, Иосиф сказал: “Типичная для России картина – железные двери, мы их обожаем”.
Первая часть вечера прошла без инцидентов. Однако когда спиртное было выпито и мужчины собрались в спальне, физическая и метафизическая температура стала подниматься. Завязался серьезный разговор, и одной из основных его тем оказалось письмо Иосифа, которое уже не надо было отправлять. Стоило ли ему вообще его писать, и если бы он его отправил, к чему бы это привело? Иосиф сказал, что получил бы за него пятнадцать лет, Томас сказал, что восемь, а Чертков презрительно возразил, что не больше трех, а то и вовсе пожурили бы да отпустили. Иосифа это сильно задело. Он заявил, что даже одна казнь лишила бы его жизнь смысла. Ну и глупо, сказал Ромас. Принялись обсуждать, что лучше – поиск компромиссов или моральная непреклонность, причем Иосиф стоял за единичный честный выплеск абсолютного добра, каковым считал свое письмо. Заговорили о чести – было сказано, что само понятие чести появилось в СССР лишь в последнем десятилетии и до сих пор остается большой экзотикой. Когда Иосифа спросили, что он собирается делать, если не хочет предпринимать мелкие шаги ради улучшения ситуации в СССР а-ля Солженицын, он ответил: “Просто быть честным”.
Чертков сердито сказал, что его не трогают подобные письма и вообще вся так называемая либеральная интеллигенция. Иосиф поставил перед ним вопрос ребром. Если к тебе придут и скажут: “Мы собираемся убить двадцать пять человек – ты с нами или против нас?”, что ты ответишь – что тебя это не трогает? Откажешься принимать чью-то сторону, устранишься? Чертков сказал, что это глупый вопрос. Остальные поддержали Иосифа, согласившись, что это не чисто умозрительная проблема. Когда речь идет о справедливости, сказал Иосиф, ты должен быть за или против, а не воздерживаться. “Пусть я говно, но, с моей точки зрения, жизнь учит нас цинизму, – сказал Иосиф, прижав руки к груди. – И главное – не научиться ему”. “Ну и что ты с ними сделаешь?” – спросил Чертков. “Постараюсь быть честным”. Это напоминало солженицынское “жить не по лжи” и новогоднее решение самого Иосифа.
“На наших либералов жалко смотреть, – сказал Иосиф. – Коммунизм – это кот. Если ты теперь во имя справедливости не выступишь против него активно, он тебя просто съест, сожрет”. Поэтому, сказал он, чертковское безразличие ему не поможет: в конце концов он все равно окажется в пасти кота. Томас поддержал его. Коммунизм – это тоталитаризм; все выразили свое согласие с этой мыслью, не жалея голосовых связок (в какой-то миг Ромас даже тревожно показал на стены и предупредил остальных, что они тонкие). “Здесь вам не Чехословакия”, – сказал кто-то, и все рассмеялись. Чертков сказал, что даже самая худшая диктатура не может держаться вечно – большинства из них хватает максимум лет на двадцать. Иосиф спросил, действительно ли лучше быть мертвым, чем красным, и сам же ответил: “Да”. Все остальные сказали, что нет. Чертков сказал: если ты так уж этого хочешь, пойди возьми пулемет. Ладно, отозвался Иосиф, давай мне его хоть сейчас. Тоже глупо, язвительно сказал Чертков, почему бы в таком случае не сжечь себя на улице, как тот парень, Палах? Тогда хоть твой последний поступок будет что-то значить и окажется полезным. Или лучше убить кого-нибудь из власть имущих? “ Ты имеешь в виду отнять жизнь у другого человека?” – сердито спросил Иосиф.
Кто-то из остальных сказал, что есть разные виды коммунизма. Иосиф не согласился, возразив, что ему известен только один. “Я узнаю его, когда вижу, и лучше быть мертвым”. Чертков: “Зачем нагромождать одну нелепость на другую?” Иосиф: “Иногда нагромождением одной нелепости на другую можно добиться чего-то хорошего”. Чертков: “Искусство важнее; через пятьсот лет вся эта пропаганда и разоблачение зла покажутся читателям глупостями”. Иосиф сказал, что верно как раз противоположное: в искусстве важнее всего идеи. Чертков сказал, что нет, идеи убивают искусство. Иосиф: “А «не убий?»” Чертков: “Эта идея убила больше народу, чем любая другая”. Иосиф спросил, что он имеет в виду. Чертков ответил: “Инквизицию”. “Ну да, конечно, – сказал Иосиф. – Ты еще про крестовые походы вспомни”.
Не помню, как в эту дискуссию вкрались Вьетнам и движение “Власть черным”, но это случилось, и споры стали еще более неистовыми. Явно намекая на какие-то хорошо известные недавние дебаты, Чертков сказал Иосифу, что при его позиции по двум этим вопросам у него вообще нет права распространяться о справедливости. Иосиф возразил, что он просто шутил. Чертков сказал, что для шутки это слишком часто и упорно возникает в их разговорах. И было ясно, что Иосиф не воспринимал это как шутку ни тогда, ни потом. Полушутя Иосиф сказал, что если бы сейчас в комнату вошел негр, он бы его не убил. Однако раньше он цитировал заявление американских правых о том, что превратить Вьетнам в автостоянку было бы лучшим решением для этой страны. Он не соглашался с тем, что китайцы и вьетнамцы – враги от природы; он видел в этом конфликте прямое столкновение между силами добра (США) и зла (коммунизм в Китае и на юге).
Уже ближе к концу этого долгого, горячего, сердитого и принципиального спора, во время которого Иосиф с Чертковым порой буквально рычали друг на друга, Томас – как обычно, воплощение спокойствия и рассудительности – сказал во всеуслышание, что все это “студенческие разговоры”. Он очень хорошо сформулировал точку зрения обеих сторон. А потом, когда мы уезжали, он сказал мне: “Мы такие со времен декабристов, но они, в отличие от нас, отважились на большее”. Затем, когда мы были еще в прихожей, Иосиф сказал мне: “И все равно, справедливость важнее искусства, важнее всех пушкиных и набоковых. Новые пушкины и набоковы обязательно еще родятся, а вот справедливость можно будет найти не всегда”.
На этом дружба между Иосифом и Чертковым не прекратилась, но их отношения стали весьма натянутыми, и они, по всей видимости, еще долго не говорили ни о чем серьезном. Их спор был принципиальным, а мы нередко убеждались, что в России подобные разногласия могут положить конец даже настоящей дружбе. Итог мог быть разным, от полного молчания до решения никогда больше не видеться друг с другом, но мы заметили, что здесь такие ссоры происходят гораздо чаще, чем у нас на родине. В очередной раз нам дали понять, насколько слабо развита у русских идея терпимости и насколько мы, наивные и уверенные американцы, от них отличаемся. Для нас оставшиеся после беседы разногласия так же нормальны, как соль на столе, но для русских неразрешенные противоречия зачастую означают дальнейшее молчание в телефонной трубке и конец взаимной откровенности. На смену терпимости пришло презрение, и хрупкие контуры свободного общества грозили распасться. Русские не хотели согласиться с тем, что самое незначительное в человеке – это его взгляды.
Еще одной причиной частых размолвок Иосифа с друзьями было его хроническое неумение общаться с людьми в группе. Хотя это нельзя назвать правилом без исключений, Иосиф не проявлял – и не проявляет – себя с лучшей стороны, попадая в большие коллективы (выступления на публике не считаются). В пестрой компании он обыкновенно демонстрирует свои худшие качества – бестактность, задиристость и полное неуважение к чувствам и мнениям остальных; этому найдется множество свидетелей по всей Северной Америке. При этом близко сходиться с людьми Иосиф тоже всегда умел как никто. Один или в обществе двух-трех знакомых он обычно бывает очень хорош – спокоен, открыт и красноречив. Отчасти поэтому мы и подружились – в тот раз он был интеллектуально свободен, не стремился ни нападать, ни защищаться. Несомненно, своим успехом у женщин он частично обязан этой способности обращать все внимание собеседницы на что-нибудь одно, концентрируя и притягивая его как магнитом.
Описанное мною выше было, пожалуй, самым насыщенным и важным как в дни того нашего пребывания в России, так и во время других приездов. Как правило, мы продолжали обсуждать самые разнообразные проблемы, вызывающие взаимный интерес. Поскольку я работал над темой советских взглядов на американскую литературу (реальных, а не декларируемых печатно), это часто становилось предметом обсуждения везде, куда бы мы ни поехали, а в России частенько выходило за узкие литературные рамки. На заднем плане всегда смутно маячило сравнение Америки с Россией. И с самого начала, как я писал Демингу Брауну, нас сбивало с толку и раздражало обычное русское отношение к “истинным” американским ценностям в том смысле, в каком понимали их мы, либералы. Именно “либерально” настроенные русские, диссиденты, вынуждали нас отстаивать наше право быть против Вьетнамской войны с таким проамериканским пылом, что мы удивлялись сами себе.
Во время поездок в Россию я сотни раз задавал вопрос “Верите ли вы в абсолютную свободу слова?” и лишь однажды получил в ответ решительное и безоговорочное “да” – от переводчика Фицджеральда. Во всех остальных случаях мне отвечали утвердительно, но затем выдавали перечень оговорок и ограничений, подробно объясняя, почему эти исключения так необходимы для истинной свободы слова. Солженицын все еще занимается этим и сейчас.
По мнению Иосифа (высказанному около 1970 г.), главной особенностью американской литературы можно считать “жажду справедливости”: в ней подразумевается, что каждый человек ответствен за свое прошлое, настоящее и будущее и что он способен повлиять на ход вещей. Поэтому краеугольный камень нашей литературы – “Моби Дик”, его характеры и сюжетные линии просматриваются во всех остальных значительных произведениях, особенно у Фолкнера. В русской же литературе, особенно у Достоевского, главная идея – обретение покоя, а не действие. В отличие от американца, русский движется от сомнений к покою (я спросил: “То есть от Ставрогина к Зосиме?”, и он ответил, что да, вместе с Иовом). Для русских в их литературе важно православие, утверждающее, что беды происходят по Божьей воле, которая должна быть исполнена, и т. д.
Любимым американским писателем Иосифа был Фолкнер (то же самое можно сказать и о Довлатове, Алешковском, Соколове и многих других писателях примерно того же поколения – все они при этом любили Достоевского, кто больше, кто меньше). У Иосифа была особая причина любить Фолкнера, поскольку он часто получал информацию о нем от своих друзей. Некоторые из самых важных произведений Фолкнера переводил его хороший московский друг Мика Голышев. Хотя до конца пятидесятых Фолкнера в России не признавали, ко времени нашего с Иосифом знакомства он приобрел большую популярность – впервые вышли “Свет в августе” и другие романы, оказавшие огромное влияние на многих писателей. Надо заметить, что Иосиф не слишком любил читать длинные прозаические произведения в оригинале, по-английски, а потому во многом полагался на переводы, как в пору своего пребывания в России, так и (насколько это было возможно) в первое время после отъезда. Чаще всего он таскал из нашей библиотеки именно номера журнала “Иностранная литература”.
Как и на многих наших друзей в России, на Иосифа произвел большое впечатление выход в свет “Всей королевской рати” Роберта Пенна Уоррена в переводе Голышева. Иосиф утверждал, что эта книга произвела революцию в современной русскоязычной прозе, что она представляет собой нечто совершенно новое для советской литературы. По его словам, ее трудно было переложить на язык современной прозы, и Голышеву пришлось изобрести свои приемы и выражения. Я спросил, что он имеет в виду – не то же ли самое, о чем говорил Пушкин по отношению к сделанному Вяземским переводу “Адольфа” Констана? Ну да, сказал Иосиф, только тут есть разница: в этот раз надо было не столько восполнить пробелы в своем языке, сколько отобразить истинную современность. Почти то же самое он говорил о стихах Фроста в переводах Сергеева: что это не просто переводы, а строительство целого нового мироощущения, нового сознания для советского читателя (“хотя и со слабыми рифмами”). Пусть о справедливости (и даже смысле) этих высказываний судят другие; нам же с Эллендеей казалось, что причины восторга, вызванного “Всей королевской ратью”, следует искать скорее в политике, чем в языке. Русские немедленно увидели параллель между лицемерием их собственных властей и опасностями, которые кроются в стремлении бороться за победу какой бы то ни было идеи. Всех поразило то, что этот роман пропустила цензура.
Примерно в то же время Иосиф открыл и Кавафиса – его книгу он держал у своей кровати вместе с Уорреном. Очевидно, первым ему привез Кавафиса Тео Ставру. Классические аллюзии, Александрия и так далее отвечали тяге Иосифа к традиции (гомосексуальные мотивы тут ни при чем, ибо Иосиф был решительно гетеросексуален и оставался таким даже позднее, в Англии и Америке, где его нередко пытались соблазнить окружающие поэты, что его чрезвычайно забавляло).
Что касается популярной культуры, то и здесь он был настроен очень проамерикански. Говорил, что “Самый длинный день” – лучший из всех фильмов, которые он видел (конечно, на закрытом просмотре). Идея Сопротивления была важна для него и его сверстников – в Советском Союзе так редко поднималась тема сопротивления злу, что русские очень ценили ее в иностранных фильмах. По той же причине он и многие другие обожали вестерны: ведь в них торжествовала так называемая “мгновенная справедливость”.
В области русской литературы ХХ века фигурой, важной для Иосифа во многих отношениях, была Анна Ахматова. Она связывала его с истинной русской культурой прошлого и была в конечном счете его учительницей – она посвятила его в поэты, назвала связующим звеном с новым поколением, и так далее. Он рассказал, что впервые они встретились 6 августа 1962 года. Тогда он еще не читал практически никаких ее стихов (их познакомил общий друг). Однако она читала написанное им и сказала, что не понимает, как человеку, пишущему такие стихи, может нравиться ее творчество. Он уклонился от постыдного признания. К следующей их встрече он уже исправился, и “на сей раз все прошло как положено”. Впрочем, я не уверен, что он действительно так уж любил ее стихи… Вскоре Иосиф стал одним из “ахматовских мальчиков” – это время он вспоминает с большой гордостью. Подарок Ахматовой, ее книга с надписью (примерно) “Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне прелестными”[10], стала одним из краеугольных камней, на которых зиждется его репутация. Роль таких моментов в построении карьеры трудно переоценить. В биографии многих поэтов бывают подобные события, которые впоследствии выглядят как передача факела – вспомните посвящение Жуковского Пушкину после выхода “Руслана и Людмилы”. Гораздо позже, в Америке, Иосиф признался мне, нескромно пожав плечами: “В конце концов, мы были элитой”. Думаю, для него это было очень важно, особенно с учетом всех перенесенных им страданий, и это страстное желание принадлежать к элите осталось с ним навсегда.
Еще я спрашивал Иосифа о поэтах, писавших прозу, особенно романы. Он не разделял мнения, что русские одинаково талантливы в обеих областях, то есть не считал Белого хорошим поэтом, а Пушкина – хорошим прозаиком (оставляя в стороне “Капитанскую дочку”). Впрочем, для Лермонтова он делал решительное исключение. По его словам, поэты хотят поспеть сразу везде, поэтому и берутся за романы. Стоит им выработать свой поэтический стиль, как у них появляется желание перейти к прозе. Поскольку мы говорили обо всех подряд, я спросил и о Чехове. Иосиф сказал, что для него он абсолютно ничего не значит.
Мы сказали Иосифу, что посетили вечер Беллы Ахмадулиной. Он страшно помрачнел – было очевидно, что он крайне невысокого мнения о нашем вкусе и что его снедает профессиональная ревность. “Кто дал вам билеты?” Мы ответили, что Копелевы. “Ну и зачем было туда ходить?” Потом он пробормотал в адрес Копелевых что-то оскорбительное и отвернулся с саркастическим “поздравляю”. Мы никогда не слышали от него ничего хорошего ни о ней, ни о ее стихах, и в 1977-м, когда в “Воге” появилась его хвалебная статья, это нас крайне изумило. Мы слышали, что, встретившись с ней в Нью-Йорке, он держался чрезвычайно любезно.
Копелевы служили для Иосифа источником постоянного раздражения. Он считал их глупыми либералами, и хотя обычно обходил эту тему молчанием, по крайней мере однажды спросил, есть ли у нас хоть слабое представление о том, какую роль сыграла Раиса в литературе республик. Поскольку в откровенных мемуарах Раисы изложена вся печальная история той поры, когда она искренне верила в правоту коммунизма, здесь нет нужды что-либо объяснять. Позже мы узнали еще и о его долгом споре со Львом насчет превосходства англосаксонской культуры, особенно поэзии, над всеми прочими культурами, в первую очередь немецкой, которую Иосиф почти ни во что не ставил (хотя и признавал, что “неповторимо” в конце его стихотворения “Зимним вечером в Ялте” – парафраз “Фауста”). Очевидно, спор с Копелевым возник в связи со стихотворением Иосифа “Два часа в резервуаре”, пересыпанном немецкими словами. Лев – очень внушительная личность и большой эрудит, и он заставил Иосифа вместе с его другом Сергеевым уйти в оборону. Разумеется, была здесь и доля ревности. Копелев – энергичный активист, у него множество друзей, он провел долгое время в заключении и имел репутацию, которую трудно было подкосить вне зависимости от того, разделяли вы его взгляды или нет.
Как правило, по отношению к бывшим сталинистам и убежденным левым Иосиф был неумолим.
Еще с малолетства он знал по собственному опыту, что все, во что они верили, – огромная ложь, которая привела к порабощению его родины, и полагал, что любой разумный человек должен понять это с самого начала. Он никогда не пытался представить себе, что было бы с ним самим, если бы он родился раньше и прошел через все, выпавшее на долю Копелевых. К членам партии он не питал практически никакого сочувствия. Мне до сих пор кажется, что точку зрения Иосифа можно понять, однако великодушия в ней было мало.
Хотя сам я не видел в этом ничего оригинального, Иосиф сказал, что лучший вопрос, который он слышал от иностранца, – это почему поэты, особенно русские, так любят тему сумасшествия. Сумасшествие, ответил он, равняется анархии. Нельзя карать юродивых (Божьих шутов), сказал он, хотя теперь их уже нет и мы больше не верим, что их устами глаголет Бог. Все равно безумцев наказывать нельзя. Он рассказывал о разных случаях из поры своего пребывания в сумасшедшем доме, где, по его словам, он узнал много интересного. Многие там притворялись или преувеличивали свое безумие. Один из них, которого потом признали здоровым, был жестоко избит санитарами за то, что сунул тарелку с кашей в лицо их товарищу. Других, настоящих больных, тоже избивали и загоняли под холодный душ. То, что самому Иосифу прописывали болезненные уколы, теперь уже общеизвестно.
Весь остаток 1971 года после того новогоднего визита нам приходилось довольствоваться не слишком вдохновенной перепиской. Иосиф никогда не отличался особым талантом в эпистолярном жанре, да и мои письма к нему были по большей части продиктованы стремлением поддержать контакт, заверить его в нашей неизменной симпатии и развлечь шутками, каламбурами и стишками вроде тех, какими мы баловались вместе на досуге. Мы сообщали ему о том, что касалось наших совместных издательских планов, и говорили про общих друзей, к примеру:
А если серьезно, Джордж [Клайн], Э. и я долго и с любовью говорили о тебе. Он показывал твои фотографии – одна, на фоне северного леса, вызвала у Э. слезы, а у меня злость… В письме ты говоришь о недавнем унынии. Ты должен убить “Малоун умирает”. Не могу посоветовать, каким именно оружием, но надо, вообще человеку надо. Если ты можешь отослать от себя часть уныния в письмах, шли нам. Мы вынесем, потому что радостей у нас больше, чем мы заслуживаем.
Этот отрывок моего письма ему сентиментальнее обычного, но причина, очевидно, в тогдашних настроениях Иосифа. Мой черновик не датирован, но письма Иосифа от 24 июня и 6 ноября 1971 г. дают представление о нашей переписке в том году.
[Поскольку правопреемники Бродского дали разрешение лишь на публикацию отрывка из этого письма (которое местами весьма трудно понять, ибо Бродский пишет по-английски смело, но порой очень неправильно), я вкратце изложу его содержание: Иосиф сообщает, что у него взяли анализы крови, соглашается с замечанием Карла относительно строчки, выброшенной из “Горбунова и Горчакова”, говорит нам, у кого в Англии можно взять фотографии Ахматовой; сочиняет неуклюжий, но забавный лимерик; пишет, что не будет сниматься в кино; что завел себе кота, назвал его Иосифом, а затем обнаружил, что это кошка; он заканчивает письмо признанием, что у него депрессия. Вот свидетельство этой депрессии:
Заканчивая это письмо, я снова чувствую грусть… Как бы там ни было, хочу сказать, чтобы вы помнили всегда, так как вижу, что буду все реже и реже пользоваться этим словом: я, правда, люблю вас, всем сердцем, всей душой и всем, что еще осталось от ума… Потому что на ваших лицах написано больше, чем можно написать на бумаге. Простите. Примечание Эллендеи Проффер Тисли]
В эту пору началась еврейская эмиграция из Советского Союза в Израиль, но хотя Иосиф и был евреем, он считал себя русским. Это казалось нам совершенно естественным, поскольку было справедливо почти для всех, кого мы знали, начиная с Надежды Мандельштам. Для нас Иосиф и все остальные были просто русскими – это была их культура, их язык, и нелепая графа в советском паспорте, определяющая их как евреев по национальности, всегда казалась нам дикой и не имеющей никакого отношения к реальной жизни. Эти люди вспоминали, что они евреи, только когда сталкивались с антисемитизмом. И в литературном, и в религиозном смысле взгляды Иосифа формировались в основном под влиянием христианских источников.
В любом случае Иосиф не хотел уезжать из страны как еврей. Это было не для него, а то, что он уже заслужил известность как поэт, лишь усугубляло его неохоту двигаться по этому пути. В начале семидесятых вообще очень бурно обсуждалась проблема этичности эмиграции. К 1972 году и в самиздате, и чуть ли не на каждой кухне в крупных городах успели как следует поспорить о том, хорошо ли это – покидать родину. Иосиф не имел твердого мнения на этот счет, но то, как ты уезжаешь, было важно.
31 декабря 1971 года Иосиф получил официальное приглашение от якобы проживающего в Реховоте “Иври Иакова”, дающее ему разрешение на въезд за № 22894/71. Но он не воспользовался этим приглашением и не стал одним из многих тысяч евреев, уехавших из России на Запад в 1971 году.
В апреле-мае 1972 года (как раз перед визитом Ричарда Никсона, во время которого разрядка напряженности между нашими странами получила окончательное оформление) мы с Эллендеей совершили важную поездку в СССР, занявшую целый месяц. Благодаря этому мы оказались в Ленинграде как раз в самые важные для Иосифа дни, и решения, принятые тогда, повлияли на наши судьбы на много лет вперед.
Непосредственно перед тем, как мы появились в Москве (это случилось 26 апреля), впервые в сопровождении трех моих сыновей, Эндрю, Кристофера и Иэна, произошло несколько важных событий. В октябре Сахаров сделал публичное заявление, суть которого сводилась к призыву дать гражданам право на эмиграцию. В самом конце предыдущего года умер Твардовский, и появление Солженицына на его похоронах наделало много шуму. В январе судили Буковского, и в следующие месяцы по стране прокатилась волна обысков и арестов – это были согласованные действия властей, решивших убрать с дороги всех потенциальных возмутителей спокойствия. Одних арестовали, других призвали в армию, а кому-то заплатили и велели на время приезда Никсона убраться подальше из Москвы и Ленинграда. Я и по сей день считаю, что случившееся с Иосифом объясняется этой чисткой перед никсоновским визитом. Если уж ленинградские власти могли ради Никсона в один присест заасфальтировать заново чуть ли не весь Невский проспект, то избавиться от нескольких “паразитов”, состоящих в контакте с иностранцами, было для них и вовсе плевым делом.
Мы прибыли в Ленинград 9 мая. Наш поезд пришел в восемь вечера, и встречаться с Иосифом было уже поздно. Однако на следующее же утро мы явились к нему, и произошли сразу два важных события: об одном он нам рассказал, а другим был телефонный звонок, прервавший нашу беседу. Сначала он заявил нам, что вот-вот женится на Y., студентке-американке, приехавшей в СССР по обмену. Мы спросили, любит ли он ее. Да нет, это будет фиктивный брак – когда он выберется отсюда, они будут просто друзьями и выполнят лишь то, чего требует закон, чтобы ему остаться в США. Кажется, посреди этого разговора и зазвонил телефон. Мы не могли определить, с кем говорит Иосиф, но трубку он повесил с ошеломленным видом. Это было приглашение от КГБ, то есть из ОВИРа, объяснил он; его вежливо спросили, найдется ли у него время на то, чтобы зайти к ним поговорить сегодня после обеда. Что это значит? Связано ли это с чисткой перед визитом Никсона? А может, с приглашением из Израиля? Или тут пахнет чем-то гораздо более зловещим? Иосиф растерянно повторял: “Так не бывает”. Он предложил нам заглянуть к нему вечером, чтобы узнать, чем кончится дело. Мы вместе пошли на автобусную остановку, продолжая по дороге обсуждать его затею с мисс Y. По случайности мы были с ней немного знакомы и считали, что она совершенно не годится Иосифу в невесты. Откуда он знает, спросили мы, что, выйдя за него замуж, она действительно будет считать этот брак фиктивным и после отпустит его на свободу? Да, согласился он, может и не отпустить. Мы полагали, что вероятность такого исхода весьма высока. Если уж он хочет выбраться из России таким способом, у нас есть другие знакомые американки, более подходящие и для него самого, и для фиктивного брака. Хотя мы скрывали это от Иосифа, его замысел нас чрезвычайно расстроил: мы были уверены, что он приведет к катастрофе. Однако мы опасались, что, если будем чересчур напирать, он решит, что должен настоять на своем. В любом случае было ясно, что, в отличие от его британской подруги Фейт Уигзелл, эта девица ни в коей мере не является горячо любимой дамой сердца и ипостасью поэтической музы.
Когда мы встретились снова, Иосиф был весьма озабочен. “Что мне теперь делать?” – спросил он, когда мы сидели в его комнате (наши фотографии с ним и детьми сделаны в этот день). Все просто, сказал я, будете поэтом при Мичиганском университете. Я понятия не имел, как этого добиться, но решил, что надо поддержать в нем уверенность. Даже Эллендея глядела недоверчиво; она знала то, чего не знал он, – даже на нашем отделении, может быть, только двое-трое прочли стихотворение Бродского, и как они отнесутся к тому, чтобы он стал их коллегой, предугадать было невозможно. Так или иначе, Иосиф все равно был обеспокоен предстоящим и, опасаясь, что комната прослушивается, предложил пройтись.
И вот мы – Иосиф, Эллендея, Эндрю, Кристофер, Иэн и я – отправились на долгую утомительную прогулку от дома Иосифа, через Неву, к Петропавловской крепости, прославленной пушкинским описанием в “Медном всаднике”, а еще тем, что служила тюрьмой для русских писателей (Достоевского, Чернышевского, Рылеева, Кюхельбекера и Горького – если упомянуть хотя бы немногих). Конечно, Ленинград не в первый раз видел фрисби, но все равно, наверное, было странно наблюдать, как столько людей перебрасываются этой штуковиной в разных местах города и внутри крепости, неподалеку от великолепного собора, где похоронены цари начиная с Петра Великого и до Александра III. На нас обращают внимание, а Иосиф, быстро меняя позиции вдогонку за улетающей тарелочкой, проверяет, нет ли хвоста. В конце концов он проводил нас через внутренность тюрьмы на крышу крепости. Мы перебрались через стены и по ветхой крыше к угловому бастиону, где, по словам Иосифа, он провел много часов. Отсюда можно было смотреть на загоравших под стеной у Невы и можно было разговаривать, не опасаясь чужих ушей.
В этом странном месте мы обсудили все проблемы, которые могли возникнуть в ближайшие несколько недель. Десять дней, которые первоначально обещали Иосифу в ОВИРе, растянулись на месяц. Его собирались выпустить в первую неделю июня (после отъезда Никсона), и это делало предложение ОВИРа более подозрительным. Тем не менее мы исходили из того, что оно реально, а потому поговорили о том, что мне надо будет сделать, когда вернемся в Энн-Арбор, и как мы сможем обсуждать результаты по телефону (придумали кодовые слова для ключевых понятий). Эллендея и я пообещали, что с того момента, когда он прибудет в Вену, о нем позаботятся – по всей вероятности, я сам прилечу в Вену, чтобы его встретить. Если повезет, меня официально откомандирует университет, но если нет, я все равно прилечу. Формальности, наверное, будут сложными (насколько долгую и гнусную волокиту устроят наши бюрократы, мы себе тоже не представляли). Мы размышляли о его будущем: тогда да и потом я говорил, что в первый год или два особых проблем не возникнет, бояться русской знаменитости надо того, что будет после, когда притупится новизна, уляжется шум и забудутся его расхождения с властью.
15 мая мы вернулись в Москву ночным поездом, и Иосиф прибыл как раз вовремя для того, чтобы проводить нас и в последний раз сверить наши коды и запланированные звонки (как мы узнали 17-го, в ОВИРе Иосифу сказали, что его виза на выезд будет готова через неделю). Как обычно, при отлете из Шереметьева мы испытывали странную, почти невыносимую смесь печали (за себя и наших друзей) и радостного облегчения (поскольку эти пулеметы оставались позади). Такие моменты всегда были воплощением нашей связи с СССР, в которой сочетались любовь и ненависть. Вместе с нами летела футбольная команда из какой-то европейской страны, так что ответом на стандартное довольно ироническое сообщение из кабины пилота “Сейчас мы покидаем территорию Советского Союза” было более громкое “ура”, чем обычно. Мы не знали, что в тот самый день Иосифу дали выездную визу. Как только мы добрались домой, я немедленно стал убеждать руководителей Мичиганского университета, что они должны принять на работу “приглашенного поэта” из России. Я не знал, что в последний раз это случилось примерно тридцать лет назад и что предшественниками Иосифа были Роберт Фрост и У. Х. Оден.
В аэропорт в Вене я приехал заранее и проверил все выходы, смутно воображая какую-то провокацию со стороны КГБ и желая быть к ней готовым. Прилетающие пассажиры и их багаж отделены от залов ожидания, банков, магазинов и такси высокой стеклянной стеной. Но когда подошло время прибытия рейса из Будапешта, я залез на крышу и подошел к самому ее краю, чтобы лучше видеть большие автобусы, везущие пассажиров из самолетов, совершивших посадку. Было воскресенье, 4 июня, и самолет сел более или менее вовремя, в 5.35. Когда автобус подъехал к зданию, я увидел Иосифа за окном, и он меня увидел. Он показал два пальца буквой V. Внизу произошла десятиминутная задержка – затерялся один из двух его чемоданов – первое из механических препятствий, тормозивших наши дела в последующие дни. Появился Иосиф, мы обнялись. Оказалось, что его встречала еще Элизабет Маркштейн с мужем – венка, имевшая прочные связи с Россией. Я сел с ним в такси, в пути он нервно повторял одну и ту же фразу: “Странно, никаких чувств, ничего…” – немножко как сумасшедший у Гоголя. Изобилие вывесок, говорил он, заставляет крутить головой, его удивляло разнообразие марок машин. Он говорил: так много всего открывается взгляду, что он не успевает видеть (это он повторял несколько дней). И сказал, что сразу почувствовал в Будапеште, что воздух другой. А теперь оказалось, что и в Вене другой. Мы подъехали к скромному отелю “Бельвью”, ему понравилось название – оно ассоциировалось с Цветаевой. Мы прожили там несколько дней.
Наши венские хозяева были озадачены. Конечно, они многое повидали в этом городе, но в “Бельвью” нечасто снимали номер двое мужчин – один с американским паспортом, а второй с какими-то странными, невразумительными русскими документами. С учетом того, как трудно было Иосифу справиться с обилием и разнообразием новых впечатлений, хорошо, что я не выбрал более изысканное место. Это была маленькая, чистая, уютная привокзальная гостиница с маленьким рестораном. И все равно Иосифа приятно удивляли самые обычные мелочи, от кусков мыла до качества подушек.
Как только мы вошли, он позвонил родителям и разговаривал с ними, наверное, полчаса. Рассказал мне немного об отъезде из Ленинграда, его провожали человек сорок. Документы обошлись ему в тысячу долларов, половина – истинно русский выверт – за лишение советского гражданства! После таможенного обыска в Шереметьеве ему разрешили вывезти 104 доллара. Обыск продолжался часа два. Прощупали каждый шов, проверили по всей длине ленту в пишущей машинке, сломав при этом прижимную планку (эту старую машинку, как выяснилось, подарила ему Фрида Вигдорова). Он кричал на них; они отвечали, что имеют право; тогда, сказал он, пусть обзаведутся инструментами, чтобы этим заниматься. Они забрали его стихи, но он оттягивал отъезд сколько мог, чтобы отпечатать копии и сделать микрофильмы, а потом отослать, как он сказал, с корреспондентом “Таймс”. (Позже Иосиф говорил, что они отправились за границу на самолете Никсона, но это, возможно, одна из тех изящных легенд, которые он не совсем бессознательно породил. Теперь, по прочтении солженицынской истории его изгнания и отлета, явной мистификации, я отношусь к подобным деталям с большим подозрением.) Мы не знали тогда, сколько неприятностей причинит собирание и хранение его стихов людям в Ленинграде: Марамзину, Хейфецу, Эткинду – называю тех, кто пострадал.
В первый же вечер мы посетили Маркштейнов. В то время я не знал о ее коммунистическом прошлом и ее дружбе с Копелевыми. С Маркштейном Иосиф обсуждал свое “прощальное” письмо Брежневу, о котором мне мало рассказывал. Сказал, что в нем содержатся те же идеи, что в неотправленном письме о смертном приговоре Кузнецову. Идея была такая: мы оба когда-нибудь умрем, вы и я. Это будет для него новой мыслью, сказал Иосиф. Настало время, когда сильный не всегда побеждает слабого, писал он и просил, чтобы его имя осталось в литературе и чтобы его родители получили те приблизительно тысячу рублей, которые причитаются ему за переводы. Подчеркиваю: я сообщаю здесь то, что он сказал мне тогда и что я записал в дневнике. Целый текст я так и не прочел и сейчас не проверял, точно ли так у него было написано. Важно то, чт? он рассказал о письме тогда, и то, что он думал. Маркштейн сказал, что он должен опубликовать письмо, но Иосиф ответил: “Нет, это касается только Брежнева и меня”. Маркштейн спросил: “А если опубликуете, оно уже не Брежневу?” Иосиф сказал: да, именно так.
Маркштейны были очень любезны и предложили, чтобы их молодые дочери показали нам Вену. Но по большей части мы были одни и, поскольку впервые могли долго побыть наедине, о многом разговаривали, особенно ночью. Здесь я попытаюсь просто пересказать мысли Иосифа, какими они были сразу после его отъезда из России, и обрисовать то первое впечатление, которое он произвел на меня, впервые очутившись на Западе. Мичиганский университет уже дал обещание позаботиться о нем в ближайшем будущем, и это было важно, однако не отменяло необходимости одолеть все обычные барьеры, препятствующие его въезду в Соединенные Штаты.
Иосиф никак не мог привыкнуть к странностям нового мира – они еще долго не переставали его удивлять и потом, в Америке. Он часто крутил пальцем у виска, как бы показывая, что сходит с ума. “Мне кажется, что я умер, – говорил он. – Жизнь – это борьба не хорошего с плохим, а плохого с худшим”. Изобилие товаров в витринах магазинов на главной торговой улице неизменно вызывало у него растерянность. Он заметил, что в Советском Союзе дистанции между предметами больше, поэтому глазу легче воспринимать окружающее. А здесь у него болела голова. Не мог он привыкнуть и к тому, что пешеходы дисциплинированно останавливаются на красный свет, и упорно перебегал дорогу перед едущими машинами. Еще он заметил, что все “одеваются одинаково и даже выглядят одинаково” – он не мог сказать с первого взгляда, кто перед ним (а в России мог). Он постоянно жаловался, что “не успевает видеть”. Вокруг был слишком большой выбор, его избыток. (В этом он походил практически на всех наших знакомых русских, выехавших из своей страны, и многие бесцеремонно заявляли, что мы живем аморально: зачем тратить силы на производство пяти видов зубной пасты, и т. д.) Когда Иосифу становилось совсем невмоготу, он переходил с английского, на котором я нарочно заставлял его говорить ради тренировки, на русский, чтобы отдохнуть и подзарядить батарейки. “Для терапии”, – объяснял он, или чтобы не терять головы, как мы научились говорить в шестидесятые.
Ночью он спал с раскрытыми окнами, невзирая на громкий шум за окном. Еще мы обсуждали дневные впечатления и то, как они соотносятся с его прошлым в России. “Русские не имеют возможности выбирать”, – сказал он. Единственное, что выбирает интеллектуал в самом начале, – это институт, в который он хочет поступить. После этого остаток его жизни и карьеры оказывается в основном предопределен. Он выбирает институт, учится там, отвечает на вопросы, понимая, что говорит неправду, и его сознание портится навсегда (“в него подмешивают говна”). Ему известны лишь редкие исключения, сказал он, – единицы прошли через это и уцелели, как Сергеев. Но для всех прочих примерно после двадцати пяти единственной областью, где можно выбирать, остаются любовные дела, и именно поэтому практически все наши знакомые разводились как минимум однажды. Еще до своего отъезда из России Иосиф как-то сказал нам, что ему стоит уехать хотя бы по одной причине: если он останется, вся его жизнь до конца будет предсказуема. Иосиф любил преодолевать трудности, а эмиграция поставила перед ним такие сложные задачи, с какими ему еще не приходилось сталкиваться.
В России он не только мог распознать человека по первому взгляду, но, по его словам, обычно еще и проникался к людям неприязнью, “потому что обычно я понимал, кто передо мной стоит”. Но потом, добавлял он, его охватывало чувство вины и жалости к ним, и он старался помалкивать. Короче говоря, он не хотел, чтобы его поймали на дурных мыслях. Ради этого он был готов пойти едва ли не на что угодно (в дальнейшем это осталось одной из его главных черт). Одним из примеров, который он назвал, были те, кто приводил к нему безобразных поэтов с гнилыми зубами, явно сумасшедших. А когда я сказал, что устыдился своей мстительности после того, как пожелал смертной казни Серхану Серхану, он ответил, что нет, это не было низким чувством.
Благодаря этому и другим высказываниям Иосифа у меня сложилось твердое убеждение, что по характеру он одиночка, этакий одинокий волк, хотя у него была уйма друзей и знакомых. К примеру, он не принимал участия в борьбе за права человека и гражданские права, он вообще был противником чуть ли не всех и каждого. Те, кто, подобно Литвинову, сознательно шел в тюрьму, дабы сделать из себя мученика, вызывали у него презрение и негодование. Эти люди, говорил он, знают, за что садятся, знают, чем жертвуют. Больше всего, добавлял Иосиф, его бесит привычное (и полное) отсутствие справедливости для обыкновенных людей. В России нет совершенно никакого понятия о законе и порядке на любом уровне. Вердикт за все уголовные преступления выносится заранее, и начальников почти никогда не осуждают. Так что он приберегал свое сочувствие для обычных людей вроде того старика, которого встретил на этапе, – человека, который ударил председателя колхоза и получил за это шесть лет. Примерно по тем же причинам он терпеть не мог московских интеллектуалов “аэропортовского” типа (по названию станции метро, в районе которой они жили) и их дискуссий об идеях и влиянии этих идей на народ. Там живут люди вроде Межирова – круглый дурак, говорил он, и к тому же никакой поэт. В сочинениях советских поэтов, всех без исключения, отсутствует духовный пласт. Говоря о себе как об изгнаннике, Иосиф ничтоже сумняшеся перефразировал знаменитые слова Томаса Манна: “Где я, там и русская литература”.
Изгнание стало для Иосифа потрясением, вызвавшим реакцию – гнев. Почти всех он называл “блядьми” и “кусками говна”, особенно Евтушенко и Вознесенского. Его избрание в Баварскую академию изящных искусств, газеты, телевидение – все это было говно и неважно. В своей работе человек не должен зависеть от других, говорил Иосиф; надо быть независимым, как он. Позже его отношение к почестям и зависимостям претерпело существенный сдвиг. Он весьма гордился своими разнообразными научными и поэтическими титулами и знаками признания, от членства в “Фи-Бета-Каппа” Мичиганского университета и почетной докторской степени в Йеле (ее организовал Строуб Талботт) до стипендии Макартура и членства в Обществе Гуггенхайма. По меньшей мере дважды – один раз речь шла о журнале “Вог”, другой раз о “Вэнити фэйр” – он хвастался мне размерами своего гонорара, не замечая того, что обе статьи (о поэтессах) чрезвычайно слабы.
Мы обсуждали мнение, высказанное мной во введении в “Советскую критику американской литературы”: главным, что бросилось мне в глаза, когда я переводил русские статьи, были отсутствие логики, неспособность к связному изложению и неумение удержаться в рамках заданной темы. Иосиф согласился, добавив, что русские критики ведут себя как дети – отчасти это наследие советской газетной риторики. Пафос сам по себе приятен, и они с удовольствием в него погружаются. Русскому человеку, сказал он, свойственно верить в то, что его взгляды истинны (особенно это верно для нынешнего поколения интеллигентов, ибо они действительно пришли к некоторым элементарным идеям самостоятельно), и он готов сражаться за них не на жизнь, а на смерть. Русские критики не терпят амбивалентности. В каждом предисловии к каждой книге они отходят от своей темы и принимаются объяснять, на чем стоит мир.
Но он отдыхал душой на классиках – как-то вечером (9 июня) он читал Tristia Мандельштама (один из ардисовских экземпляров, привезенных мной для местных славистов) и не переставая им восхищался. Позже, когда я уезжал, он попросил меня оставить очень разные книги – “Счастливую проститутку” (потом он сказал, что она “забавная”) и “Женщину французского лейтенанта” (которую, я уверен, он так и не прочел ни тогда, ни потом).
Я впервые получил возможность показать Запад одному из своих русских друзей, так что по вечерам, когда заканчивались наши ежедневные баталии, связанные с добыванием визы, я с удовольствием шокировал Иосифа роскошью и пороками прогнившего Запада. Для изучения кулинарных изысков я повел его в отчаянно дорогой ресторан отеля “Бристоль”; чтобы описать поведение Иосифа от вырезки до бренди, не хватит даже известной метафоры “слон в посудной лавке”. Один вечер был посвящен “порно-киноконцерту”, настолько грубому, насколько только может быть грубой поддельная любовь. В другой раз мы отправились на вечернее представление в “Мулен Руж”. Поскольку я уже бывал там лет десять назад, а такие вещи никогда не меняются, я взял столик в главном зале очень близко к выступающим – мимам, фокусникам, акробатам и т. д. Мой замысел сработал блестяще: Иосиф оказался ближе всех к сцене, и фокусник принялся доставать из его куртки и ушей всякие штуковины, включая цыплят, к вящему его изумлению. Он и на следующий день все пытался сообразить, как же это возможно. Акробаты тоже вовлекли его в действие – вытащили на эстраду и заставили сделать стойку на руках на головах двоих из них, а потом один сделал такую стойку у Иосифа на коленях.
Еще мы купили ему сандалии, вельветовые брюки и синюю рубашку с коротким рукавом, что совершенно его осчастливило. Я не записал, в каком хронологическом отношении это находится к фантазии, спонтанно возникшей у него во время нашей прогулки: он хотел покорить всех женщин на улице сию же минуту. Они все должны быть голыми, шутил он; зачем люди вообще носят одежду, тем более если вокруг столько высоких девушек? В Вене Иосиф не мог пройти мимо нищего, не дав ему что-нибудь. Он сказал, что так всегда было и раньше, даже в России. Ни тогда, ни потом мы с ним особенно не обсуждали богословские темы, но для тех, кто интересуется, христианином он был или иудеем, сообщу: он сказал, что Бог ни плох, ни хорош, и повторил вслед за Ахматовой, что христианство на Руси еще даже не проповедано.
Если не считать приключений, связанных с визой, единственными важными событиями в пору нашего совместного пребывания в Вене были наши визиты к Одену. Во вторник я взял напрокат “фольксваген” (весь процесс аренды автомобиля был для Иосифа чудом, так же как и лицезрение меня за рулем, особенно в чужой стране). Мы поехали по автобану в Кирхштеттен, чтобы найти Одена. По дороге мы заплутали и чуть не свалились в лесное ущелье, но потом все-таки отыскали дом Одена – пустой. Мы подождали и наконец увидели, как через поле со стороны железнодорожной станции неторопливо шагает пожилой человек.
Подойдя к Одену, я увидел на его лице испуг – ясно, что немало охотников до знаменитостей осаждало его в жизни, даже в этом отдаленном убежище. Отгоняя меня взмахом ладони, он сказал: “Нет, я занят сейчас”. Насколько мог сжато я объяснил ему, кто я такой, и кто такой этот рыжий поэт позади меня, и какие необычайные обстоятельства привели сюда русского. Он не слушал или не понял, продолжая отмахиваться от нас, как от назойливых насекомых, и Иосиф, покраснев, тянул меня прочь. Я, однако, повторил объяснение на языке “я Тарзан, ты Джейн”. В конце концов Оден понял, что это Бродский из России, которого он переводил и более или менее хвалил. Тогда он все-таки пригласил нас в дом. Но тут не знал, что делать дальше. После некоторого бормотания он угостил нас вермутом (Иосиф своего не допил). Потом стал болтать о “гении Вознесенском”, не слушая реплик Иосифа и предупреждений, что не надо обманываться на его счет. В конце концов Иосиф не мог просто сказать: “Вознесенский – говно”, как обычно. Иосиф был очень расстроен, и, хотя Оден пригласил нас в субботу на обед (его компаньон тоже должен был присутствовать), когда мы отъехали по ухабистой дорожке, Иосиф проворчал, что возвращаться сюда вообще незачем: Оден ничего не понял. Я должен был вернуться в Мичиган, поэтому поехать не мог; что до Иосифа, он, конечно, не захотел бы проявить неуважение к человеку такого калибра, как Оден. Он в самом деле поехал, очевидно понимая, что Оденом нельзя пренебрегать, даже если тот любит стихи Вознесенского. Во всяком случае, вторая встреча, как некогда с Ахматовой, видимо, удалась лучше: в итоге Иосиф и Оден полетели в Англию одним рейсом, и во многих отношениях покровительство Одена было чрезвычайно важно для Иосифа, искренне восхищавшегося английским поэтом.
После неудачной первой встречи с Оденом мы поехали в Линц, где осмотрели самую большую церковь и, сидя под кленом, перекусили невыносимо сладким тортом. На обратном пути Иосиф сказал, что Австрия ему уже надоела. Именно тем вечером я и повел его в “Бристоль” и “Мулен Руж”, но не думаю, что это заставило его изменить свое мнение.
Мне в точности неизвестно, как Иосиф получил официальное разрешение отправиться прямиком в Соединенные Штаты, но я полагаю, что решение сделать для него исключение из правил было принято в Госдепартаменте на более высоком уровне, чем обычно. Однако там старались скрыть этот факт, поскольку не хотели делать ничего такого, что открыто противоречило бы соглашениям, заключенным Никсоном в мае в рамках политики разрядки. Я имею в виду, что присвоение Иосифу статуса изгнанника или политического беженца выглядело бы чересчур вызывающе. Как бы то ни было, я могу довольно точно рассказать, как с нами обошлись в консульской службе американского посольства в Вене, потому что у меня есть сделанные в то время записи.
Утром в понедельник, 5 июня, мы пришли в консульскую службу в первый раз. Дежурная, немка, решительно пресекла наши попытки попасть на прием к кому бы то ни было, занимающему более высокое положение, чем она сама; она ничего не знала ни о каком Бродском, и, по ее мнению, он должен был пройти через все обычные процедуры, установленные для желающих эмигрировать, будь то русские евреи или лица другой национальности, а именно: несколько месяцев ожидания и обмена документами. Я проявил настойчивость, и она предложила нам вернуться после обеда – тогда мы сможем поговорить с вице-консулом. Мы так и сделали. Мистер Джон Сегарс сказал, что они ничего не знают о Бродском. Однако после двадцатиминутных поисков в неведомых сферах он нашел конфиденциальное письмо из Москвы, где сообщалось о скором прибытии Иосифа. Точное содержание письма мне неизвестно, но Иосиф сказал мне, что в середине июня, примерно числа 15-го, в Вену были отправлены дипломатической почтой какие-то бумаги с запросом разрешения на его эмиграцию. К сожалению, в том же документе, по всей видимости, говорилось что-то (не знаю, что именно) и о попытках Иосифа жениться на студентке-американке, приехавшей в СССР по обмену. Сегарс держался весьма осторожно, был неразговорчив и вообще не слишком любезен; он сказал, что должен будет связаться с Москвой непосредственно. Нам придется подождать ответа, каким бы он ни был, как минимум до среды. Мы с Иосифом продемонстрировали ответное недружелюбие, причем Иосифа несколько озадачило то, что Сегарс – чернокожий; видимо, он никак не ожидал очутиться в подобной ситуации лицом к лицу с негром. Оказалось, что в московском посольстве не желали осуществления матримониальных планов Иосифа; так или иначе, теперь, когда он появился здесь другим путем, к нему отнеслись настороженно. Его репутация поэта мало их интересовала. Вдобавок журналисты пока еще молчали, а это делало его притязания на славу сомнительными.
В среду мы явились снова и снова не выяснили ничего полезного. Тем временем я позвонил домой и сказал Эллендее, чтобы она попросила университетское начальство позвонить этому мистеру Сегарсу и сообщить ему, что осенью Иосиф должен занять место приглашенного поэта и в связи с этим для него желательно сделать исключение. Не знаю, удалось ли им пробиться туда напрямую, но в конечном счете усилия университетских руководителей сыграли в переезде Иосифа из Вены в Энн-Арбор ключевую роль.
Тем временем пресса наконец взялась за дело. 8-го числа в “Нью-Йорк таймс” появилась статья Хедрика Смита под заголовком: “Главному поэту Советов велено убираться в США”. В частности, там говорилось, что “по сообщениям источников, незадолго до визита президента Никсона 22 мая господина Бродского, который пытался эмигрировать, поскольку не мог опубликовать на родине свои труды, вызвали в тайную полицию и предложили ему выездную визу в Израиль” (ОВИР уже превратился здесь в тайную полицию). Эта статья, переданная по телетайпу, стала причиной прибытия в Вену съемочной группы CBS и Питера Калишера, однако их опередил репортер журнала “Тайм” Строуб Талботт, прибывший из Белграда. У нас дома, в Энн-Арборе, Эллендее названивали и из “Тайм”, и из “Таймс” с просьбами предоставить им снимки и дополнительную информацию. Талботт появился первым, и его помощь оказалась крайне полезной. Строуб позвонил нам в среду, после того как мы с Иосифом побывали в австрийском Союзе писателей на встрече с его главой Вольфгангом Краусом. Ни Иосиф, ни я еще не понимали, насколько важно в такой ситуации, как наша, иметь прессу на своей стороне; Иосиф вообще уехал, не поднимая шума и почти ничего не сделав для того, чтобы предать огласке необычные подробности своей высылки. Мы согласились встретиться с Талботтом в “Бристоле” в тот же день. Он приехал с фотографом по фамилии Гесс, и первое интервью состоялось в кафе рядом с “Бристолем”. Позже Строуб признался, что пускал в ход все ухищрения, какие только мог придумать, ради того, чтобы Иосиф продолжал говорить и не оборвал беседу. Он преуспел в своих стараниях и отвез нас всех домой к Гессу. Оттуда он позвонил в посольство, говорил с теми же людьми, с которыми говорили мы, и очень умело заставлял их отвечать на свои вопросы прямо: “да” или “нет”. Он сказал, что научился этому благодаря своему общению с правительственными чиновниками: он просто всегда заранее предполагал, что они врут. Уже одно то, что нашей историей заинтересовалась мировая пресса, вынудило работников посольства отнестись к нашему случаю с б?льшим вниманием.
В четверг мы впервые посетили Британский совет: по дороге в Соединенные Штаты Иосиф хотел заглянуть в Англию. После часа ожидания его попросили прийти снова с фотографиями. На следующее утро (опять час ждали, что нас порядком рассердило) в Британском совете сказали, что он получит визу в среду или четверг. Еще нам пришлось сходить в австрийскую полицию, чтобы зарегистрироваться – сцена была бестолковая и комичная, но мы одолели это испытание. Позже в тот день прибыли Калишер и его группа.
Телерепортеры поразили меня своей поверхностностью. Съемки наскучили Иосифу, еще не успев начаться, но декорации, по крайней мере, были величественны: роскошный отель во дворце Шварценберг. Нам сказали, что князь разрешает отелю пользоваться только правой половиной своей лужайки. В начале съемок Иосиф должен был идти по поэтической тропинке, декламируя стихи на никому не понятном русском. Эта сцена повторялась потом несколько раз – ничего банальнее нельзя было себе и представить. Потом мы узнали, что отснятый материал так и не пошел в эфир, поскольку его по ошибке отправили – куда бы вы думали? – в Кабул.
За день до съемок Калишер пригодился нам по крайней мере в одном отношении. Он и вся его группа составили нам компанию в нашем очередном походе к вице-консулу – по всей видимости, тогда мы надеялись получить уже какой-то определенный ответ касательно судьбы Иосифа. Хорошо бы, откровенно сказал мне Калишер, этот ответ оказался отрицательным, “поскольку тогда вся передача получится интереснее”. Нам снова ответили уклончиво, туманным обещанием, но присутствие камер опять чрезвычайно оживило обычно индифферентных посольских служащих. Все мои встречи с иммиграционной службой США от Вены до Детройта вызвали у меня глубокое отвращение к этой публике и желание, чтобы кто-нибудь откровенно рассказал о мерзостях, которые там творятся.
В какой-то момент камнем преткновения стало отсутствие нужных документов о трудоустройстве. Чтобы попасть в США, человек обязан представить подписанное Министерством труда сообщение от компании, нанимающей иностранца, с объяснением, почему это место не может быть занято кем-то другим, уже находящимся там. Поскольку Иосиф должен был стать русским приглашенным поэтом, объяснять вроде бы ничего не требовалось, однако дело не обошлось без колоссальной бумажной волокиты. Эллендея, университетское руководство и я сам (я вернулся 10 июня) вынуждены были предпринять в этой связи множество усилий, включая добывание таких идиотских документов, как свидетельства из других университетов, что они обычно назначают русским приглашенным поэтам годичное жалованье, и т. д.
И все-таки я до сих пор думаю, что в конце концов Иосиф получил нужные бумаги потому, что по его делу было принято решение в Вашингтоне, причем на относительно высоком уровне. Тем временем мы сделали все возможное, включая обращение за помощью в Фонд Толстого в Вене с хорошими результатами. Так или иначе, 15 июня прошение о выдаче визы было удовлетворено и нужные бумаги о трудоустройстве в Детройте, Чикаго, Вашингтоне и Вене получены.
Июнь 1984 г.
[Карл предполагал описать следующие несколько лет, но завершил лишь эту часть, после чего у него начались головные боли и продолжение работы стало невозможным. Это было последнее, что он написал; его кончина наступила через три месяца. Примечание Эллендеи Проффер Тисли.]

Карл и Эллендея Проффер в “Ардисе”. 1979 г.
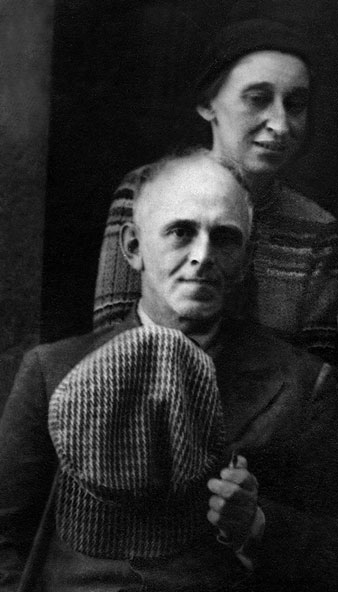
Осип и Надежда Мандельштам. Воронеж, 1937 г.

Надежда Мандельштам. Ок. 1974 г. Фото Уэйна Робарта.

Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич Булгаковы. 1930-е гг. Фото Б. В. Шапошникова.

Елена Сергеевна Булгакова. 1961

Любовь Белозерская и Михаил Булгаков. Конец 1920-х гг. Фото Н. А. Ушаковой.

Любовь Белозерская. 1984 г. Любовь Белозерская в своей московской квартире, 1970-е годы. Фото Уэйна Робарта.

Лиля Брик и Маяковский на фотографии, подаренной ею Профферам. Ялта, 1926 г.

Лиля Брик, Лев Копелев и Эллендея Проффер в квартире Лили Брик. Москва, ок. 1975 г.

Лиля Брик и Василий Катанян, там же.

Тамара Иванова с сыном Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Начало 1930-х гг.

Они же. 1980-е гг.

Иосиф Бродский, Эллендея Проффер и Андрей Сергеев. Ленинград, недалеко от дома Бродского, декабрь 1970 г. Фото Карла Проффера.

В комнате Бродского в Ленинграде. Карл, Кристофер, Иосиф, Эндрю, Иэн, Эллендея. Ленинград, декабрь 1970 г. Фото А. И. Бродского.

Первые дни Бродского в Америке. Энн-Арбор, 1972 г.

Карл Проффер и Иосиф Бродский. Первое занятие в университете. Энн-Арбор, сентябрь 1972 г.

Бродский в тулупе Карла у дверей “Ардиса”. Энн-Арбор, 1970-е.

Карл Проффер около своего дома. Энн-Арбор, начало 1980-х гг.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК