КУЛЬТУРА РЕЧИ
КУЛЬТУРА РЕЧИ
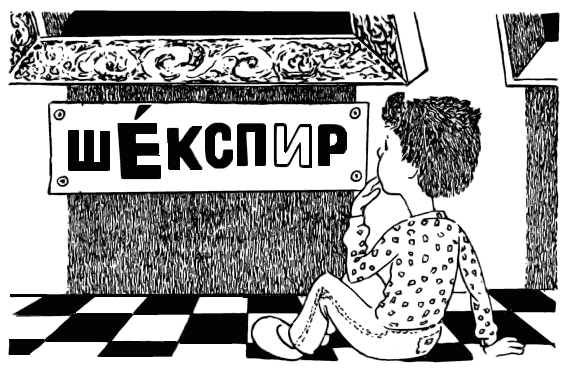
Мы установили с несомненностью: культура речи будущего человека может, как собственно и любое другое свойство его языка, создаться только на закваске языковых и речевых навыков его окружения — семьи и родителей — в самом раннем детстве; семьи, школы и того, что можно определить неопределенным словом — знакомые, — в позднем детстве и отрочестве; наконец, семьи и широчайшего слоя сверстников — в юности.
Скорее всего, уже на этой ступени молодой человек получает и право и возможность (не всегда реализуемую) самому формировать свои речевые навыки, придавать им большее совершенство или, наоборот, разрушать привитую ему раньше культуру речи.
Следует иметь в виду: манера речи и разные другие ее компоненты «третьего поколения» нередко (в случае, если отец и мать работают, а бабушка целый день возится с внучкой или внуком) складываются не по родительскому, а по прародительскому образцу.
В свое время я много жил в древних, с XIV века сушествующих, деревнях под городом Луга Ленинградского округа, если переиначить слегка определение, данное ему А. С. Пушкиным. В речи тамошних колхозников среди сегодняшних, даже чуть ли не завтрашних слов — «экскаватор», «грейдер», «комбайн», «аэроплан» — встречаются слова-ископаемые, слова, равные по древности именам самих деревень — Русыня, Смерди, Надевицы. Скажем, такое, как «гнетить» в значении «зажигать», «запаливать»: «Будем в лесу огоничек гнетить». Я заинтересовался этими словами, но скоро заметил, что они почти совсем несвойственны людям среднего зрелого возраста. Их охотно употребляли в своей речи седовласые бабки и деды и — как это ни показалось мне сначала странным — ребятишки-дошкольники. Обнаружил я там голенастую и бойкую девятилетнюю девчонку, не напрасно прозванную ровесниками Тарабарой, у которой они так и слетали с языка: «Девчонки давно уже купаться пошли, ну да я их живо до-стогна-ла».
Очень старое слово это, однокоренное не только с нашими древними: «стогна» — площадь, «стегно» — бедро, «стега» — тропинка, но и с латышским «стайгат» — ходить, гулять, — почти совсем выпало из нашего народного языка, заменившись «догнала». А вот эта Тарабара пользовалась им как самым живым и употребительным словом, несомненно даже не осознавая, что между ним и куда более распространенным словом «загнетка» есть тесная связь. Для нее и то и другое были словами, узнанными от самого близкого, самого дорогого и самого уважаемого существа — бабушки. Этого было вполне достаточно.
Я поостерегусь утверждать, будто точно такая картина может создаться и в современных городских семьях, в семьях рабочих и интеллигенции. Но и в этих кругах влияние речи бабушек (дедушек реже) на речь малышей нередко бывает сильным и устойчивым. Зависит это в основном от двух существенных причин: от того, чей контакт с подрастающим поколением теснее, чья речь из членов семьи более окрашена, кто говорит ярче, охотнее, веселее.
Это положение еще раз показывает нам, что, вознамерившись выработать «культуру речи» следующего за вами поколения, прежде всего надо утвердить ее на уровне речи поколения старшего, вашей собственной речи.
Ибо нельзя создать для дитяти особую «речевую диету», режим, отличный от режима взрослых. Подобное случалось, может быть, только в дворянских семьях XIX и дореволюционного XX века, когда дети с годовалого возраста поступали всецело на попечение бонн и гувернанток. Да и тогда это бывало только в самых богатых домах. «Около самого дома идут две няни… Одна няня — англичанка, не умеющая говорить по-русски. Она выписана из Англии не с тем, что за нею известны какие-нибудь качества, а только потому, что она не умеет говорить по-русски. Дальше еще особа — француженка, которая тоже приглашена затем, что не умеет говорить по-русски», — рассказывает с гневом Л. Н. Толстой.
Нет нужды объяснять, что родители, нанимавшие таких смотрительниц за малолетками, очень мало думали о воспитании в детях «культуры русской речи», да и вообще всецело передоверяли заботы об их воспитании третьим, часто весьма малокомпетентным, лицам. Что получалось, нам известно: недаром Пушкин именовал «проклятым» полученное им в детстве полуфранцузское воспитание.
Но это, конечно, уже относится к тому возрасту, когда дети подросли и гуляют со своими воспитателями. Говорить о самом первом, «немом» периоде в жизни дитяти, казалось бы, не мое дело, эти темы трактуют медики в книжках по уходу за малышами. Но все же…
Чем больше и чаще те, кто возится с новорожденными, будут с самых первых дней его жизни, подходя к нему, разговаривать, даже не то что с ним, но просто вокруг него, чем больше тепла и ласки будут они вкладывать в интонации своего голоса, отказавшись от близорукого: «А чего с ним говорить, когда он еще ничего не понимает?», чем чаще будут сменяться возле него эти родные голоса, чем больше будет он, пусть еще пассивно, слышать и монологов и диалогов между мамой, папой, бабушкой, дедушкой, тем благоприятней скажется это год-два спустя, когда ваше детище САМО заговорит.
Но, выполняя этот мой совет, нельзя упускать из виду одну важнейшую вещь. Вы хотите, чтобы ваш отпрыск в будущем заговорил хорошо. А позвольте вас спросить, как говорите вы сами — хорошо или не очень? Не надо обижаться на это мое сомнение! Поступившему в вокальный класс консерватории преподаватель без труда дает понять, что он совершенно не умеет дышать, хотя и продышал уже 18 и 20 лет своей жизни. Так и тут: пока вы говорили, болтали, трепались, чинно беседовали между собой в течение долгих лет, вам не было так уж существенно, как, на каком уровне вы это делали. Вас понимали, и этого было вам достаточно.
Но теперь положение коренным образом изменилось; теперь вы хотите добиться, чтобы ваш ребенок в своем взрослом будущем стал хорошо говорить. Я думаю, теперь вам уже ясно, что это сможет произойти лишь в том случае, если у него будет надлежащий образец, своего рода «речевая матрица» для подражания. То есть, иначе говоря, надо, чтобы культура речи, прежде чем перейти в него, присутствовала бы в вас.
Оговорюсь: может быть, вы считаете, уже обладаете этой культурой благодаря воспитанию или вашим собственным врожденным способностям. Весьма вероятно, так оно и есть. Ну что ж? Если это и на деле верно, вам останется взять из моей книжки немногое: разве только несколько приемов передачи речевой культуры вашим детям. Но гораздо типичнее положение, при котором родители отнюдь не блещут «естественной постановкой речи» (по аналогии с «постановкой голоса» у певцов). А в этом случае им надо терпеливо проверить свои возможности и способности, овладеть приемами говорения, тем более что с «говорением» в дальнейшем тесно свяжется и писание: нет, не «письмо» в смысле грамотности или разборчивого почерка, но уменье ясно и свободно излагать свои мысли и чувства на бумаге. «Речевые воспитатели» ребенка должны — и это весьма важно — отделаться от тех дефектов собственной речи, которые они не желают передать воспитаннику, чтобы потом не биться над отучиванием его от погрешностей, которые он позаимствовал от них же (то есть от вас!).
Вот теперь мне кажется уместным перейти к практике воспитания и начать рассуждения о ней не с тех достоинств речи, которые вам надо приобрести с целью передать следующему поколению, а с тех ее недостатков, от которых вам следует самим избавиться, прежде чем вы начнете воспитывать других.
Вам может показаться обременительным все то, что я тут вам советую. Как, малыш едва успел появиться на свет, а вам уже надо не только заботиться о его физическом благоденствии (что осуществляет по преимуществу женская половина семьи), оказывается, вам надо начать следить за собственной речью, что-то изменять в ней, от чего-то отвыкать, к чему-то новому приучаться!
А как же вы думали! Воспитание ребенка и вообще далеко не легкое дело, а если, ко всему прочему, вы задались целью сделать из него хорошо говорящего человека, это, естественно, создаст для вас и некоторые дополнительные лишения и трудности.
Но, может быть, я преувеличиваю и заниматься этим разумно лишь тогда, когда ваш воспитанник уже сам станет «лицом говорящим»? Как может влиять на него ваша речь в то время, когда сам он еще не стал таким «говорящим»? Вот когда вам выпадет на долю удивляться, с какой чудовищной быстротой развивается и растет интеллектуально ребенок, как за месяцы и недели он усваивает такие громадные объемы информации, нормы поведения, просто навыков жизни, на освоение которых ему в подростковом или юношеском возрасте понадобились бы уже годы упорного труда, вы придете к выводу, что уже в грудном возрасте закладываются краеугольные камни будущей личности. Вы, вероятно, слыхали про гипнопедию — обучение (в особенности чужому языку) во сне? Думается, между гипнопедией и самообучением еще не умеющего говорить малыша при помощи постоянного погружения его в атмосферу живой речи можно провести, пусть очень отдаленную, аналогию. Пеленашка в своей кроватке не погружен в сон в те моменты, о которых я вам говорю. Он слышит, и легко заметить, как тихая ласковая речь успокаивает, а грубый шум, ссора над его колыбелькой мгновенно заставляет его нахмуриться, а то и зареветь. Так нужны ли другие доказательства тому, что все, говоримое вокруг него, — нет, пока еще не как «системы смыслов», просто как «ощущение речи» — входит, может быть, в его сознание, а возможно, и в подсознание, и остается там навсегда.
Ну что ж? Теперь начнем, пожалуй?
СЦИЛЛЫ И ХАРИБДЫ НАШЕЙ РЕЧИ
Помните Гомерову «Одиссею»? Хитроумный Улисс вел свое суденышко по узкому проливу. О ужас! С одного берега над водным путем нависли страшные морды многоголовой Сциллы; на другом берегу ревела, втягивая в себя воду, и скалила чудовищные зубы злобная Харибда, гроза мореходов…
Но Улисс-Одиссей недаром звался хитроумным. Он сумел провести свою скорлупку между Сциллой и Харибдой так, что остался целым. Говорящему хорошо тоже надо проявлять поминутное хитроумие. Многое надо ему помнить, чтобы не ронять свою речь ниже должного уровня.
Прежде всего я советовал бы раз навсегда запомнить мудрое изречение великого мастера речи и языка А. С. Пушкина:
«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».
Я не знаю во всей теории литературы афоризма, полнее и точнее охватывающего все закономерности творчества; а так как «говорение» (если речь идет о высококачественном «говорении») почти ничем не отличается — да будет позволено так сказать — от «устной литературы», то гениальное положение Пушкина, конечно, относится и к нему.
Покончив с ошибками и погрешностями речи, я перейду затем к той палитре красок и приемов, которые, как мне кажется, можно и следует употреблять, стараясь говорить хорошо.
Но при этом надо помнить: мои рекомендации не могут иметь абсолютного и универсального значения. Наилучшие приемы опытный оратор будет пускать в дело, лишь памятуя о двух принципах: «чувстве соразмерности и сообразности», иначе он в любой миг может попасть в положение того незадачливого героя народной нравоучительной сказочки, который, повстречав похороны, стал благодушно покрикивать: «Таскать вам не перетаскать!», а когда ему сказали, что в таком случае уместней был бы траурный возглас: «Канун да ладан!», назавтра, увидев веселую свадьбу, завопил во весь голос: «Канун да ладан!», почему и ушел оттуда «с изрядно накостылеванным затылком», как говорит Козьма Прутков.
Недопустимо выступать с длинной академической речью о красоте природы во время туристического привала между купаньем и легким завтраком. Нелепо, попав по случаю на день рождения своего профессора, перебрасываться острыми, а может быть, и несколько фамильярными студенческими словечками и приговорками, если их, не понимая, выслушивают и поджимают губы застольщики шестидесяти лет и выше… Язык всегда коварен, и владение им строится на знании тонкостей речи. Без владения ими не стоит и «брать слово» в большой аудитории.
Вспоминаю одного милого юного вьетнамца, за короткий срок сделавшего большие успехи в русском. Он преждевременно вышел «в самостоятельный полет» в смысле свободного контакта с русскими людьми. Вскоре он прибежал ко мне взволнованный: «Я допустил „гафф“! — грубую оплошность, — хватался он за голову, — но не понимаю, в чем именно!»
Оказывается, из того факта, что наиболее уважаемого и любимого своего преподавателя все между собой называли Степаныч, он сделал свои выводы. Он сначала назвал Петровной девушку, которой хотел понравиться. Ему сказали, что это выражение почтения и любви неприложимо к молодым девушкам. Тогда он «исправился» и несколько раз подряд, мило улыбаясь, протитуловал Михайловичем седовласого почтенного профессора, к которому пришел на зачет. Одни товарищи при этом фыркали, другие — девушки — смотрели на него «вот такими глазами». В чем же дело? Почему там — хорошо, а тут — недопустимо?
В этом-то и заключается главная трудность в подлинном владении языком — в уменье на слух, интуитивно, в соответствии с самим «духом данного языка», определить, какое слово, какой оборот, какая интонация, какой, вспоминая еще раз Л. В. Щербу, стиль речи уместен и какой нежелателен в данной речевой ситуации.
ПРОЦЕНТ И ПР?ЦЕНТ, ИЛИ ОШИБКИ АКЦЕНТУАЦИИ
Этот сверхученый термин можно заменить простым русским словом «ударение».
Русский язык отличается от многих других «свободой ударения». То есть как? В нашем языке оно не прикреплено во всех словах к одному и тому же слогу — второму с начала, пятому с конца. В одном слове оно может «падать» на первый слог с начала — «п?па», а другом — на второй: «пог?да», в третьем — на третий: «бурунд?к», в седьмом — на пятый: «слаборасширЯющийся»… Такую же лесенку можно построить, если начать с последнего слога и идти к началу слова: «дурачок», «глупышка», «тысяча» и так далее…
Вас это ничуть не удивляет? Вы, вероятно, даже никогда не задумывались над этой странностью! А ведь существует уйма языков, в которых место акцента (ударения) определено строжайшим образом. Так, в германских языках огромное большинство слов несет ударение на первом слоге с начала: вспомним хотя бы фамилии: немецкие — Гёте, Ш?ллер, Б?зен, Д?зель и английские — Д?ккенс, Б?йрон, Дж?нсон, Ст?фенсон… Правда, мы выговариваем Шексп?р и даже Рентг?н, но англичане и немцы произносят Ш?кспир и Р?нтген.
А вот у французов все слова имеют ударные конечные слоги: мам?н, пап?, Пар? (Париж), Дюм?, Тиссандь?, ПаганЭль… То же самое можно наблюдать и в турецком языке. В польском же еще более странно для нас — все слова несут ударение на втором слоге от конца. Поэтому «самая обыкновенная» наша «вода» у поляков звучит как «в?да», а польское имя Станисл?в, которое мы произносим так, как я обозначил, будет по-польски Стан?слав; родительный же падеж от него — Станисл?ва: опять ударен второй слог от конца.
Поэтому немец произносит фамилии наших великих людей по-своему: Т?льстой, Т?ргенефф; француз — на свой лад: Пушк?н, Менделей?фф, Турген?фф. Наши длинные слова, у которых ударяемый слог приходится где-либо возле середины, для них вообще труднопроизносимы, и они непременно перемещают в них ударение, «Градостроительное» (дело) — попробуй выговори! Когда мы перенимаем иноязычные ударения, это делается чаще всего по каким-либо случайным причинам. Нам совершенно безразлично, произнести Ш?кспир или Шексп?р, Рентг?н или Р?нтген. Чаще всего переделки объясняются здесь или историческими причинами (имя Шекспир пришло к нам через французскую передачу, через Вольтера), или простой случайностью и неосведомленностью: так, у нас теперь не только аппарат для просвечивания зовут рентг?новским, но даже улицу имени великого физика в Ленинграде именуют «улицей Рентг?на», что уж вовсе никуда не годится!
Иностранцам часто кажется, что русским просто живется, — ставь ударение где вздумаешь. На деле наше положение несравненно сложнее, чем, скажем, у француза или турка. Русскому человеку приходится «в голове держать» бесконечное разнообразие мест ударения, не подчиняющееся никаким видимым правилам. В самом деле, если л?шадь — л?шадь, то маленькая лошадь должна быть л?шадка, а она почему-то лош?дка. Почему?
Как раз в русском языке дело с постановкой ударения обстоит строже, чем во многих других: от перемены места его часто зависит смысл слова: м?ка — мук?, з?мок — зам?к. Ничего подобного нет во французском, но существенно то, что и для коренного русского вопросы ударения и его места на том или ином слоге слова нередко представляют собой немалую проблему, неверное решение которой выдает малограмотность говорящего. Вспомните ироническое изречение насчет д?центов и пр?центов. Смысл насмешки, заключенной в нем, как раз и состоял в том, что неправильные ударения на первых слогах слов «д?центы» и «пр?центы», которые надлежит выговаривать, делая акцент на их концах, изобличают человека невежественного, не владеющего системой ударения, принятой в литературной речи.
Я сказал — «системой»… Это — желаемое, выданное за сущее. В том-то и дело, что никаких твердых закономерностей русское ударение не представляет (или, может быть, они еще не выявлены), так что желающему расставлять их правильно приходится держать в памяти тысячи всевозможных слов под угрозой быть отнесенным к разряду неучей.
Вопрос ударений особенно жестко стоял в дореволюционные времена. Человека, который бы произнес в те дни названия Аничков мост или дворец с ударением на «а», сочли бы недостойным быть «принятым в обществе»: «Аничков! Так говорят только попы да белошвейки!»
Сейчас к этому мы склонны относиться не столь сурово, но все-таки если вы претендуете на интеллигентность, а говорите: «Куда пол?жить мой п?ртфель?», ваши действительно образованные собеседники заподозрят вас в преувеличении сведений о вашем образовании.
Правда, бывают слова, в которых допускается и двоякое ударение. Говорят и «тв?рог», и «твор?г», причем нельзя счесть какое-нибудь из этих произношений неправильным. Спорят, как вернее сказать: ?томный и ат?мный, причем нередко вносят в этот спор яростную горячность, когда на самом деле, вероятно, допустимо и то и другое произношение.
Так, например, от существительных «закром», «слалом» мы производим прилагательные с ударением на «а» — «з?кромный», «сл?ломный». В то же время, однако, от «способ» образуется «спос?бный», а не «сп?собный»…
Человек «культурной речи» будет особенно осторожен при произношении иностранных фамилий: недопустимо называть Т?мпсона — Томпс?ном. Бальз?ка — Бальзак?м; нехорошо произносить «форм?ла», «пост?лат», «кат?т»…
Случается, впрочем, что заведомо неправильное ударение мало-помалу получает «права гражданства» и становится общепризнанным, то есть уже «правильным».
Я приводил выше пример немецкой фамилии Рентген, ставшей у нас именем нарицательным. Во дни моего детства все говорили еще «лучи Р?нтгена», «р?нтгеновский кабинет». Теперь даже в лучших словарях вы найдете ударение над вторым «е»: «рентг?н» вошло во всеобщее употребление. Вот почему культурный в языковом отношении человек, как только ему встретится незнакомое слово, в котором он не уверен, тотчас, прежде чем рискнуть произнести его «при народе», заглянет либо в общий Толковый словарь русского языка (там ударения бывают обозначены), либо в Орфографический словарь (он тоже их указывает), либо же в специальный Орфоэпический словарь русского языка («орфоэпический» — значит «указывающий правильное произношение»).
Конечно, чтобы «заглядывать» в эти словари, надо их иметь, что не всегда осуществимо. Однако надо прямо сказать: не имея возможности наводить справки по словарям, нелегко сделать свою речь культурной.
ПРОСТОТА — ХУЖЕ ВОРОВСТВА
В дореволюционное время языковедческий термин «просторечье» нередко употреблялось людьми, не имеющими никакого отношения к языкознанию, в «пренебрежительном» значении. Просторечье? Это — язык «простого народа», «хамов», «мужицкий язык».
Мы употребляем этот термин, но понимаем его, разумеется, совершенно иначе, впрочем, и всегда понимали его настоящие ученые-филологи.
Существует такой нисходящий ряд: «речь полного стиля» (по Л. В. Щербе), то есть «академический, торжественный русский язык», — речь людей, получивших правильное образование, которую можно разбить на две части: «письменную» и «устную» их речь. Разговорная, бытовая речь тех же самых образованных людей — та, которой мы пользуемся в непринужденной беседе друг с другом; просторечье — речь людей, почему-либо не получивших образования, высшего во всяком случае, а возможно, и среднего; наконец — вульгарная речь, грубый язык самого низкого стиля.
Если между крайними точками этого ряда, то есть между: «Я вынужден вас, уважаемый гражданин, просить оставить это помещение», с одной стороны, и «А катись ты, знаешь куда?» — лежит целая бездна, то между двумя соседними членами той же лестницы расстояние весьма незначительно, а кое-где они даже переходят друг в друга незаметно.
Я часто получаю письма от людей, — бывает, высокообразованных, но не языковедов, которые гневаются и досадуют по поводу и просторечных, а иногда и прямо вульгарных слов и словосочетаний, встреченных ими то в газетной статье, то в дикторской речи по радио или телевидению, а нередко и в художественной литературе.
Скажу прямо: не всегда можно безоговорочно согласиться с такими жалобами. Часто они, просматривая газеты или слушая одним ухом радио, встречаются со словами, просто не входящими в их личный словарь, непривычными для них, и считают, что если уж им это слово неведомо (и в то же время не звучит по-иностранному, значит, не относится к научным терминам), то и употреблять его нельзя.
Как-то я получил письмо от человека, подписавшегося как Главный конструктор, то есть, несомненно, окончившего вуз, по-видимому технический. Он протестует против употребления нового слова «рубеж» вместо слова «граница». Он считает «рубеж» понятием исключительно военно-тактическим, утверждает, что так называется линия, «за которой находится неприятель», и требует срочно замены слова, например, «зарубежный» одним из ряда его синонимов и полусинонимов: «заграничный, иностранный, иноземный, заморский, импортный, иноплеменный». Конечно, он ошибается, а точнее сказать, и мало знаком с историей русской лексики. Знай он ее, ему было бы известно, что «рубеж» и «граница» — слова примерно одного возраста; что они в ряде случаев являются точными синонимами, могущими превосходно замещать друг друга. «Бежал за рубеж» могли сказать и во дни князя Курбского, и при Котошихине и Алексее Михайловиче именно в смысле «за границу». В то же время другие предлагаемые заместители далеко не всегда могут сослужить службу: «зарубежный» может одинаково означать и «бразильский», и «венгерский», а заменить это слово словом «заокеанский» можно только в первом из этих случаев.
Главный конструктор возражает также и против употребления слова «очевидно» «там, где это не очевидно», а лишь «возможно или вероятно». Ну, думается, здесь явно смешаны две ошибки — языковая и понятийная. Если что-нибудь не «очевидно», а лишь «возможно», дело тут не в неточном слове, а в неточном определении вероятности события.
Замечания эти — не «поправки», а «придирки», нередко основанные на ошибочных заключениях, совершенно необоснованные: «Все, что мне непривычно, я считаю „нововведением“ и потому отрицаю!»
Так поступать не следует, что я почтительно и указал своему корреспонденту. Однако, прямо скажем, может быть, такая настороженность и лучше, чем та «простота — хуже воровства», при которой некоторые из нас полагают, что «нет разницы» сказать: «отец» или «батька», «женщины» или «бабы», «безразлично» или «до лампочки». Речь всегда следует оберегать от грубого просторечия и от ненужных вульгаризмов.
Правда, обычно они не имеют сил и возможностей из индивидуальной речи проникнуть в общий язык; но вот саму эту речь они засоряют и портят до чрезвычайности.
Почти на пятьдесят процентов (а может быть, и более) просторечизмы бывают результатами незнания правильной формы или оборота, но результатами, весьма различными по «вредности» и «тяжести» для речи.
Вот типичное просторечье: «Подскажите мне, где здесь Исаакиевский собор?» (или Кремль, если разговор идет в Москве). «ПОД-сказать» по-русски значит: «сообщить в секрете, так, чтобы можно было выдать собственное незнание за знание», примерно так: «Что ты мне не подсказывал решения? Видел же, что я — ни бум-бум!»
Зачем бы я стал туристу, неленинградцу, на ушко, втайне «подсказывать» местоположение знаменитого памятника архитектуры? Я просто «скажу» об этом вслух, не опасаясь, что нам «попадет»… Употребление слова в его неточном значении — безграмотность, речевая малокультурность.
Другое дело, когда человек от глагола «бриться» производит форму «я броюсь» или: «когда вы поброетесь». Тут просторечье уже не смысловое, а морфологическое. Теперь формы «броюсь», «броешься» почти совершенно исчезли из языка, хотя в 20-х годах они слышались постоянно.
В том же десятилетии из языка военных вдруг вошла в широкое употребление в речь гражданского населения странная форма «шлём» вместо «шлем» (шлёмами тогда стали называть остроконечные головные уборы, буденовки). Помню, читая «Русский язык» в одном вузе, я довольно решительно протестовал против этого просторечизма, а мои же коллеги обвиняли меня в пуризме, в языковом чистоплюйстве, и уверяли, что через десять лет вся страна будет говорить только «шлёмы». Как видите, в нашем споре прав оказался я: теперь такого произнесения слова «шлем» вы, вернее всего, и не услышите.
Следует иметь в виду, что вульгаризмы могут быть не только лексические, могут выражаться и не только в употреблении вульгарных словесных формул и выражений. Возможны и часто встречаются вульгаризмы интонационные, фонетические, произносительные…
Что такое «интонационный вульгаризм», вероятно, знает каждый из нас. Бывает, что из-за входной двери слышишь на лестничной площадке какую-то ссору, а то и просто «приятный разговор», но уже по тем «интонациям», с которыми ведется эта дискуссия, по самому «тону» речи либо обеих сторон, либо же только одной из них вы, даже не слыша слов и не понимая их смысла, легко уразумеваете, что по ту сторону двери беседуют не «научные работники» и выражения они употребляют не из тех, которые можно почерпнуть в Толковом словаре современного русского литературного языка.
Вот это-то и есть «вульгаризм интонации».
Его корни могут уходить глубоко, в раннее детство человека. С самых юных лет не позволяйте вашему ребенку отвечать «ага!» вместо «да!», грубо отвечать на сделанные ему старшими замечания, называть встреченную старую женщину даже за глаза бабкой, а гражданина средних лет — дядькой и даже дяденькой. Начав с малого, он (она) могут к зрелому возрасту «докатиться» и до «моя баба» или «наши мужики». А это будет уже не безобидным просторечьем. Это будет самой настоящей вульгарной речью, которой надо бояться как огня, ибо за вульгарностью языка возникает и развивается и вульгарная грубость сознания.
С самого пеленочного возраста оберегайте ваших детей от «вульгарной интонации» в речи окружающих.
Не следует конечное «в» в словах вроде «дворов» или фамилиях типа «Петров» выговаривать на манер краткого «у», как «ПетроУ», «ШатуноУ» и так далее. Когда так произносят русские слова украинцы — тут ничего не скажешь: их право говорить со своим национальным акцентом. Но совершенно ни к чему усваивать эти особенности нерусской фонетики русским людям.
НАСЛЕДИЕ «КУВШИННОГО РЫЛА»
Скажите, где проживает ваша семья?
Простите, но моя семья нигде не проживает. А живет она на проспекте Кирова.
Почему рассердился второй из двух собеседников?
Его привело в негодование проникновение в литературную русскую речь наших дней все большего числа так называемых канцеляризмов — словечек и оборотов, придуманных в присутственных местах и департаментах еще во времена гоголевских Акакиев Акакиевичей и кувшинных рыл — тогдашних приказных и всяческих заседателей. Как ни странно, многие из них не только дожили до настоящего времени, но все шире расплываются по нашей речи, подобно масляному пятну на бумаге.
Вот случайно попавшая мне под руку газета:
Сказано:
Девять лет назад, когда Цимлянская фабрика начинала осваивать выпуск ковров, их было изготовлено за год 32 000 метров. Ныне производство ковров превысит 800 000 метров.
Почему бы не сказать?
Девять лет назад, когда Цимлянская фабрика только начала ткать ковры, их за год выткали 32 000 метров. Теперь их выпустят больше 800 000 метров.
В первом столбце сообщение написано газетно-бюрократическим языком, в котором считается, что сказать «ткать ковры» как-то простовато. То ли дело: «освоить выпуск ковров»! Точно так же как-то неудобно употребить простецкое «теперь». То ли дело: «ныне»! И в молитвах читалось: «Ныне отпущаеши, владыко!» Вот это — в самый раз!
Чем же объяснить, что такой казенный жаргон, каким выражались некогда писари, заводя в Миргородском поветовом суде дело о назывании Иваном Довгочхуном Ивана Перерепенка гусаком, существует и в наши дни?
Ну, его «дожитие» в канцеляриях объясняется тем, что «административные органы» искони веков стремились внедрять в свои документы как можно больше стереотипных, неизменных сочетаний слов, работавших как строго обусловленные формулы. Так было удобнее вести ведомственную переписку, в которой очень важно не допустить произвольного толкования сказанного. Существенно было еще и соблюдение норм чинопочитания: с «казенным домом» полагалось говорить особо утвержденным языком, с частным лицом — совершенно по-иному. «На усмотрение Вашего Превосходительства…», «Прошу зависящих (в смысле „зависящих от вас“) распоряжений…», «Ходатайствую о…» (вместо «прошу»), «Приказывается вам, М[илостивый] Г[осударь]!»…
В тех бумагах, которые с таким вкусом переписывал идеальным почерком Акакий Башмачкин, подобные словосочетания имели если не смысл, то видимость смысла, подобно сложно разработанной системе придворных поклонов и книксенов. Но из канцелярского языка его формулы имели давнюю тенденцию проникать в язык общий.
А. И. Герцен, приводя смешные выдержки из газеты «Северная пчела» (50-е годы XIX века): «Его высочество принц… и принцесса пожаловали Иенскому Университету бюсты Фихте, Шеллинга и Гегеля», издевается над этим напыщенным «пожаловали» и вспоминает старика лакея своего отца:
«Покойник учил мальчишек „пчелиному“ языку и, таская иногда за волосы, приговаривал: „А ты, мужик, знай: я тебе даю, а барин изволит тебя жаловать; ты — ешь, а барин изволит кушать; ты спишь, щенок, а барин изволит почивать“».
Вот так давно канцелярские подхалимские тонкости обращения не только уже выработались, но и переползали из языка «присутствий» в общий русский язык, нарушая свободу и чистоту обиходной русской речи.
Кстати, и сегодня многие ошибаются в употреблении глаголов «есть» и «кушать». Не следует говорить «кушаю, кушаем» про самого себя; здесь обязательно простое «есть», не содержащее в себе решительно никакого оттенка грубости, как чудится некоторым. Можно, но отнюдь не желательно употреблять глагол «кушать» в других лицах, и там вполне прилично обойтись нейтральным: «вы едите? а ты ешь раков?» — и т. д. А всего лучше просто исключить это жантильное, лакейское словечко из своего языка. А то получится, как у Ипполита Ипполитыча А. П. Чехова: «Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено…»
В наши дни довольно многие «осторожно-бюрократические» выражения и обороты внедряются в речь из ложной боязни «выразиться» по-уличному, «сказать грубовато». Проявляя такую языковую «трусость», люди попадают в печальный просак.
Существует разновидность канцелярского жаргона, когда при наличии чисто русских слов употребляют вместо них варваризмы, слова иностранные. Очень часто неуместно употреблять слово «пакт», когда можно сказать «соглашение»; незачем каждое совещание называть обязательно симпозиумом или конференцией.
Еще хуже бывает, когда употребляют нерусские слова, плохо разумея их точное значение: «Пока я ходила, очередь сильно пролонгировалась…» Услышишь такое и вспомнишь сердитое замечание Льва Толстого:
«Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розгой».
Сказано сурово, но не только по отношению к писателям — каждому из нас надо помнить, что следует пускать в ход только самые простые, без всяких вычур, без брезгливой осторожности, но и без стремления «выкаблучить словечко позаковыристей», русские слова.
Не так:
«Кульминацией увлекательного праздника стало театрализованное представление…»
«Зрители стали свидетелями торжественного свадебного ритуала…»
А так:
«Самым главным в веселом празднике оказался спектакль на открытом воздухе…»
«Народ увидел, как торжественно „игрались“ в древней Латвии свадьбы…»
Подумайте сами: делятся ли праздники на «увлекательные» и «неувлекательные»? Бывают ли «не театрализованные представления»? Приятно ли звучит тут многим непонятное слово «кульминация» (по-латыни оно означает просто «подъем»). Наконец, разве зрителей кто-либо «допрашивал» о свадьбе, что их понадобилось именовать «свидетелями»? Тем более что каждый «зритель» уже сам по себе «свидетель»…
Оговорюсь: не следует вовсе запрещать канцелярские термины и обороты. В учрежденческих бумажках они, может быть, и не мешают, а помогают пониманию их содержания… Да и в обиходной речи почему не применить иной раз в насмешку или в шутку тот или другой канцеляризм: «А засим разрешите облобызать вашу ручку…» Прозвали же когда-то черносотенную газету «Новое время» чисто канцелярским (оно стало уже и лакейским) выражением: «Чего изволите?» — да ведь как оно к ней прилипло!
Но в целом канцеляризация обиходной и литературной речи является одной из самых неприятных ее болезней. Культуре речи она прямо противоположна. Она — заразительна: я не поручусь, что и в этой моей книжке не попались отдельные канцеляризмы, Давайте следить за собой, чтобы их избегать.
ШТАМПЫ, ШТАМПЫ, ШТАМПЫ
Штампами мы зовем разные приборы, неизменные по форме и дающие множество одинаковых отпечатков.
У языко- и литературоведов «штамп» — оборот речи или словечко, бывшее когда-то новеньким и блестящим, как только что выпущенная монета, а затем повторенное сто тысяч раз и ставшее захватанным, «как стертый пятак». Слово «мороз» — отличное русское слово. Выражение «мороз крепчает», казалось бы, нельзя ни в чем упрекнуть. Но вот у А. Чехова провинциальная дамочка от нечего делать пишет скучнейшие романы; чаще всего они начинаются так: «Мороз крепчал».
Читатели Чехова встречали столько произведений, начинавшихся с «мороз крепчал», что им из этих двух слов сразу же делалась ясной бездарность губернской «интеллектуалки»: она и думала и писала штампами.
Прошло сто лет, но и сегодня мы грешим по этой части. Кто-то, чуть ли не А. Н. Толстой, уронил где-то выражение: «ее широко распахнувшиеся глаза», и оно показалось читателям выразительным. А теперь в моей картотеке 33 карточки с «распахнутыми глазами»; видеть это сочетание слов стало так же неприятно, как грызть таблетку сахарина.
Кто-то когда-то первый написал вместо «цветИстый» (ярко окрашенный, радужно-пестрый) похожее словцо: «цветАстый». Раньше оно имело отличное от первого значение — затканный или запечатанный крупными яркими цветами, как старинная цыганская шаль.
Слово подхватили, но употреблять его стали уже взамен «цветистый». Оно стало штампом, да еще с неточным значением. Вот сравните:
«Сварочное пламя — это… цветастая… капризная стихия…»
Что, на пламени нарисованы цветы?
«Не позорить его… старым костюмом и цветастыми носками».
«Цветастые картинки висели на всех стенах…»
Сомнительно, чтобы на всех были написаны только цветы!
«Конвент уже кажется сном — цветастым, беспорядочным…»
«Цветастые бабочки, аборигены земли…»
Я храню еще 76 карточек с примерами на это злополучное слово. Лишь на одной значится:
«Она накинула на себя старинный цветастый платок».
Тут — все на месте. А вот — «цветастый сон о конвенте»… Штамп! Осторожно: штамп! Берегитесь штампа!
То же скажу о глаголе «смотрится» в значении «производит приятное впечатление, хорошо выглядит». Вот вам несколько цитат:
«Точечные дома в зелени смотрятся веселей».
«Ворсистая ткань на гладкой… смотрится очень современно».
«Воронцовский дворец лучше всего смотрится с палубы прогулочного катера».
«Молодой человек в джинсах смотрится, конечно, интереснее…»
«„Ну, и как она?“ — „Ничего… В общем — смотрится!..“»
Вот если вы прямо поставите мне вопрос: что такое культура речи? — я вам отвечу: «Эти пять предложений — весьма типичное языковое бескультурье»..
В дореволюционное время существовал тип людей, которых А. Блок зло назвал «испытанными остряками». Они «не лезли за словом в карман». Вместо «красиво» они восклицали: «Достойно кисти Айвазовского!» Желая передать неопределенное ощущение сходства, говорили загадочно: «Да так… Вроде Володи!» Своих жен именовали в лучшем случае супругами, а то и «моя прекрасная половина».
Нет, теперь уже никто не скажет: «вроде Володи». Никто не напишет всерьез: «мороз крепчал». Но я знаю множество людей, у которых поминутно срываются, устно и письменно, современные штампы. Есть литераторы, не стыдящиеся в десятитысячный раз писать: «Погромыхивая на стыках, поезд подходил к станции». Есть просто граждане и гражданки, для которых, скажем, слово «эрудированный» означает все похвальное: «Такой, знаете, эрудированный: так одевается — зарубежное производство!»
Находятся люди, которые даже печатно защищают штампы: они-де «экономят» силы и время журналистов, да и читатель, привыкнув к ним, легче и лучше воспринимает написанное.
Это — казуистика. Есть, бесспорно, жизненные ситуации, где без штампа обойтись трудно. «Дорогая Верочка!», «Многоуважаемый Петр Николаевич!» в начале писем, или: «Целуем, желаем всего лучшего…» — в их конце повторяются в миллионах и сотнях миллионов поздравительных писем. Но и тут человек с чувством слога и стиля постарается как-нибудь «соригинальничать»: «Я хочу поздравить вас, Верочка, свет очей моих!», или: «Ну, старый добряк, Петр Николаич, как живешь?» Чуть-чуть нарушен штамп, и уже чуть-чуть легче дышится…
УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Этот заголовок изобрел не я. Так определял разные пустые слова, которыми многие из нас не то что любят, а не могут не уснащать свою речь, многократно и благодарно помянутый мною Л. В. Щерба.
Вслушайтесь в речь окружающих, и вы удивитесь — какая в ней уйма совершенно ничего не означающих полуслов, полумеждометий, так сказать, «словоидов», вроде бы призванных украсить речь, но чаще ее лишь уродующих. Конечно, бывают такие «словоиды» почти художественного характера. Вспомним дядюшку Ростовых из «Войны и мира» с его затейливым: «Чистое дело, марш!», выступавшим чуть ли не в половине его предложений. Не забудем и старика слугу из произведений другого Толстого, Алексея Константиновича: этот в затруднительных случаях, чтобы протолкнуть следующую фразу, повторял еще более причудливую формулу: «Тетка твоя подкурятина!»
Л. В. Щерба не зря звал такие словечки упаковочным материалом, — люди как бы суют их между значимыми словами, чтобы не дать им разбиться друг о друга, как суют паклю между свежими яйцами. Тот, кому такая «пакля» нужна, не умеет строить на ходу плотно и ладно свинченное предложение, а пытается загрузить в него слова «россыпью», «как попало». Без пакли не обойтись: а до «тетки-подкурятины» ему далеко!
Э, мня-мня-мня… так сказать… Да вот телевизор-то мой, так сказать, лучше вашего… Э-э-э, мня-мня, как его этого, ну как же не лучше, так сказать: само дело показывает…
Надо заметить, сами эти «упаковочные» словечки тоже подвержены моде. В последние лет десять-двенадцать распространилось и так и живет, вытеснив старинные надоевшие «так сказать», «грит», «как его, того-этого» и другие пустышки, весьма, по-видимому, удобное для людей без культуры речи присловье «это самое…»
В 50-х годах его никто и слыхом не слыхал. А в 70-х годах вы могли, стоя у телефонной будки в ожидании очереди, слышать такие полумонологи:
Валерка… это самое… Ты — как: это самое? Да брось: вот мы тут… это самое! Да я, Мишка, Тоська. А, брось… это самое… давай вместе! А? Ну, вот — это самое!.. Давай, быстренько…
Этот говорит, тот, очевидно, понимает и, вероятно, отвечает таким же «этим самым»… Все как будто отлично. Но при такой манере изъясняться человеческая речь постепенно превращается во что-то «простое как мычание».
Отучать вашего питомца от таких «вставок», а значит, отучаться от них и самому — ваша первейшая обязанность.
Говорят, это неискоренимо! Отучить от «грит», от «вот…», от «значит» — невозможно!
Очень даже возможно: утверждаю это по собственному опыту.
В одиннадцатилетнем возрасте я через два слова на третье вставлял в разговор словцо «стал-быть». Вставлял и, как со всеми случается, не подозревал этого. Но однажды новый учитель географии (любимого моего предмета), человек больной и желчный, ставя очередную пятерку, с досадой сказал мне:
— Слушайте, вы… Успенский… Вы же отлично знаете предмет… И вообще — способный малый. Так что же вы талдычите это свое «стал-быть», «стал-быть». Слушать же тошно: «Ниагара, стал-быть, величайший водопад… Она расположена, стал-быть, на границе Канады и Штатов…» Отучитесь вы от этой дряни!..
До него мне никто не говорил об этом пороке речи. Меня точно громом поразило. С месяц мне пришлось довольно трудно, но я стал решительно бороться со своим «сталобыканьем», и в довольно короткий срок совершенно избавился от него. Удивительно, что я не приобрел взамен него никакой другой похожей привычки. Значит, победить такой вид косноязычия возможно. Не очень легко, но — возможно.
Я, естественно, не собирался в маленькой работе этой охватить и продемонстрировать все типичные недостатки нашей речи: имя им — легион! Я привел лишь краткий перечень постоянно встречающихся шероховатостей. Прислушайтесь к тому, как говорят другие; последите за собой сами, и вы обнаружите многие из них.
Вот, скажем, неточное употребление предлогов, в частности предлога «за».
Предлог «за» может принимать участие во многих словосочетаниях и соединять, как застежкой, разнообразные слова. Но строго определенные!
Можно сказать «бороться за что-либо» и «борьба за, скажем, победу». Но нельзя, не следует говорить «соревнование за»: соревноваться можно с кем и в чем. Уж тем более нельзя сказать «конференция за мир» или «за охрану природы». Слово «конференция» сочетается с предлогом «по», а если он не подходит, надо искать ему описательную замену: «конференция по охране природы», «конференция, посвященная охране природы», «конференция по вопросам защиты мира», можно изобрести немало других сочетаний.
А ведь даже весьма образованные люди делают тут тяжкие ошибки:
«В полной уверенности за готовность войск… я перелетел на (другой) фронт» — написано в мемуарах одного крупнейшего военачальника. «Испытывать уверенность» можно только в чем-либо, но никак не за что-нибудь.
Культура речи, между прочим, как раз и состоит в значительной мере в борьбе против общераспространенных погрешностей. Совершенно ясно, никто не скажет по ошибке: «в уверенности под готовностью войск» или «над готовностью войск», — так с этим и бороться нечего. А вот против «незаконного ЗА» следует вести упорную борьбу, если даже у мастеров слова вы будете встречаться с ним. Оно — нетерпимо!
ПАЛИТРА ГОВОРЯЩЕГО
Немыслимо описать вам всю «палитру красок» живой русской речи: исчерпать ее многоцветность, показать все те краски и колеры, средства и приемы, какими пользуется язык, чтобы наилучшим образом перенести из сознания говорящего в сознание слушающего не одно лишь знание, но и всю радугу чувств, переживаний, ощущений, какие владеют им!
Создать в уме собеседника некоторое подобие всего того, что думает и ощущает сам говорящий, вызвать чувство радостного согласия или гневного протеста… — как можно свести все это в таблицу?
Нет, я не собираюсь и не думал написать нечто вроде былых «риторик» — учебников красноречия. Я знаю: никакими сериями правил и советов тяжелодума и тяжелослова не превратишь в Цицерона или Мирабо.
И сейчас моя задача скромна: в противовес предложенному вам перечню «сцилл и харибд» живого говорения указать на некоторые всем известные, но нередко преспокойно забываемые приемы и способы, позволяющие придать языку побольше свойств речи хорошей.
Будет полезно, если и вы сами, и ваши будущие воспитуемые удостоверятся в чрезвычайном богатстве собственных возможностей, в разнообразии его и словарных и других запасов.
НАШЕ БОГАТСТВО
Начнем со словаря. Почти каждое понятие мы можем выразить при помощи нескольких слов, а не какого-нибудь единственного. Наши большие словари содержат от 80 до 150–200 тысяч слов. Но ведь это только формальный подсчет.
Вот, например, лошадь. Мы можем сейчас назвать ее лошадью, через минуту — клячей, затем — конем, а может быть, кобыленкой, или, наоборот, буцефалом, росинантом, пегасом… Даже сивкой-буркой, в зависимости от того, как мы оцениваем ее достоинства, как относимся к ней — с восхищением или иронически, всерьез или не без шутки.
Все эти слова-синонимы (лошадь и конь) не совпадают целиком друг с другом, они накладываются друг на друга, как кружк? с разными центрами: часть покрыла другой круг, часть осталась за его пределами. Нельзя в пушкинской «Полтаве» о богатстве Кочубея сказать: ни «там табуны его лошадей» ни «там табуны его кляч», только — «там табуны его коней», как и сказано Пушкиным.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ХОРОШО или ПРАВИЛЬНО? (КУЛЬТУРА РЕЧИ)
ХОРОШО или ПРАВИЛЬНО? (КУЛЬТУРА РЕЧИ)
2.1. Художественный перевод и культура речи
2.1. Художественный перевод и культура речи 171. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора. М.: Книга, 1972. - 176 с. Рец.: Энтин Б. Спор о словах. // В мире книг, 1973, #1, с.60.Александров В. Тяжелая болезнь - канцелярит. // Журналист, 1973, #2, с.34-35.Сивоконь С. Книга о точном слове. //
ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ…
ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ… Прекратим эти речи на миг, пусть и дождь свое слово промолвит и средь тутовых веток [42]немых очи дремлющей птицы промоет. Где-то рядом, у глаз и у щёк, драгоценный узор уже соткан — шелкопряды мотают свой шелк на запястья верийским
«ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ…»[208]
«ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ…»[208] Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щёк, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему
Зодчие речи
Зодчие речи I Народ, зодчий речи, творит себе памятник. Без паники! Куда нас зазвали волшебные шрифты на небо с асфальта ведущего лифта? Монтажники речи, поэты как будто, качают за плечи великие буквы. Меня взвейте в небо строительным краном — как буквицу, выпавшую из
Памятные речи
Памятные речи Теплый июльский вечер 1890 года. На обширном озере в Чухломе, далеком от железной дороги и губернского города Костромы, сидят в лодке два друга: сын зажиточного огородника Костя, или Константин Михайлович, как его начинают теперь называть, рослый загорелый
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА Культура в полном смысле - это вообще все, что делает человек. От тапочек до орбитальных станций.Я сейчас разумею смысл узкий, вне грубоматериальной сферы.При Сталине и вообще в советский период искусства процветали. Прежде всего, для них создали базу: подняли
72. О браке нет и речи
72. О браке нет и речи Любил ли Кеннеди-младший Мэрилин? Вряд ли. Слишком скоротечным был их роман. И слишком уж безжалостно поступил Роберт со своей любовницей. Скорее всего, Роберт лишь выполнял просьбу брата – отвлечь внимание Мэрилин от Джона, занять собой и тем самым
Образ речи
Образ речи Думать и писать об Аксенове настоящее счастье. «Искусство трагически разъединяет», — сказал кто-то из наших общих знакомых. С Аксеновым искусство объединяло, как объединяет сверхчувственное в сфере реального.Писать для него значило жить, читать же Аксенова
Странности речи
Странности речи Осенью, в октябре, я ездила с Фёдором в Киев. У него была командировка, связанная, кстати, с переговорами о новом назначении. Заодно мама просила поискать для меня врача. Ей кого-то там посоветовали.Дело в том, что речь моя опять застопорилась. Речь моя вела
Гармония речи
Гармония речи Рецензенты таганковских спектаклей вновь и вновь обращают внимание на тембры актерских голосов, что, согласимся, явление редкое для драматического театра. При этом говорят чаще всего о их природной специфике, непоставленности, распространенной «хрипотце»
РЕЧИ
РЕЧИ Все говорили речи. Везде, как грибы, вырастали трибуны. Куда ни приедешь, везде собрания. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всех, призывали бросать фронт, не подчиняться офицерам.Говорили офицеры, сестры — все. Помню, приехала в отряд. На трибуне
РИТМИКА РЕЧИ
РИТМИКА РЕЧИ Еще одним сильным манком, воздействующим на чувства, — утверждал Станиславский, — является темпо-ритм речи. Звуки голоса, речь — отличный материал для выявления внутреннего и внешнего темпо-ритма текста.Не торопитесь, — остановил Константин Сергеевич на
6. Знак речи
6. Знак речи …Хорошая поэзия – особенно в наше время – не должна прятаться от истории, уходить в анархический сюрреализм или чисто лингвистические игры. Раньше или позже она взрастит в себе трезвую дисциплину, мужественную иронию <…>, найдет способы передать
Гетеанум как «Дом речи»
Гетеанум как «Дом речи» Эти записи были сделаны в сентябре 1945 года. К тому времени прошло 33 года со времени первых указаний по эвритмии, данных в Базеле в сентябре 1912 года. В этом же 1912 году, после выхода немецкой секции из Теософского общества, было образовано