ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ
ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ
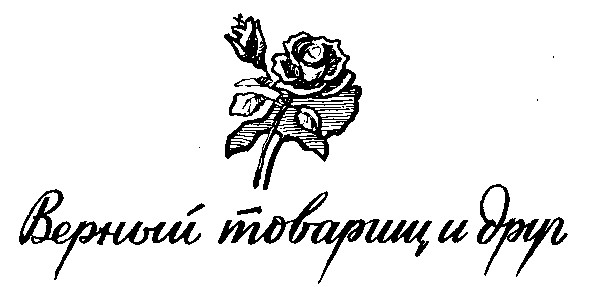
Воспитанница Лесгафтовских курсов. — Кропивницкий, Надсон. — Автор любимой песни Ильича. — Неоконченный разговор.
Сколько я помню свою маму Ольгу Антоновну Липскую, она всегда была за работой. Утром нас будит ее ласковый и требовательный голос:
— Катря, Галя, Марьяна, Остап, вставайте!
Вставать, конечно, неохота, но с мамой шутки плохи. Миг — и одеяло у нее в руках.
— Пусть медвежата спят, а вам пора за дело браться. Без дела жить — только небо коптить.
Мы знаем, что это говорится мамой не для красного словца. Встаешь, а уже форма твоя выглажена, на столе завтрак, в комнатах чисто, уютно — и во всем мамины руки узнаются. Ласковые и беспокойные, требовательные и нежные мамины руки. Они приготовляли вкуснейшие в мире блюда, раскрывали страницы наших гимназических тетрадей, легко, осторожно касались детского лобика, измеряя температуру, белыми лебедями летали над клавишами рояля.
Любовь к музыке привела Ольгу Антоновну Липскую, молодую воспитанницу Лесгафтовских курсов, на концерт отца в Чернигове.
Музыку она любила всю свою жизнь.
…Вечер. Отец в отъезде или где-то задержался по делам. Мы одни с мамой в гостиной.
— Мамочка, родненькая, миленькая, сыграй нам что-нибудь!
Мать усмехается.
— Ну что с вами, медвежата, делать? Утром не добудишься, а на ночь глядя вам музыку подавай.
Подходит к роялю и строго:
— Хорошо! Сыграю. Но потом всем спать сразу.
…На блестящем черном зеркале деки отражается ее необычно суровое лицо, большие карие глаза, в которых так и светится разум, энергия и… печаль. Так сидит она минуту, другую. Вот пальцы осторожно коснулись клавишей, так осторожно, будто боятся ранить их грубым прикосновением. Играла нам мать свои любимые вещи: пьесы Чайковского, отцовскую «Песню без слов». Но больше всего она любила шумановские «Грезы».
Как-то во время игры послышался легкий скрип дверей. Смотрю — на пороге отец. Погрозил пальцем: молчи, дескать. Не знаю, что послышалось ему на этот раз в шумановских «Грезах». Когда я снова обернулся, слеза росинкой застыла на его лице. Что это были за слезы? Счастья или тревожного предчувствия?
Для нас наша мать была талантливым педагогом, тактичной и требовательной наставницей. А для отца она была женой-матерью, женой-сестрой, мудрым советчиком и неутомимой помощницей, вернейшим другом. Сердце с сердцем прошла она с ним важнейший период его жизненного и творческого пути.
Утро… Только что затихли шаги отца: ушел, как всегда, в Институт благородных девиц давать уроки фортепьянной игры. Мать чем-то опечалена — это мы заметили за завтраком. Что случилось? Позвала нас в спальную комнату, закрыла двери.
— Дети, вы уже не маленькие и должны понять меня. Все, что было заработано, пошло на долги, которые пришлось сделать, чтобы оплатить последнюю поездку с хором. Придется сократить расходы. Отцу ни слова. Никакие сокращения не должны его коснуться. Он единственный у нас работник. Мы не должны беспокоить его, отрывать от работы.
На этом слове мы выбежали из комнаты и через минуту явились со своими маленькими кошельками.
— Мама, вот здесь деньги. Ты возьми.
Эта сценка — только эпизод. Но в нем вся наша мама. Своим личным делом считала она любое начинание отца, любой его труд.
Лесгафтовские курсы (в официальном Петербурге их не без основания называли рассадником нигилизма и вольнодумства) оставили свой след даже на внешнем ее облике. Одевалась всегда со вкусом и просто. В строгом платье со снежно-белым воротником, коротко остриженная, в скромной шляпе, она и в сорок лет напоминала молодую курсистку. Не терпела на себе драгоценностей, украшений.
— Своим оперением красна лишь пташка, — говорила она, смеясь, — а человек — знанием.
Всегда занятая десятками неотложных отцовских дел, хозяйством, многочисленными посетителями, воспитанием детей, она находила время изучать английский и французский языки, читала новинки украинской, русской и западной литературы, читала и подпольные революционные издания, попадавшие к нам через дядю Дусю. С религией мать поддерживала весьма натянутые отношения. Сама в церковь не ходила, монахов и попов не любила и осталась сознательной атеисткой до самой своей внезапной смерти.
Отец мой, хотя тоже не терпел религиозного фанатизма и предрассудков, все же был человеком верующим. Церковь, правда, он посещал больше ради пения и частенько возвращался домой в сопровождении длинноволосого хориста, студента духовной академии.
— Смотри, Николай Витальевич, — шутила мать, — покарает тебя господь: у самого бога переманиваешь певцов.
Подобными шутками и исчерпывались разговоры на религиозные темы в нашей семье. Не припоминаю ни одного спора.
Мать, конечно, уважала религиозные чувства отца, что, однако, не мешало ей воспитывать нас атеистами. Причем и здесь все обходилось без насилия, без докучливой морали. Чаще всего мать почитывала нам вслух из Феррара, Свифта, Гейне, а больше всего Шевченко.
Світе ясний! Світе тихий!
Світе вольний, несповитий!
За що ж тебе, світе-брате,
В своїй добрій, теплій хаті
Оковано, омурано
(Премудрого одурено),
Багряницями закрито
І розп’ятіем добито?
Тихий, проникающий в душу голос матери крепнет, наливается силой.
Не добито! Стрепенися!
Та над нами просвітися,
Просвітися!.. Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
Явленними[34] піч топити,
А кропилом будем, брате,
Нову хату вимітати!
Одному «богу, апостолу святому» молились все в нашей семье, имя ему — Тарас Шевченко. Помню, с каким волнением мать читала нам в присутствии отца:
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати,
І спати на волі —
І заснути навік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково —
Чи жив, чи загинув.
Голос матери звенит тонкой струной, вот-вот оборвется.
Атеизмом, волелюбием мать обязана не только Лесгафтовским курсам, но и традициям ее семьи. Дядя мой, родной брат Ольги Антоновны Липской, народоволец Александр Липский, был пригооорен за участие в покушении на царя Александра III к смертной казни. Он избежал ее, долгие годы выдавая себя за сумасшедшего. Из каземата Петропавловской крепости его перевезли в больницу для умалишенных, где продержали не один год. Александр Липский, оказавшись на свободе, жил некоторое время в нашей семье. То был уже немолодой человек с запавшими щеками и горячечным нервным блеском в глазах. Страшные испытания, долголетнее насильственное пребывание среди умалишенных, видно, подорвали и здоровье его и психику. Мать ходила за ним как за малым дитем. Вообще, сколько помню мать, она всегда о ком-то заботилась, кому-то помогала, для кого-то собирала вещи или деньги.
В нашем доме часто бывали люди из разнообразнейших уголков левобережной и правобережной Украины. Чаще всего то были начинающие композиторы, музыканты, писатели, актеры, учителя, вечные студенты, селяне: бориспольцы, стайковцы, охматовцы, романовцы, стремившиеся в Киев то за наукой, то, как говорила мать, «в поисках ветра в поле» — правды и справедливости в губернском городе. И каждого надо было покормить, а кого поддержать и деньгами и добрым словом. Квартира отца была в те времена (80—90-е годы), по свидетельству многих современников, «Меккой», сердцем, центром, куда сходились все нити украинской культурной жизни. Тогда ведь не было ни клубов, ни общественных сборищ. Небезопасна была и переписка (на почте сидели «шпекины» в жандармских мундирах). И все живое, здоровое тянулось к Лысенковой хате.
Здесь обсуждались различные начинания, новинки политической жизни, науки, искусства, программы Тарасовых вечеров. Это и называлось тогда общественной жизнью. Бывало, что посещали квартиру нашу и нежелательные люди, своими взглядами не отвечавшие взглядам ни отца, ни матери. Им давали это понять всегда тактично, без лишних резкостей. Зато как радостно приветствовали в нашем доме Ивана Франко, Михаила Коцюбинского, Лесю Украинку, Марка Кропивницкого, Миколу Садовского.
Разве хватило бы сил у отца, вечно обремененного работой, принимать всех посетителей, отвечать на многочисленные просьбы! Недаром отец называл маму своей правой рукой, генеральным писарем войска Лысенкового.
Издание ли произведений, переписка их или помощь в организации концертов, хоровых поездок, многочисленная корреспонденция — ко всякому делу прикладывала она свои любящие руки, свое отзывчивое к добру и свету сердце.
Влюбленная в театр, в немеркнувшее слово Пушкина, Шевченко, Шекспира, Гейне, Ольга Антоновна очень дорожила личной дружбой с писателями, артистами— сеятелями «разумного, доброго, вечного» на театральной, литературной и житейской ниве.
…Коренастая фигура, лукавые глаза из-под косматых бровей на полном добродушном лице, характерный сипловатый голос — таким запомнился мне Марко Лукич Кропивницкий — давний приятель матери, большой друг отца и всей нашей семьи. Театр Кропивницкого первый познакомил зрителей с народными операми Лысенко «Черноморцы», «Наталка-Полтавка», а потом и с оперой «Утопленница». В 1883 году Марко Лукич даже породнился с Лысенками, став крестным отцом моей сестры Галины.
Помню, в кабинете над рабочим столом отца большое художественное фото Марка Лукича с бандурой, с надписью: «Любій моїй хрещенниці Галині».
Театр Кропивницкого, известного актера, режиссера и драматурга, как и другие украинские труппы в 90-х годах, был передвижным, театром на колесах. Почти круглый год колесил Марко Лукич по губернским и уездным городам Украины. На летние месяцы Кропивницкий снимал для своей труппы киевский летний театр в саду бывшего «Купеческого собрания» (сейчас пионерский парк).
С первым визитом Марко Лукич неизменно являлся к нам. Мать моя сама готовила обед для кума — его любимые кушанья. На стол подавалась большая макитра пампушек с чесноком и богатырская кастрюля с постным рыбным борщом.
После трактирных щей, неизменно сопутствующих Марку Лукичу в дни гастролей, обед Ольги Антоновны, как он не раз говорил, был для него «праздником великим», так как нигде так вкусно не готовили, как у «кумасі». На свой «праздник» Марко Лукич обычно являлся с комиком Рафальским. Мне все казалось, что именно с него списал своего Счастливцева Островский. Обед, хорошо приперченный шутками и анекдотами Рафальского, кончался тем, что на стол ставился тульский ведерный самовар. Марко Лукич, смешно отдуваясь, пил стакан за стаканом крепко заваренный, душистый, обжигающий губы чай. И тут сказывалась привычка странствующего актера. О чем только не говорилось за чаем! Здорово попадало от Марка Лукича новомодным драматургам, «неудачникам-портным», кроящим все свои пьесы по западному образцу.
— Нужна нам как хлеб народная драма, чтоб бурлила в ней народная жизнь, как в «Тарасе» вашем, — говорил Кропивницкий отцу.
Марко Лукич был на диво музыкальным, знал множество песен, романсов и мог их пропеть на память. Каждый раз он привозил из своей Херсонщины новые песни, услышанные в народе, и пел их для нас, мастерски передавая в них характерные образы широких херсонских степей. Николай Витальевич тут же записывал их.
Вместе с Рафальским Марко Лукич, разойдясь, показывал нам сцены из новых пьес. Припомнился Марко Лукич — сотник в пьесе «Вий» по одноименной повести Гоголя.
Человек чрезвычайно живой, увлекающийся, Марко Лукич легко переходил от гневного пафоса к юмору, от драматических сцен к комическим эпизодам, смешным повествованиям о различных гастрольных приключениях. Какая-то чудодейственная сила моментально изменяла его голос, выражение лица, даже фигуру и возраст. Казалось, что в нем одном притаилась целая толпа: сельские старцы и мироеды, дьячки и жандармы, губернские дамы и провинциальные барышни, магнаты и обедневшие панки, чиновники-хапуги и трактирщики — и он выпускает их на волю, когда ему захочется.
Сверх «программы» Марко Лукич по просьбе отца рассказывал о своей встрече с Александром III, самодержцем всея Руси.
…Только что с громадным успехом прошла на императорской сцене комедия-водевиль Кропивницкого «По ревизии» с участием самого Марка Лукича и Миколы Садовского. Еще не утихли аплодисменты и вызовы, а смертельно уставший Марко Лукич, очутившись за кулисами, уже начал снимать сапоги. Внезапно, без стука, в комнату, как вихрь, ворвался офицер в сверкающем позолотой мундире. Даже не поздоровавшись, он тут же сердито гаркнул: «Немедленно собирайтесь! По приказу его императорского величества следуйте за мной!»
— Признаться, у меня мурашки по телу побежали, — рассказывал Марко Лукич, — украинский язык и украинский театр были, правда, «высочайше разрешены», но от «их императорского величества» всего можно было ожидать. Посадили меня в карету, чудо-кони так и рванули с места. Еду и думаю: «Вот тебе, Лукич, и Юрьев день». Попал ты, старый дурень, как кур во щи: со сцены — в Петропавловскую крепость.
Не успел в мыслях попрощаться с родными, как карета остановилась. А через минуту, как был в одном сапоге, загримированный под старосту, очутился во дворце, в огромном зале. Смотрю, рядом и Садовский Микола Карпович. Хотел я с ним словом перемолвиться, как вдруг из каких-то потайных дверей, будто из самой стены, выходит некто. Блестящих пуговиц на нем еще больше, чем на том офицере, эполеты из чистого золота, так и сияют.
Подошел он ближе, сердито сверкнул глазами, здесь я и узнал его — царь! Не раз видел на портретах. Александр III сразу заговорил. Буркнул что-то о своих симпатиях к малорусской сцене, а у меня перед глазами Петропавловка стоит, в голове туман.
О чем спрашивало меня «его величество» — убейте, не скажу. Помню лишь, царя с перепугу, как первого встречного околоточного, «вашим благородием» назвал вместо «ваше величество».
Не знаю, Садовский ли, начав разговор, выручил, а может, царь и не слушал меня вовсе, только все обошлось благополучно. Через минуту мы снова сидели в карете, и кони в одно мгновение перенесли нас в театр. Я никак не мог прийти в себя, не знал, что и думать, а Микола Карпович смеется:
«Что, Лукич, не понравилась царская ласка?»
Потом сам признался: знал (адъютант или кто другой предупредил), что не на расправу зовут, а для ласковой беседы. Видно, из политических соображений этот «родной отец малороссов» и дал нам, украинским актерам, аудиенцию. Так, — заканчивал Марко Лукич, — «приласкал» нас царь! Недаром говорят в народе, что кара царская, что ласка — один черт!»
Рассказывая, Марко Лукич показывал в лицах себя, адъютанта, Садовского и царя — всех участников этого написанного самой жизнью водевиля.
Отец смеялся до слез:
— Оце так подяка царська! Від такої подякі ведмежа хвороба може напасти.
Помню рассказ матери об одной особенно интересной встрече. На одно лето, изменив Китаеву, мои родители сняли дачу в Боярке. По соседству — хорошенький домик, затененный густой завесой дикого винограда. Почти до самого балкона тянулись своими огненными головками георгины, ближе к земле пламенели нежные розы, белели астры. Уже в первый день приезда Лысенкам встретился в этом маленьком земном рае странный незнакомец. Высокий, худой, с лицом аскета и огромным чистым лбом, он поражал печалью больших карих глаз.
Вскоре на прогулке в лесу снова встретили его, поклонились как соседу, и так вышло, что разговорились с ним. Он коротко отрекомендовался: Надсон.
Надсон… Надсон…
Стихами Надсона грезил весь Киев.
Не говорите мне: он умер, — он живет,
Пусть жертвенник разбит, — огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана, — она еще цветет,
Пусть арфа сломана, — аккорд еще рыдает!..
Тот ли Надсон? Хотя он ничего не сказал о своих занятиях, но сердцем мать почувствовала — он.
Так оно и вышло. Надсон, уже смертельно больной, по совету врачей проводил лето в Боярке. Ольга Антоновна очень обрадовалась встрече, пригласила поэта к нам. Лето, как назло для больного, выдалось холодное, дождливое, лишь изредка оно скупо баловало нас солнечными днями. В непогоду Надсон сидел у нас часами. Настроение у него было такое же изменчивое, как и погода. Вероятно, терзали его время от времени боли. И в такие минуты он сидел молчаливый, темнее грозовой тучи. Но боль отпускала его, и снова светлело, делалось милым и приветливым его лицо, снова вспыхивал на нем болезненный румянец.
Доверчивый и правдивый, как ребенок, с открытой душой, он в такие минуты охотно рассказывал о своей жизни. В свои двадцать четыре года ему пришлось перенести столько душевных драм, что их хватило бы на целую вечность.
Как мало прожито,
Как много пережито!
Еще в детстве остался сиротой, жил у людей, не любивших и не понимавших его, юношей похоронил любимую девушку, и сам который уже год боролся со страшным недугом. И этот человек в хорошем настроении рассказывал такие смешные истории, от которых веселели и теплели самые суровые сердца. На расспросы матери о состоянии здоровья он неизменно отвечал: «Я бы совсем выздоровел, если бы мне не угрожала опасность умереть».
Надсон бывал и за границей, куда погнали его чахотка и врачи. О знаменитых заграничных курортах, однако, рассказывал неохотно. Здоровье ни в Ницце, ни в Ментоне не возвратил себе, надежды утратил. А вместе с надеждами и… сюртук. Нужно ж было, чтобы как раз в карнавальную ночь что-то загорелось в его комнате. В отеле крик, паника. Дамы забегали, заохали.
— А кончилось тем, — шутил Надсон, — что у Фемистокла были свои корабли, и он сжег свои корабли. У меня был сюртук — и я сжег свой сюртук.
Ну ее, заграницу. Гнали меня туда и в этом году — не поехал. И жить и умирать лучше на родине.
Задумчиво, тихим, задушевным голосом, словно в забытьи, продолжает:
Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине.
Да не тянет меня красота этой чудной природы,
Не зовет эта даль, не пьянит этот воздух морской,
И как узник в тюрьме жаждет света и жаждет свободы,
Так я жажду отчизны, отчизны моей дорогой.
Оторванный от людей тяжелой болезнью, тонкий, вдумчивый лирик и глубокий знаток человеческих чувств, Надсон удивлял то мудростью и печалью не по годам, то по-детски наивным представлением о самых простых вещах. Во время общих прогулок по Боярке поэт не раз напоминал моим родителям путешественника по дебрям Африки или Австралии, открывающего на каждом шагу для себя что-то новое. Жизнь, быт сельского учителя, хлебороба, попа, урядника — все было откровением для Надсона. Он подолгу расспрашивал отца о его фольклорных экспедициях, увлекался думами Вересая, интересовался бытом украинских кобзарей, творчеством Шевченко, современных украинских поэтов, иногда читал свои новые стихотворения, редко довольный ими, всегда что-то вычеркивая и исправляя. При этом цитировал своего любимого поэта:
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.
Прощаясь с Бояркой, Надсон подарил матери томик своих стихов с авторской надписью. Долгое время хранилась у нас эта книга как дорогая реликвия. В кругу близких друзей мать часто декламировала стихотворение, особенно популярное среди революционной молодежи 80—90-х годов:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто бы ты ни был, не падай душой!
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей.
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь:
Верь, настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!
* * *
Если о Надсоне я могу сказать, что он меня видел (в колыбели), а я его нет, то другой знакомый матери и сейчас, как живой, стоит перед моими глазами. То был Григорий Мачтет, народоволец, один из ранних русских социалистов, автор популярных в свое время очерков, рассказов, романов и знаменитой на весь мир песни «Замучен тяжелой неволей».
В те годы Григорий Александрович Мачтет проживал с семьей в Житомире, в должности акцизного чиновника.
Хотя писателем и газетным работником он был очень плодовитым и произведения его печатались в «Русской мысли», «Русских ведомостях», выходили отдельными изданиями, но гонорар бывал всегда таким малым, что приходилось служить, чтобы прокормить семью.
Приезжая по своим служебным делам в Киев, он никогда не миновал «Лысенковой хаты». Хорошо помню его у нас на Мариинско-Благовещенской улице. Густая грива черных волос, лишь кое-где пересыпанная сединой, длинная, пышная, «под Короленко», борода и умные, удивительно добрые, очень живые глаза за стеклышками золотого пенсне. Таким запомнился мне автор любимой песни Ильича. Покончив со своими литературными и служебными делами, он обычно вечерами заходил к нам «на огонек». Григорий Александрович объехал чуть не полсвета. Моложе отца лет на десять, он родился в Луцке, учился в Немирове. Исключенный из гимназии за революционные взгляды и открытую симпатию к «государственному преступнику» Чернышевскому, учительствовал в Могилеве-Подольском, там познакомился с Михаилом Старицким. Активный деятель Киевского социалистического кружка, он уехал в Америку, увлеченный идеей создания свободного общества-коммуны по образцу коммуны-мастерской Веры Павловны, героини «Что делать?». Утопические мечты разбились о суровую американскую действительность, и, года два проработав батраком в прериях Канзаса, овладев полностью английским языком, молодой революционер возвратился на родину, увозя из Америки ненависть к белым плантаторам и черному рабству Юга да ряд чрезвычайно интересных для писателя наблюдений.
Человек действия, народник-пропагандист, Мачтет за попытку освободить двух товарищей из тюрьмы сам попадает в казематы Петропавловки. Двадцать месяцев одиночной камеры, долгие годы ссылки за Полярным кругом в Холмогорах, потом в Тобольской губернии, где создавалось лучшее его произведение — роман «И один в поле воин», не сломили его, не изменили его взглядов. Больное сердце Григория Мачтета до конца билось в такт, в унисон с сердцем народа, до последнего вздоха остался он верным своим юношеским идеалам.
Рассказчик Григорий Александрович был редкостный.
В изустных повествованиях он оставался таким же, как и в своих произведениях: поборником свободы и правды, другом всех угнетенных, гнанных и бедных, будь то подольский хлебороб, обездоленный индеец из прерий, негр или силезский ткач.
Как он говорил! Все замолкало за столом, когда, поблескивая стеклышками пенсне, он начинал одну из своих историй о пережитом в воинствующей Пруссии, в Америке или далекой Сибири.
Однажды, помню, он появился у нас со сборником своих очерков и рассказов, вышедших только что из печати. По просьбе отца стал нам читать очерк о Германии, кажется под таким же названием — «Германия». Не знаю, может, потому, что читал сам автор, но в своей жизни мне не пришлось слышать более острого, язвительного памфлета против прусского милитаризма.
Мачтет побывал в Германии по дороге в Америку за год или два после разгрома Франции под Седаном. Он грезил Германией Шиллера и Гейне, Гегеля и Гёте, а увидел сытое, самодовольное лицо Германии-убийцы, Германии-грабительницы. В вагонах высокомерные бюргеры в мундирах фельдфебелей пьяно хвастались своими подвигами в «аморальной» Франции, своими «победами» над женщинами и детьми, зверскими убийствами. В песнях («Deutschland ?ber alles»), в самой атмосфере бюргерской, бисмарковской Германии было что-то удушливое, угрожающее всему миру. В Гейдельберге, в этом былом светоче знаний, пьянство и дуэли стали содержанием студенческой жизни, а девизом их: курить, пить и молчать, не думать ни о чем (за всех думает бог и «железный канцлер»). Сентиментальные песенки студентов все чаще заглушались армейскими маршами.
Такой увидел Германию русский революционер в 70-х годах. Немало ядовитых зерен было тогда рассеяно по немецкой земле, гитлеровским чертополохом взошли те зерна спустя полвека.
С этим очерком связана история знакомства Мачтета с Некрасовым. Простой, скромный человек, Григорий Александрович никогда не афишировал свои знакомства со многими выдающимися русскими писателями, но встречей с Некрасовым явно гордился.
Было это, по его словам, так: написав свою «Германию», Григорий Александрович порешил, чем черт не шутит, попытать счастья в «Отечественных записках». Передал рукопись в редакцию, а через неделю отправился за ответом. На Некрасова — «певца печали и гнева народного» Мачтет, как и вся революционная молодежь, мало не молился. Нетрудно представить себе, какие чувства охватили его, когда он переступил порог некрасовской квартиры.
Встретил его Некрасов приветливо и сразу сказал, что очерк будет напечатан в одном из ближайших номеров. Стал детально расспрашивать об американских впечатлениях, планах на будущее. Глаза его блеснули из-под насупленных бровей ласковой и мягкой усмешкой:
— По одному произведению, так я думаю, трудно судить о таланте человека. Нередко бывает, что на первом произведении этот талант и кончается. И все же мне уже теперь кажется, что из вас настоящий писатель вытанцуется. Вы умеете любить и… кусаться.
С этим благословением Некрасова Мачтет и вступил на тернистый путь русского литератора.
Как-то, не помню уже, по какому поводу, отец заинтересовался историей песни «Замучен тяжелой неволей» (сам автор называл ее «Последнее прости»).
— Было это незадолго до моего ареста, — рассказывал Мачтет, — мы провожали в последнюю дорогу студента-медика, замученного царскими палачами за распространение листовок. Я и не думал, что соберется столько народу. Даже полиция и та растерялась, не стала мешать. Никогда раньше не чувствовал я себя таким сильным, таким уверенным в правоте дела, которому давно уже решил посвятить свою жизнь. Разве это не счастье — так жить и так умереть? Тогда и зазвучало во мне «Последнее прости».
Больше всего Мачтет ненавидел так называемую «цивилизацию» угнетателей-колонизаторов. Помню несколько его историй о плодах «святой цивилизации» в Америке.
Самое плачевное явление там — оседлые индейцы, которых коснулась рука американской цивилизации. Когда-то храбрые охотники, гордые воины, они стали бесправными нищими.
За бутылку виски белый цивилизатор для потехи покупает у своего «красноликого брата» его жену, сестру, дочь. Стыдно делается за такую «цивилизацию», когда видишь ее плоды. Как тут не вспомнить Пушкина:
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
Отдавая должное энергии, трудолюбию, практической хватке, гостеприимству и демократизму американских фермеров, Григорий Александрович с гневом и возмущением рассказывал о страшном суде Линча. Немало подобных историй выслушал я за большим столом в столовой. Даже мать, всегда неумолимая в отношении режима, «не замечала» нас за вечерним столом, когда рядом сидел Мачтет. И отец охотно оставлял свой кабинет, незаконченные дела ради мачтетовских рассказов.
В столовой уютно. Мать бесшумно колдует над чашками и вареньем. На столе что-то добродушно напевает самовар. И льются один за другим рассказы Григория Александровича.
Помню, как рассмешила отца история с американским президентом и… носками. Рекламы и девяносто лет тому назад преследовали американца на каждом шагу.
В каждом городе были свои профессора магии, колдуны, гадальщики, медиумы, «самозванные лекаря» — шарлатаны.
Крикливые рекламы помогали им делать бизнес, то есть стричь как баранов доверчивых фермеров и горожан.
Дошло до того, что некий фабрикант, послав американскому президенту ящик с носками своей фабрики, просил последнего, когда тот будет садиться, поддергивать брюки так, чтобы все видели на носках прошитое золотом имя фабриканта. Президента, конечно, возмутила такая просьба. Свое возмущение он высказал через прессу. Этого только и нужно было предприимчивому королю носков: вся Америка узнала о его товаре.
— Президент — реклама! Ну и ну! — разводил руками отец. — И все ради наживы. Все они. и местные и европейские, одним миром мазаны. За золото родного отца продадут, да еще и око вырвут.
Прощаясь, Григорий Александрович в который раз приглашал «Лысенко со чадами» к себе в Житомир. Мне с отцом посчастливилось воспользоваться этим приглашением.
Помню прибытие хора в Житомир. Небольшой одноэтажный дом. На крылечке — Мачтет.
— Добро пожаловать, дорогой Николай Витальевич! Все сделано, как вы желали. Хористы уже устроены. Вас прошу в мой дом.
…Последний раз Григорий Мачтет пришел к нам прямо от врача, который, надо думать, наговорил ему немало горького. Никогда раньше я не видел его таким поникшим. Однако когда мать заговорила о селянских бунтах на Черниговщине, он оживился, стал прежним Мачтетом.
— Надеюсь, наступающее столетие будет более счастливым для нашего народа. Жаль, не увидеть мне всего этого. Поездил по свету, повоевал с темным царством, бумаги перевел с добрый воз — и довольно. Пора и честь знать.
— Что вы, Григорий Александрович, — успокаивала его мать, — вы еще всех нас переживете.
Не очень и ошиблась. Умер Григорий Мачтет в 1901 году в Ялте. Антон Павлович Чехов отдал ему последний долг. Но мать мою действительно пережил почти на год.
Как-то вскоре после внезапной смерти матери я застал, возвратившись из гимназии, отца за роялем.
Во всем доме не было ни души. Рояль молил и плакал, что-то нежно шептал… Шумановские «Грезы».
Отец не заметил меня, и я на цыпочках выбрался из гостиной. Мне показалось, что в эти минуты он самым дорогим для него языком звуков продолжает неоконченный разговор с нашей мамой, верным, незабвенным другом своим.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Чубакка, самый верный друг
Чубакка, самый верный друг Хан Соло: «Не стоит обижать вуки». С-3РО: «Почему никто не боится обижать дроидов?» Хан Соло: «Дроиды не выдергивают другим руки, когда проигрывают, а вуки это делают». Принцесса Лея: «Уберите с моей дороги этот ходячий волосатый половик!» О том,
Верный товарищ
Верный товарищ Одним из штрихов в мужественном портрете нашего нового президента (а на изготовление портрета были брошены все СМИ) стала такая деталь: когда Собчак проиграл выборы, Путин проявил принципиальность и ушел вместе с ним, не бросил учителя… После смерти
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЕРНЫЙ ДРУГ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЕРНЫЙ ДРУГ — Возьметесь про Ваню писать, тогда уж и Сашу Штепу помяните добрым словом, — посоветовала мне Антонина Дмитриевич Черевичная. — Ведь закадычные были дружки. Я, бывало, гляжу на вас троих, — распиваете вы чаи, тараторите, тараторите…
Мой верный друг, что ты наделала?
Мой верный друг, что ты наделала? Утром Ира должна была уехать с Мишей на попутном грузовике. (Миша, сам шофер, знал всех шоферов Бессарабии и нашел машину). Я не хотела заходить к тете Кате. У меня создалось впечатление, что они все, а особенно Нина, жена Юрика, все это
«Товарищ по несчастью» еще не значит «друг»
«Товарищ по несчастью» еще не значит «друг» В трех или четырех домах меня и на порог не пустили. Мне все же удалось разжиться кое-какой едой (миска пустых щей, две репы, кружка кислого молока — все это за рубль), но меня попросили, чтобы сразу после еды я ушла. Я сделала вид,
Верный пёс
Верный пёс Любопытна судьба его собаки. Этот пес был гордостью своего хозяина. И правда, более уродливого пса я не встречала! Недаром же он получил медаль на выставке в Лондоне! Морда широкая и тупая, как у бегемота, была, вдобавок, украшена бакенбардами. Шерсть жесткая, как
Мой верный друг, что ты наделала?
Мой верный друг, что ты наделала? Утром Ира должна была уехать с Мишей на попутном грузовике. (Миша, сам шофер, знал всех шоферов Бессарабии и нашел машину). Я не хотела заходить к тете Кате. У меня создалось впечатление, что они все, а особенно Нина, жена Юрика, все это
«Товарищ по несчастью» еще не значит «друг»
«Товарищ по несчастью» еще не значит «друг» В трех или четырех домах меня и на порог не пустили. Мне все же удалось разжиться кое-какой едой (миска пустых щей, две репы, кружка кислого молока — все это за рубль), но меня попросили, чтобы сразу после еды я ушла. Я сделала вид,
МОЙ ВЕРНЫЙ ЩИТ
МОЙ ВЕРНЫЙ ЩИТ Хутор Трактовый приткнулся недалеко от Ахтанизовского лимана. Только не вздумайте искать такой сегодня ни на земной тверди, ни на картах: вместо него разметнулись во все стороны виноградники да лесозащитная полоса вымахала, где хоронили мы однополчан.
А. М. Яглом Друг близкий, друг далекий
А. М. Яглом Друг близкий, друг далекий Случайности играют большую роль в любой жизни. В моей обстоятельства сложились так, что я, по-видимому, знал А. Д. Сахарова дольше всех других (кроме, может быть, некоторых его родственников), с кем он продолжал встречаться до конца
Верный друг зима
Верный друг зима Я не узнавал нашего казарменного двора на Холодной горе. Все его площадки и закоулки были запружены боевыми машинами. А танки все шли и шли в наш адрес — из Ленинграда, Москвы, с нашего ХПЗ, освоившего к тому времени уже седьмую модель быстроходного танка.
БОЛЬШОЙ ДРУГ И ВЕРНЫЙ ЛГУН
БОЛЬШОЙ ДРУГ И ВЕРНЫЙ ЛГУН Карлоса Кастанеду можно смело причислить к величайшим загадкам XX столетия. Достоверно о нем известно только то, что он — автор десяти книг-бестселлеров и основатель компании Cleargreen, которая ныне владеет правами на творческое наследие Кастанеды.
Верный друг Сталина
Верный друг Сталина Газеты распинались во всю мочь, что «от нас ушла еще молодая, полная сил, бесконечно преданная партии и революции большевик»… Что росла она и воспитывалась в семье рабочего-революционера. Что как в годы гражданской войны на фронте, так и в послевоенные
Верный друг
Верный друг Я, может, день там прожил, А может, целый век Я помню только утро И белый-белый снег Юлиан Тувим В глубине глухого памирского ущелья, у бешеной серой реки мы встретили артель таджиков ? золотоискателей. Кучка бронзовых людей в рваных и грязных, некогда пестрых
Иван Золотарь ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ
Иван Золотарь ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ Борис Галушкин спрыгнул к нам на озеро Палик с группой московских парашютистов в июне 1943 года, в самый критический для нас момент. За два часа до его появления наша бригада, измотанная пятидневными изнурительными боями с крупными силами
Наш любимый друг и боевой товарищ![15]
Наш любимый друг и боевой товарищ![15] Среди многих тысяч замечательных военных летчиков нашей страны Анатолий Серов был лучшим военным летчиком-истребителем.Такую оценку А. К. Серову давала вся масса летного состава. Его знали все военные летчики, им гордились, его