ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
…Немилосердно печет июльское солнце. Горит тайга. Огненные языки вздымаются высоко в небо, клубится дым, трещат и рушатся деревья. Енисей несет свои воды сквозь бушующий огонь и рев зверья. Едкий дым щиплет глаза. Но вот на высоком правом берегу засверкала белыми блестящими куполами церковь, показалась цепочка деревянных домиков. Это село Монастырское — административный центр Туруханского края. Здесь конец изнурительного пути ссыльных депутатов.
С берега машут руками. Кто-то отделился от толпы и вскочил в лодку.
— Яков Михайлович! Честное слово, это Яков Михайлович! — радостно воскликнул Самойлов.
Налегая на весла, Свердлов торопился к пароходу. Пришвартовавшись, поднялся на палубу, крепко обнял Григория Ивановича и его товарищей.
— Ну что ж, друзья, вы славно потрудились во имя революции, а теперь садитесь в лодку и поедем на новое местожительство… Тут, правда, немного тише, чем в Петербурге, — улыбнулся он.
На берегу прибывших ждала группа ссыльных. Объятия, шутки, смех. Шумной толпой все поднялись по крутым тропкам в село, на самом краю которого стоял небольшой деревянный дом, где жили Свердловы. Строение принадлежало метеостанции, там работала метеорологом Клавдия Тимофеевна. Они по очереди с Яковом Михайловичем проводили измерения температуры воздуха и воды, устанавливали направление ветра, определяли уровень воды в реке, количество осадков.
Клавдия Тимофеевна с детьми — Андрейкой и Верой — вышли встречать прибывших.
— Мамочка, сколько дядей! — с восторгом кричит Андрейка.
Навстречу кинулся черный пес с белым пятном на лбу. Свердлов потрепал его за ухом:
— Он у меня молодец, с классовым чутьем псина. Никого не трогает, а на стражников бросается. И они его боятся, не решаются заходить во двор. А нам это на руку. У нас два выхода — на улицу и в тайгу. Пока я успокаиваю пса, Клавдия успевает выпустить товарища через заднюю калитку. А туда стражники даже нос сунуть не решаются.
Григорий Иванович сразу подружился с детьми Свердлова, завел с ними разговор о птицах, подбрасывал их по очереди вверх, напевал, пританцовывал, а они смеялись, шалили, наперебой рассказывали ему о своих делах.
— Андрейка, видно, вас узнал, — сказала Клавдия Тимофеевна.
А Григорий Иванович, возясь с детьми, вспоминал свою любимицу Тоню и сыновей.
Долго в тот вечер продолжалась беседа в маленьком домике над Енисеем. Петровский немало интересного узнал про всеми забытый болотный край. И про особенный туруханский климат — новый человек к нему долго приспосабливался и порой даже излечивался от своих недугов, но случалось, что некоторые здесь и погибали. Рассказали ему и о Монастырском — небольшом селе с несколькими десятками домиков.
— Большинство жителей, — сказал Свердлов, — сосланные. Немало уголовников. Ежемесячно они получают помощь от государства до пятнадцати рублей плюс одежные. Политическим ссыльным приходится туго: они лишены помощи правительства, а заработать тут почти негде…
Петровский поселился в небольшой комнате, окна и дверь которой выходили прямо на дорогу. Погода выдалась необычная: даже старожилы не помнили, когда в эту нору было так тепло, зато ночи всегда холодные — укрываться же нечем и одеяла купить не на что.
На улице — ни души, местное население — чалдоны — на сенокосе. Вокруг Монастырского растет на диво сочная, высокая и густая трава. Чалдоны держат коров и оленей, которые совсем не боятся людей.
Дома в поселке растянулись вдоль реки, совсем близко к воде: для питья и хозяйственных надобностей ее берут прямо из Енисея. Григорий Иванович узнал, что Енисей происходит от слова «ионесси», что на одном из сибирских наречий означает «вода». Из Туруханска в Россию единственный путь по Енисею, и полиция не выпускает его из поля зрения ни днем ни ночью. По обе стороны селения — специальные заставы. «Ссылка в ссылке…» — резануло по сердцу, едва Петровский узнал об этом. А когда их привезли сюда, пристав иронически бросил:
— Снимайте арестантскую одежду. Вы свободны…
Их без конца проверяют, по селу то и дело шастают охранники в мундирах. Приказали снять арестантское, а конфискованные в тюрьме костюмы не вернули.
Как-то Петровский встретил на улице Бадаева, который нес деревянное корыто.
— Запасаюсь, — объяснил он. — Приедет жена с детьми, будет в чем купать ребят.
Петровский тоже без конца думал о семье, о том, как там Доменика и дети, есть ли у них еда, перебрались ли на другую, более дешевую квартиру. Хоть бы строчку получить из дому!
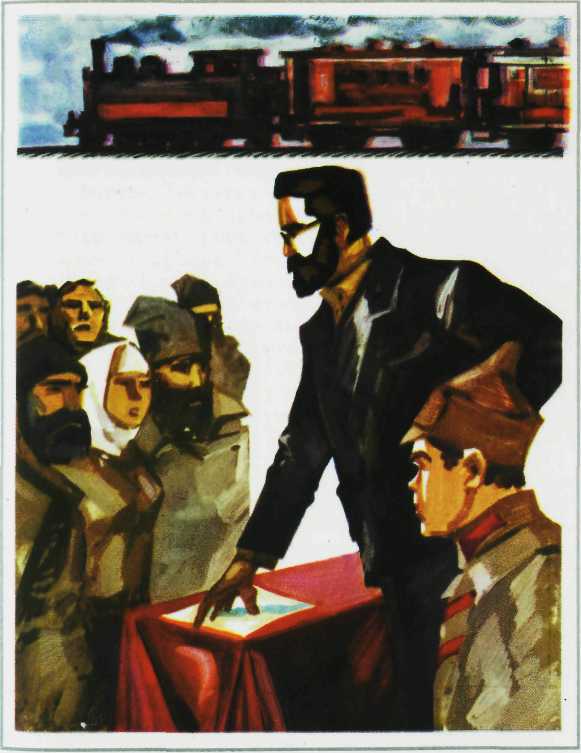
Завернули в бакалейную лавку. Фунт черного хлеба стоил шесть копеек, белого — одиннадцать, фунт сахара — двадцать шесть. А какая дорогая посуда! Стакан — тридцать пять копеек, блюдце — двадцать.
— Знаешь, Григорий, — сказал Бадаев, когда они вышли из лавки, — я не знаю, как быть… Подсчитал, что в месяц на одного человека нужно хотя бы рублей двадцать, но где их взять? Нам, людям городской профессии, здесь работать негде. А приедет семья…
— Да… Зверья тут много, птицы, только как их добыть? Голыми руками не возьмешь, — Григорий Иванович остановился возле своего дома.
Постояли они, погоревали да и разошлись. У Бадаева — маленькие дети, а у него — гимназисты. Если они будут с ним, значит, не смогут учиться. Интересно, что по этому поводу думает Доменика? Наверное, скоро от нее придет письмо.
Взял сетку от мошкары, которую ему подарили товарищи, надел на голову и отправился в тайгу за ягодами. Вокруг краснела и чернела смородина, синела голубика, манила сочная и сладкая ежевика, по виду напоминавшая малину.
Вернувшись домой, Григорий Иванович у своего дома увидел стражника, который обеими руками отмахивался от мошкары.
— Ссыльный Петровский, вам нужно явиться в полицейский участок.
«Начинается», — подумал Петровский. Не заходя домой, направился в участок. Пристав в вылинявшем серо-зеленом мундире дремал, но, услышав шаги, вскочил и громче, чем нужно, выпалил:
— На ваше имя поступило письмо. Вот разрешение, идите на почту и получите.
«Ясно, — подумал Петровский, — каждый наш шаг и каждое написанное слово проверяется».
Ночью спал плохо, вспоминая полученное из дома письмо. Доменика с трудом сводит концы с концами, скоро у нее экзамены на курсах, недавно нашла работу. А он ничем не может помочь. Нет ничего хуже вынужденной бездеятельности! Сейчас самое главное — не терять времени даром, а заняться самообразованием. Во что бы то ни стало! Нужно достать книги, бумагу, карандаши. Необходимо записывать свои впечатления, по возможности работать среди людей, и тогда жизнь по-прежнему станет волновать и радовать. Долго не мог уснуть: одна мысль набегала на другую, словно морские волны.
Повернулся на другой бок. Что-то зашуршало под окном. Вскочил, распахнул настежь дверь. Перед ним стоял молодой олень, на сильных ветвистых рогах он держал огромное красное солнце…
— Свобода придет! — радостно подумал Григорий Иванович, жадно вдыхая свежий, прохладный воздух…
Как-то в конце июля к Петровскому явился запыхавшийся стражник.
— Фу! — вытирая толстое раскрасневшееся лицо, выдохнул он. — Собирайтесь в участок.
— Зачем!
— Так приказано.
В участке уже были Шагов и Бадаев.
— Согласно распоряжению Енисейской тюремной инспекции, вам надлежит переехать в село Елань. Принести арестантскую одежду, — приказал пристав стражнику.
«Снова тюремная роба», — мелькнуло в голове Петровского.
— Я ехать не могу, — решительно выступил вперед Шагов.
— И я — тоже, — присоединился к нему Бадаев.
— Почему?
Они объяснили, что только сегодня получили телеграмму о приезде жен и детей. Пристав недовольно поморщился:
— Морока мне с вами…
Но отправить их не решился, и Бадаев с Шаговым остались ждать в Монастырском своих близких.
Григорий Иванович тепло попрощался с товарищами, Яковом Михайловичем и Клавдией Тимофеевной.
На следующее утро Петровский и Муранов спустились к Енисею. У берега уже качались две лодки с охранниками. Вышли из устья Тунгуски, обогнули остров. Скрылись из виду друзья, стоявшие на берегу, скрылось Монастырское. Перед ними раскинулась бескрайняя панорама тайги — безбрежный океан зелени, перерезанный сверкающей широкой лентой реки. Изредка на берегу мелькали деревушки, напоминающие маленькие украинские хутора.
— Усь!.. Усь!.. — подгоняли охранники запряженных в длинные лямки собак, которые бежали по берегу и тащили лодки.
Заскрипело, заскрежетало под днищем — сели на мель.
— Та!.. Та!.. Та!.. — остановили они собак.
Все вылезли из лодок, закатали штаны и стали толкать их на глубину. Солнце припекало, а вода была ледяной. Попали в сильное течение.
— Пац!.. Пац!.. — закричали охранники.
Обученные собаки быстро и ловко прыгнули в лодки, чтобы некоторое время побыть в роли пассажиров.
Остановились на короткий отдых, покормили собак и снова в путь.
Разве тут убежишь?.. Разве скроешься от всевидящего жандармского ока? Тайга не примет тебя в свои зеленые объятия, а если и примет, то навечно — недолго проплутаешь ее нехожеными тропами: зверь и голод быстро одолеют. Немногим удалось уйти отсюда.
2
В Елани ссыльные тоже пробыли недолго. Через неделю Петровского и Муранова отправили дальше. Тридцать верст ехали они телегой по ухабистой, тряской дороге до Енисейска. Там их встретил пожилой исправник — небритый и равнодушный, лениво промямлил, что есть разрешение устраиваться на квартиры, которые ссыльные должны подыскать себе сами. Неторопливо, переваливаясь с ноги на ногу, он подошел к конвоирной будке, позвал двух стражников, тоже немолодых, с добродушными, тупыми физиономиями, и распорядился, чтобы они внимательно следили за вновь прибывшими и докладывали ему об их поведении.
В Енисейске Муранов и Петровский сняли за десять рублей одну комнату на двоих и договорились с хозяйкой, что она будет готовить им обеды.
Через несколько дней прибыли с семьями Бадаев, Шагов и Самойлов. Друзья обрадовались, что они снова вместе. Бадаев и Самойлов поселились в том же доме, где жили Петровский с Муратовым. Шагов нашел жилище в соседнем доме. В Енисейске вся пятерка сфотографировалась на память в арестантских халатах и тюремных колпаках. Фотокарточки послали родным и знакомым. «Только матери не пошлю, а то будет горевать», — решил Григорий Иванович.
Неустроенность, плохое питание, непривычный климат уже давали себя знать: ослабел Шагов, слег Самойлов, заболела жена Бадаева, и Алексей Егорович отвез ее в Красноярск на операцию. Петровский помогал больным, занимался с детьми. Ему приходилось быть и сиделкой и посыльным.
Екатеринославские рабочие через мать Петровского Марию Кузьминичну прислали на имя Григория Ивановича довольно крупную сумму денег, которую он разделил между товарищами.
— Я пока обхожусь, — сказал Муранов.
Не взял денег и Петровский — надеялся отыскать для себя работу.
Депутаты обошли живших здесь политических ссыльных и у края дороги, на опушке леса, устроили свое первое совместное собрание, на котором Григория Ивановича избрали председателем енисейской колонии политкаторжан.
Всем ссыльным города и близлежащих селений решено было разослать письма-анкеты с просьбой подробно рассказать о своей жизни.
Ежедневно Григорий Иванович отправлялся на поиски работы. Шел улицами маленького городка мимо неказистых домишек, слыша за спиной шумное дыхание охранника, заходил в мастерские, которых тут было десятка три и которые громко именовались заводами, хотя в каждой работало не более пяти-шести человек. Политическому ссыльному нигде работы не было.
Вскоре из Красноярска вернулся Бадаев с женой, немного окрепли после болезни Самойлов и Шагов. Дружно все взялись за изучение истории, литературы, русского языка. Вместе с мужчинами стали заниматься жены. Идет по улице Бадаев, рядом — жена, в руке портфель, муж ведь лишен всех прав: увидит его охранник с поклажей — отберет.
Доменика Федоровна прислала Петровскому мною книг и учебников. Он записывал в самодельную тетрадь темы для будущих статей, связался с известным большевистским журналистом Михаилом Семеновичем Ольминским, знакомым еще по Петрограду. Тот переехал в Самару и начал издавать там «Нашу газету». Петровский уже послал ему одну свою статью, а теперь готовил новую. Кроме того, от него ждали материалов в петроградском журнале «Вопросы страхования». На столе лежит давно начатое письмо Доменике, которое он ежедневно дополняет, получается что-то вроде дневника. Когда заедает тоска, возьмет в руки карандаш, напишет несколько фраз, и сразу становится легче. «Если нельзя приехать, то пришли хотя бы фотографии. Только не снимайтесь печальными».
Как он радовался, получая письма от жены и детей! Сыновья стали совсем взрослыми, помогают матери, стараются хорошо учиться. Он чувствовал, как теплеет у него на сердце, а неволя не кажется столь тягостной.
За окном гудит и воет вьюга, колючий снег бьет в стекло. Скрипят деревянные ступеньки. Кашляя, без стука вошла хозяйка:
— Чего молчал, что у тебя жена как картинка?
— А где вы ее видели?
— У Самойловых на карточке. Такая красавица не приедет к тебе, старику, в Сибирь.
— Кто его знает, может, и не приедет… как позволят обстоятельства, — задумчиво ответил Петровский.
На каланче пробило двенадцать ударов. Полдень. Григорий Иванович машинально взглянул на часы — двадцать минут первого. «И тут произвол», — усмехнулся Петровский.
Кто-то тяжело и медленно поднимался по деревянной лестнице. Оказалось, охранник:
— Собирайтесь в участок.
— Зачем?
— Не знаю. Начальство велело…
В участке он застал Самойлова и Бадаева.
Помощник пристава, помятый и заспанный, опираясь локтями на стол, поднял осоловелые глаза и хрипло проговорил:
— Вы мне не нужны. Вызвал для порядка. Можете идти.
Депутаты возмущенно переглянулись и отправились по домам.
В самом начале нового, 1916 года Петровский устроился наконец токарем в мастерскую по ремонту пароходов. Стоял у станка, и металлическая стружка напевала такую знакомую песню. Как хотелось туда, в Екатеринослав, в привычную рабочую среду. Хоть бы от Степана весточку получить.
А тем временем из разных мест Енисейской губернии стали приходить на имя Петровского, Муранова и Бадаева ответы ссыльных на анкету, разосланную депутатами. В неимоверно тяжелых условиях жили политические. Читая и систематизируя анкетные ответы, Петровский делал заметки: кто из ссыльных нуждается в одежде, жилье, провизии и лечении в первую очередь. Когда же из Петрограда от рабочих-металлистов пришел для депутатов денежный перевод на пятьсот рублей, его разделили между семьями Бадаева, Шагова и Самойлова, а он и Муранов, проживающие без семей, от денег отказались и свою часть — двести рублей — разослали политическим ссыльным, которые находились в крайне бедственном положении.
После долгого ожидания пришло письмо от Степана Непийводы. Рассматривая сплошь пронумерованный и проштемпелеванный конверт, Петровский понял: письмо немало блуждало по свету; оно было написано таким эзоповым языком, что полицейские псы, как ни принюхивались, ничего крамольного в нем не нашли. А Петровский, прочитав пустой и наивный текст и хорошенько поразмыслив, расшифровал дружеское послание, наполнившее его сердце счастьем и надеждой. «Работа не прекращается, усиливается борьба против царизма, большевистские ряды крепнут, издаются нелегальные газеты. Рабочие требуют освобождения своих депутатов. Лучи солнца доходят и в окопы», — писал Степан.
Петровский понял: и на фронт долетает правдивое живое слово.
Бурная радость распирала грудь, не терпелось поделиться ею с товарищами. Он направился было к двери, но деревянные ступеньки в это время заскрипели: кто-то поднимался к нему в каморку. Григорий Иванович мгновенно спрятал послание Степана в сапог, а письмо из дома положил на стол. Без стука вошел охранник и бесцеремонно взял письмо. Прочитал, посидел немного и ушел. Григорий Иванович достал из сапога письмо, сунул во внутренний карман дорогую весточку, как сувенир из края, где идет горячая борьба. «Пойду к товарищам, прочитаю, пусть и они порадуются…»
Теперь каждое утро Григорий Иванович спешил в мастерскую. Но вскоре по требованию жандармов его уволили. Это был чувствительный удар. А тут еще грустные письма жены. «Из твоих писем, — писал он Доменике, — слышу крик истомившейся души, молящей о помощи, а я стою на другом берегу реки, глубокой и быстрой. Что же я могу сделать?»
Петровский начал искать новую работу. Его хотели взять на строительство шоссейной дороги, которая должна была соединить Енисейск с золотыми приисками, но исправник потребовал от инженера, чтобы тот присматривал за новым работником.
— В мою обязанность полицейские функции не входят, — возмутился инженер.
С тех пор Григорий Иванович перебивался случайными заработками и с нетерпением ждал Доменику, которая обещала приехать во второй половине июля. В специальном календаре Петровский зачеркивал числа и считал дни, которые остались до приезда жены. Он то боялся, что не получит вовремя от нее телеграммы, то, что разминется с ней в дороге. Ночью вскакивал и бежал к двери — ему казалось, что кто-то стучит.
Предчувствие чего-то дурного в тот вечер не покидало его. Долго стоял у стены, на которой висели недавно присланные из Петрограда фотографии: серьезен и строг Петя в гимназической форме, неузнаваемо изменились Леня и Тонечка. А у Доменики такое усталое, грустное лицо… Он смотрел на детей и с тоской думал: когда же он их увидит? Утешало одно — скоро приедет Доменика! Она расскажет ему про сыновей и дочку, он узнает последние петроградские новости, снова почувствует тепло ее любящего, преданного сердца. Улыбнулся от нахлынувшего радостного чувства. Вдруг услышал какой-то шум. Вскочил: может, Доменика? Шум нарастал, приближался. Заколотили в дверь. Сразу узнал непрошеных гостей. Наскоро оделся, зажег керосиновую лампу, подошел к двери и отодвинул отшлифованную руками железную щеколду.
Вошел знакомый ротмистр — несколько месяцев назад он в этой же комнате делал обыск. Тогда он перевернул все вверх дном, забрал письма, книги. За офицером ввалилось три стражника — один встал у двери, двое бросились к полке с книгами и журналами.
Офицер прямо посреди комнаты уселся на стул. Ему подносили исписанные Петровским листы бумаги, книжки, письма, он читал, кивал головой и складывал все на пол у своих ног. Потом ротмистр встал и подошел к стене, где висели фотографии:
— Это ваша жена?
— Прошу не трогать мою жену, — нахмурился Петровский.
— Пусть будет так, — спокойно, не обидевшись, сказал ротмистр. Поправив очки, он обернулся к Петровскому: — Я никак не могу понять… Ведь у вас, как депутата Думы, были огромные возможности… Вы вращались в высшем обществе, у вас дети, жена, шикарная жизнь…
При словах «шикарная жизнь» Петровский, сам того не замечая, удивленно посмотрел на ротмистра. «Разве он поверит, что я трудно жил, что не водил по балам и салонам жену, что не бросал денег на ветер. Жалованье нам платили приличное, но ведь деньги нужны были для нашего дела. Я проживал с семьей около сорока рублей в месяц, а остальные уходили на нужды партии. Разве ротмистр поймет это?»
А тот продолжал:
— Однажды оступились… Но зачем же тут, в глуши, снова браться за старое? Ну, объясните мне… просто как человек человеку.
— Гм… — ироническая усмешка тронула губы Петровского. — Я не уверен, что это можно объяснить…
— Неужели вы и вправду верите, что малограмотные рабочие и крестьяне способны взять в руки власть и руководить государством? Неужели вам самому не смешно от подобной мысли?
Почти с таким же вопросом к Петровскому уже однажды обратился в Полтаве молодой юрист, а ныне известный прокурор Шуликовский, и Григорию Ивановичу вдруг стало весело.
— Чему вы улыбаетесь? — наклонился вперед ротмистр. — Я что-то не так сказал?
— Да нет, — ответил Петровский. — Просто меня уже об этом спрашивали… И не раз. А понять революционеров вам мешает ограниченность… — Ротмистра передернуло при этих словах, что не ускользнуло от внимания Григория Ивановича. — Не ваша лично, а ограниченность вашей среды. Пролетариат выдвигает таких людей, которые ради достижения цели готовы пожертвовать любым благополучием и даже своей жизнью. Со мной вы можете сделать все, но побороть справедливые народные устремления у вас не хватит сил.
После обыска стало ясно, что Петровский продолжает свою деятельность: посланные в самарскую газету статьи носили резко антивоенный характер и были запрещены цензурой, о том же свидетельствовали письма, с которых сняли копии. Кроме того, властям стало известно о собраниях, проведенных Петровским, на которых он проповедовал пораженческие взгляды на войну… Все эти материалы были отправлены в Петроград в департамент полиции для соответствующих выводов.
А вскоре Петровского арестовали и заключили в тюрьму. Начальник Енисейского губернского жандармского управления, «принимая во внимание вредное влияние на население и деятельное участие в революционных проявлениях местного неблагонадежного элемента», попросил департамент полиции отправить Петровского в Якутскую область.
В тюрьме Петровский получил от Доменики телеграмму, в которой она сообщала, что выезжает в Енисейск. Он представил себе, как жена приедет в незнакомый город и не застанет его. Собрал все деньги, которые у него были, послал ответную телеграмму в Петроград, но все равно беспокоился: а вдруг его телеграмма опоздала, и Доменика уже отправилась в далекий, утомительный и теперь напрасный путь?..
3
Якутский губернатор фон Шеффле сидел за письменным столом в своем домашнем кабинете и просматривал газеты. Его до синевы выбритое лицо все больше хмурилось. С фронта поступали нерадостные вести: русская армия терпела поражение за поражением.
Фон Шеффле раздраженно отбросил газету и принялся за кофе. Отхлебнул несколько глотков и неторопливо прошелся босиком по мягкой, щекочущей шкуре белого медведя.
В комнату бесшумно, словно тень, проскользнул секретарь.
— Что там? — недовольно спросил губернатор, снова садясь за стол и засовывая ноги в шлепанцы.
— Весьма важное сообщение, ваше превосходительство, — низко поклонившись, ответил секретарь. Он говорил не слишком громко и не слишком тихо, а именно так, как нравилось губернатору.
— Давайте.
Секретарь положил на стол бумагу, замер, вытянувшись и слегка наклонив голову, и ждал, что, как всегда, фон Шеффле прикажет прочесть телеграмму. Но, как ни странно, губернатор его отпустил.
Приложив лорнет к глазам, фон Шеффле изучал лежащую перед ним депешу от иркутского генерал-губернатора. Чем дольше он ее изучал, тем больше вытягивалась его физиономия: только этого нового, столь опасного ссыльного ему не хватало! Именно теперь, когда идет война!
Значит, Петровский даже в Туруханском крае не прекращал своей революционной деятельности, выступал против войны и организовывал политических ссыльных?! А разве здесь он угомонится? Губернатор опять взглянул в телеграмму:
«Сообщая о вышеуказанном, ставлю в известность ваше превосходительство, — читал он, — что 4 июля с. г. за № 9027 мною сделано распоряжение енисейскому уездному исправнику об отправке Петровского этапным порядком в Якутскую область в ваше распоряжение и о передаче вам первого экземпляра статейного списка на Петровского, бумаг и документов, его касающихся».
Фон Шеффле в свое время следил за процессом над депутатами Думы и сразу понял, что за птица Петровский. Теперь его больше взволновала телеграмма, нежели поражения на фронте. Губернатору стало душно в просторном, прохладном кабинете, и он вышел в сад, который всегда действовал на него успокаивающе, настраивая на философский лад.
Сад в этом голом, без единого деревца, городе был настоящим оазисом. В нем длинными золотистыми косами покачивали березы, которые так любил губернатор. Их толстые стволы и мощные ветви, напоенные кровью (с бойни для поливки берез привозили свежую кровь), дышали силой. Поодаль росли янтарные нежные лиственницы, а на клумбах полыхали и слепили глаза яркие цветы, которые не пахли, как многие цветы на этой земле.
«Все осточертело, — думал фон Шеффле, — и тупость чиновников, и провинциальная купеческая роскошь, и грязные инородцы, которые жрут сырую рыбу и сырое мясо… И весь этот ненавистный край… Что может дать миру народ, не имеющий своей письменности?»
Из головы не выходила полученная бумага от генерал-губернатора. Петровского побоялись держать даже в Туруханском крае! И все же с якутской глухоманью ничто не может равняться! Эта область самая недосягаемая…
Опустился в плетеное кресло… Солнечные зайчики играли на одежде и подстриженной траве.
С крыльца спустилась супруга, на цыпочках подошла сзади, обняла полными руками за шею, чмокнула в темя.
— Ты будешь мной доволен, мой медвежонок. Я разговаривала с нашими дамами… Ой, что мы придумали! — Ее глаза сияли.
Губернаторша рассказала, что жены чиновников и военных решили собственными руками сшить «нашим несчастненьким солдатикам», защитникам веры, царя и отечества, манжеты-напульсники, одеяла и жилеты. Одеял, правда, немного, да они, говорят, в условиях фронта и непрактичны.
— Главное, чтоб был согрет пульс, понимаешь… И мы сошьем манжетики-напульсники… Из нежных заячьих шкурок…
Фон Шеффле понимал всю нелепость напульсников, но не хотел расстраивать жену: у дам развлечение и сладкое чувство исполненного патриотического долга.
— Ты, Мери, умница!
— Правда, мой медвежонок?..
— Конечно, милая… Садись, — придвинул он ей второе кресло.
Идиллическую картину нарушил повторный приход секретаря: он сообщил, что чиновники областного управления уже ожидают губернатора.
Фон Шеффле прежде всего потребовал полицмейстера Рубцова — высокого человека в чине капитана со строгим, неулыбчивым лицом.
— Я вас вызвал вот по какому поводу, — сказал фон Шеффле, приглашая Рубцова сесть и протягивая ему полученную утром телеграмму.
— Что ж… это будет пятисотый ссыльный в нашем городе, — прочитав, заявил Рубцов.
— Нет, он поедет дальше. Нужно сделать все, чтобы он здесь надолго не задержался.
— Можете не беспокоиться, ваше превосходительство…
Губернатор начал размышлять, куда бы загнать нового ссыльного. Собственно, куда ни отправишь, всюду места надежные — Верхоянск, Вилюйск, Амга, Олекминск, три Колымска — Верхний, Средний и Нижний. Тысячи, тысячи верст… Остановился на Средне-Колымске.
«Пускай он там волков агитирует», — с улыбкой подумал губернатор. Эта мысль ему чрезвычайно понравилась.
А Петровский тем временем, не подозревая, что о нем так пекутся, задыхался в вонючем кубрике баржи. Изредка его выводили на палубу, и тогда он жадно вдыхал свежий воздух, любовался могучей Леной и янтарно-желтыми лиственницами на берегу. Грязная баржа, набитая арестантами, больными и здоровыми, казалась чужеродной и дикой среди величественной северной красоты.
«Как тяжек гнет, как хочется солнца и свежего воздуха», — подумал Петровский.
Из тайги веяло холодом, над водой белыми облачками висел туман. На берегу стоял олень с ветвистыми рогами и зачарованно следил за темной движущейся точкой — баржей.
Под вечер заключенных высадили на голый, без единого деревца, пыльный берег Якутска. Холодное, серое небо, одинаковые дома с высокими перекошенными заборами. Черные деревянные стены, черные деревянные крыши, ставни, кое-где покрашенные в белый или голубой цвет, казавшиеся необычно яркими на сплошном темном фоне. Иногда между домами чернели, словно копны лежалого сена, якутские юрты — конические шатры, покрытые берестой или звериными шкурами.
Арестантов погнали в тюрьму — строение из темных колод лиственницы. Высокую ограду оплетала колючая проволока — символ нерушимости и благоденствия Российской империи.
Петровскому определили камеру — узкую клетку, где он, измученный долгой дорогой и духотой, мгновенно заснул. Его разбудили, когда было еще совсем темно, и отвели в контору тюрьмы.
Там ждал Григория Ивановича плотный, среднего роста человек с усами и пышной, зачесанной назад шевелюрой.
— Емельян Ярославский, — отрекомендовался он и крепко пожал руку Григорию Ивановичу.
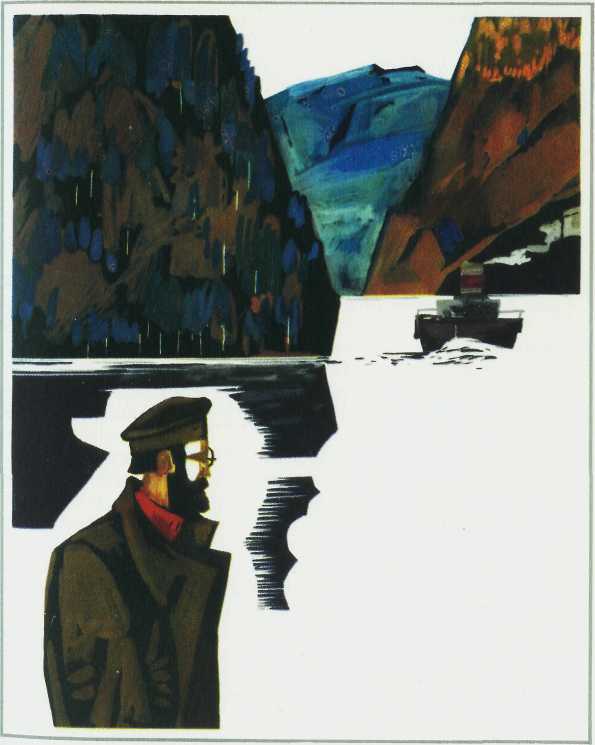
Петровский слышал о Ярославском еще в Петрограде и теперь с удовольствием ответил на крепкое рукопожатие.
— Я условился с тюремным начальством, что беру вас на поруки. — Голос Емельяна Михайловича звучал уверенно и бодро. — Так что собирайте свои вещи…
Петровский улыбнулся: у него был только один небольшой полотняный мешок. Как обрадовался Григорий Иванович! Надоели тюрьма, конвой, который следует за тобой даже в нужник, всячески стараясь подчеркнуть твое человеческое бесправие.
Вместо с Ярославским они зашагали немощеной дорогой, повернули направо и оказались в центре, на так называемой Большой улице. Во дворе, рядом с двухэтажным кирпичным домом, каких в городе было всего два или три, в простой деревянной избе жил Ярославский с женой Клавдией Ивановной Кирсановой, делившей с ним все тяготы ссыльной жизни. После тюрьмы, грязного и душного трюма баржи жилище Ярославского показалось Григорию Ивановичу настоящим дворцом.
— Мы с нетерпением ждали вас, — приветливо сказала Клавдия Ивановна. — Мы здесь так оторваны от революционных событий и так хотим услышать от вас подробный обо всем рассказ. Вы ведь недавно виделись с Лениным.
Петровский переоделся, привел себя в порядок, глянул в зеркало и, смеясь, произнес:
— Вот теперь я действительно на свободе.
Клавдия Ивановна прислушалась:
— Бубенцы звенят? Это к нам Григорий Константинович Орджоникидзе, наш добрый друг Серго. Он часто наведывается из Покровского, это в верстах восьмидесяти отсюда. Уже месяца три как поселился там. После Шлиссельбурга отправлен сюда на вечное поселение. Но духом никогда не падает! Человек необыкновенной энергии, бесстрашный и преданный нашему революционному делу.
Послышалось громкое «Тпру!», и через минуту на пороге стоял невысокий, сухощавый человек лет тридцати с продолговатым, кавказского типа лицом и большими черными глазами.
— Живы-здоровы? — весело спросил он, здороваясь с Клавдией Ивановной и сияя белозубой улыбкой.
— Познакомьтесь, Григорий Константинович, это — Григорий Иванович Петровский.
— О, нашего полку прибыло! — крепко пожимая руку Петровскому, воскликнул Орджоникидзе. — Хорошо, что я приехал. Только вчера вечером вернулся из дальнего улуса. Я тут фельдшером работаю, вспомнил свою старую специальность, — объяснил он Григорию Ивановичу.
— Оставайтесь, Григорий Константинович! Емельян пошел собирать кружковцев. Григорий Иванович расскажет нам много интересного, — оживленно сообщила Клавдия Ивановна.
— Идет! — с большой радостью согласился Орджоникидзе. — Я остаюсь и с вашего позволения переночую у вас.
— Ну, конечно.
Вскоре молодые люди и девушки в гимназической форме из кружка «Юный социал-демократ» шумно заполнили комнату. «Значит, и тут, в краю вечной мерзлоты, не смогли заморозить живую мысль: и здесь есть где и с кем работать», — глядя на возбужденную компанию, думал Григорий Иванович.
Петровский рассказал соратникам по борьбе и юным кружковцам о своих последних встречах с Лениным, о судебном процессе над депутатами, о настроении петербургских рабочих, об антивоенном движении, которое растет и ширится и в тылу, и на фронте…
Григорий Иванович подал прошение с просьбой оставить его в Якутске. Колония ссыльных стала нажимать на областное управление и самого губернатора: Петровский не в состоянии ехать в Средне-Колымск, ему необходимо лечиться. Григорий Иванович и в самом деле чувствовал себя скверно: болела грудь, мучил кашель.
Фон Шеффле созвал врачебную комиссию, и она подтвердила, что Петровский действительно «не может совершать продолжительную и дальнюю поездку по состоянию здоровья». Это совершенно не устраивало губернатора, но и отправить ссыльного дальше он не решался: умрет в дороге — неприятностей не оберешься. Фон Шеффле был известен крутой нрав иркутского генерал-губернатора и его наставления в отношении ссыльных: «Любой перехлест покрою, поблажек не потерплю».
«Действовать нужно умело, — размышлял фон Шеффле, — а как, черт побери, действовать, если он по дороге может отдать богу душу? К тому же депутат, хотя и бывший… Нет, пускай лучше останется здесь. Прикажу полицмейстеру не спускать с него глаз», — решил он.
Петровский остался в Якутске.
Зима стояла суровая. Ему, жителю южных широт, было нелегко переносить пятидесятиградусные морозы: отморозил щеки, потрескались руки, на них выступала кровь. Работал он в селе Павловском, в восемнадцати верстах от Якутска, был машинистом на молотилке агрономической управы. Трудились прямо на улице, и уставал он не столько от работы, сколько от мороза.
Григорий Иванович снял крохотную комнатенку с большой печкой. Радовался, что у него есть стол, за которым в свободное время можно писать.
Жизнь ссыльных становилась все труднее: цены на продукты росли, а заработать было негде. Когда на Лене кончалась навигация, прерывалась всякая, кроме телеграфной, связь этого северного края с миром и переставали приходить и без того редкие посылки от родных.
Однажды Григорий Иванович зашел в лавку и услышал, как молодой якут, по виду батрак, просил отпустить ему два фунта сахара.
— Хватит и фунта! — бросил лавочник. — Больше у меня нет. Война! Не подвозят!
Якут ничего не сказал, лишь в его раскосых глазах вспыхнули обида и злость. А за дверью его товарищ в облезлой меховой шапке бросил:
— Брешет! У него много сахара!
На следующий день Григорий Иванович познакомился с якутами — Санькой и Матвеем, которых видел накануне.
Парни жадно слушали рассказ Петровского о том, как враги трудового люда наживаются на войне и на горе бедняков.
4
Прочитав только что полученное от Степана письмо, Петровский радовался и удивлялся: как могла военная цензура пропустить такой текст?
Григорий Иванович решил познакомить с письмом Непийводы всю колонию политических ссыльных. Он быстро шагал гористым берегом реки и вдруг остановился как вкопанный. Перед ним в натуральную величину стоял конь, вылепленный из снега: с копытами, распущенной гривой и раздутыми ноздрями.
— Вот так чудо! — воскликнул Григорий Иванович. Неподалеку он увидел Саньку и Матвея.
— Кто вылепил?
— Санька, — сказал Матвей, указывая на приятеля.
— Как у тебя получился такой красавец? — спросил Петровский.
— Я и сам не знаю, — смутился Санька. — Я делаю, а оно получается…
И Петровский вспомнил Дикий остров, рассказ Степана Непийводы про химика-самоучку, знаменитого конокрада, и сердце его сжалось от боли: какие таланты таятся в народе, каким прекрасным скульптором мог бы стать якутский батрак Санька. Как нужна, как необходима революция! Только она освободит людей от рабских оков.
Вечером в просторном клубе приказчиков, одноэтажном доме с большим залом на шестьсот мест, несколькими комнатами и телефоном, куда сбегались ручьи общественной жизни города и области, собрался народ, в основном политические ссыльные. Каждый приходил сюда в надежде узнать что-нибудь новое. Когда Григорий Иванович в косоворотке, подпоясанной кушаком с кистями, и в простых сапогах стал подниматься на трибуну, в зале наступила тишина.
— Товарищи, я хочу прочитать вам некоторые выдержки из солдатского письма, — сказал он, держа в руках послание Степана. — Послушайте, что пишут с фронта. «Не хватает патронов, снарядов, оружия, обмундирования, мы сидим голодные и лишены элементарнейших условий. Глухое и безнадежное недовольство постепенно перерастает в активные действия… Солдаты отказываются подчиняться офицерам. За неповиновение — расстрел. Но это лишь ветер, который раздувает пожар… Наша рота недавно браталась с немецкой».
Григорий Иванович поднял голову и посмотрел в зал. Все сидели сосредоточенные и настороженные. В первых рядах он заметил молодых якутов Саньку и Матвея, Максима Аммосова и Платона Слепцова, которых совсем недавно вовлек в социал-демократический кружок. Они смотрели на него полными веры глазами. Григорий Иванович улыбнулся им и решительно сказал:
— Солдаты не хотят воевать!
— Вы уверены в этом? — спросил известный меньшевистский лидер Вихлянский.
— Абсолютно.
— Но ведь письмо давнее. Почему вы думаете, что все осталось по-прежнему?
— Вопрос настолько наивный, что мне даже неловко на него отвечать такому широко образованному человеку, как вы, Яков Осипович.
— Отчего же неловко? У вас пролетарское чутье, а у меня его нет. Я — интеллигент. Но я наивно думаю, что настроение солдат может измениться в связи с некоторыми успехами на фронте…
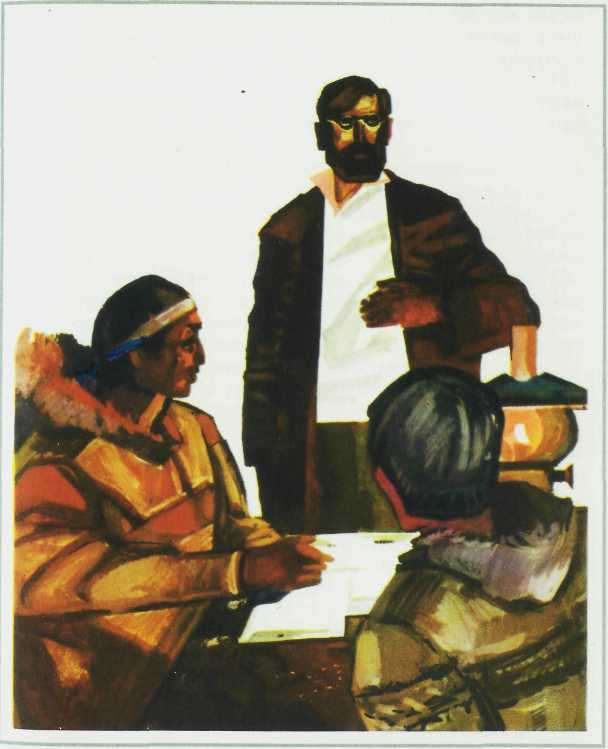
Петровский, не скрывая иронической усмешки, спокойно ответил:
— Река не потечет вспять. Я знаю наверняка… уверен, что недовольство не только не угасает, а с каждым днем усиливается. За это я могу поручиться, хотя мы находимся сейчас за десять тысяч верст от окопов…
Вихлянский встал, потер руки, глянул на кончики ногтей, словно там были записаны тезисы его речи, и не спеша начал:
— Тут товарищ Петровский прочитал нам весьма интересное письмо. Это волнующий человеческий документ, крик измученной, истерзанной души, голос отчаяния… Пусть простит мне уважаемый Григорий Иванович, но услышанное нами свидетельствует о панике, которая охватила солдат. Сегодня я прочитал в «Областных ведомостях», что дамы высшего света во главе с губернаторшей шьют заячьи одеяла и жилеты для наших доблестных воинов… — Растроганный, замолчал, достал платок и приложил его к глазам. — Люди, которые никогда не работали, начали трудиться ради общего блага. Это — истинная манифестация патриотизма. Победа России — наше общее дело! Нужно любить Россию такой, какая она есть. Нужно любить ее так, как любит Фирс в чеховском «Вишневом саде». Нужно ее любить, как мать, какой бы она ни была.
Вихлянский победоносно оглядел слушателей и сел. Какое-то мгновение все молчали, потом зашумели и загомонили.
Поднялся Петровский:
— Товарищи, кто хочет выступить?
Встал Максим Аммосов, щеки его пылали, взгляд был устремлен на Вихлянского:
— Не слушайте его, он — предатель. Нам не нужна война.
— Я, молодой человек, повторил слова Плеханова, основоположника марксизма в России. Случайно не читали? — насмешливо спросил Вихлянский якута.
Аммосов растерялся.
— Продолжайте, — подбодрил Петровский юношу.
— У меня все…
— Товарищ Вихлянский, — твердо начал Петровский, — опытный оратор, он знает, как сбить с толку молодого товарища. Однако это не делает ему чести. Плеханов действительно был первым распространителем марксизма в России. Но позиция, которую он занял в вопросе о войне, позиция поддержки царского правительства, является отступничеством от марксизма! И мы не боимся об этом говорить. Плеханов предал интересы рабочего класса и всего трудового народа, как предали их парламентарии Германии, Бельгии и других западных стран. Мы против войны потому, что она прежде всего бьет по пролетариату и крестьянству, приносит им неисчислимые жертвы, голод и разруху… Напрасно уважаемый оратор говорил здесь о заячьих жилетах и одеялах, сшитых изнеженными руками губернаторши и ее высокопоставленных приятельниц… Почему-то он забыл упомянуть о напульсниках… Вероятно, ему и самому неловко…
Петровский замолчал, и тут же взорвались аплодисменты. Понизив голос, Григорий Иванович продолжал:
— Если мы — революционеры, то должны это письмо распространить среди солдат и населения, помочь им избавиться от шовинистического угара.
На следующий день письмо Непийводы уже читали солдаты местного гарнизона. Вооруженные силы Якутска раскололись: большая часть солдат выступила против войны. Искра протеста упала на сухой лес, и вскоре запылал костер, который уже невозможно было потушить.
5
Нынче молотьбу в Павловском начали спозаранок и закончили еще до полудня. Григорий Иванович остановил паровик, собрался и заспешил в Якутск. По дороге решил заглянуть к Левченко.
Учитель с Полтавщины Марк Степанович Левченко когда-то примкнул к народникам, потом уверенно пошел за социал-демократами. В родных краях Левченко не был уже более двадцати лет. Десять лет просидел в каземате Петропавловской крепости, затем был выслан сюда.
Петровский подружился с ним, они часто встречались, пели народные украинские и революционные песни, вспоминали родные края, общих знакомых. В последнее время Левченко тяжело затосковал, стал молчаливым и задумчивым.
Учитель колол дрова. На снегу лежали розовые поленья лиственницы.
— Лиственница пахнет лимоном, — радостно сказал Петровский.
— А мне кажется — ладаном.
— К чему такие грустные ассоциации? — нарочно весело спросил Петровский. — Я не люблю говорить о ладане.
— Кто же любит? — Левченко, держа топор, выпрямился и спокойно посмотрел на Петровского. — Разве всегда говоришь то, что хочешь? Порой жизнь так долбанет, что не можешь опомниться…
— Но ведь человек сам кузнец… — начал было Григорий Иванович, но почувствовал, что слова его звучат неубедительно.
— К сожалению, так бывает только в книгах. Но полно об этом… Я здесь кое-что решил, потом скажу…
Через несколько дней он сказал:
— Вот что… называй это как хочешь… малодушием, трусостью — не знаю. Но у меня больше нет сил… Я долго думал, но не мог прийти к другому…
— Загадками говоришь…
— Ничего тут загадочного. Помнишь, когда хоронили Комарницкого, я сказал тебе, чтобы ограду сделали пошире… Лежать мне рядом с ним.
— Ты в своем уме? — вскочил со стула Петровский.
Больше всего его поразил невозмутимый тон Левченко, точно он говорил о чем-то будничном и обыкновенном. Знал твердый характер учителя и был уверен, что тот для себя все решил бесповоротно. Где же найти слова, чтобы спасти товарища? Что делать?..
— Мы ведь накануне победы… Идет революция… Зачем же…
— Возможно, победа близка. Я верю в нее, и мне жаль, что не доживу до светлого дня…
На другое утро дурное предчувствие погнало Петровского к Левченко. Еще издали увидел, что у настежь распахнутых дверей толпится народ. Сняв шапку, Григорий Иванович протиснулся в комнату. На кровати лежал учитель, рядом — револьвер. Полицейский чиновник осматривал жилище. На столе белела записка. Петровский, сжав зубы, прочитал: «Простите, товарищи! Верю, что красное знамя скоро запылает над Зимним дворцом, но я больше не могу… Извините и прощайте». Еще одна жертва…
Левченко похоронили на Никольском кладбище.
Белое, студеное небо нависло над серебристыми куполами Никольской церкви, над кладбищем с каменными надгробиями. Ближе к церкви лежат именитые люди города. На их могилах высятся массивные памятники с золотыми надписями, крестами и портретами в рамках. Долгий путь проделали эти глыбы, чтобы осесть здесь, под скупым северным небом, на земле вечной мерзлоты. Их заказывали в Финляндии, везли по железной дороге до Петрограда, оттуда — в Москву. Из Москвы поезд следовал до Иркутска, где железная дорога кончалась, и глыбы на лошадях переправляли в Жегалово, оттуда — на лодках в Усть-Кут. Ждали короткой навигации, продолжавшейся на Лене около четырех месяцев, и пароходом отправляли их по реке до Якутска.
Миновав пышные памятники, Петровский идет в конец кладбища, где теснятся холмики без крестов: это самоубийцы… Скромные надписи на дощечках: Орлов, Подбельский, Янович, Мартынов, Пащенко, Лимаренко… Старые могилы. А вот и свежие… Комаршщкий, Левченко… Сколько талантливых, полных творческой энергии людей распрощалось с миром… Сколько могил — с именами и безымянных — разбросано по бескрайним просторам Российской империи! Сколько погублено чистых, трепетных сердец, сколько светлых умов преждевременно ушло в вечный мрак…
Перед глазами Петровского, как живой, стоял рослый и сильный Марк Левченко, так трагично покинувший неприветливую, холодную землю. И все же нужно бороться! Несмотря ни на что, бороться!
И словно повеяло теплом с берегов далекого Днепра, словно засветило приветливое южное солнце. Глухо шумела тайга, но теперь она уже не навевала отчаянной тоски.
В письме к жене написал о самом заветном: «Нас освободит рабочий класс. Я верю — освободит!»
6
В начале марта 1917 года из Петрограда пришла телеграмма: «Скоро ожидается большая радость, свидание с матерью». Всем было ясно: встреча с матерью — это начало революции. Но никто толком ничего не знал. Неожиданная весть вызвала разные догадки и слухи, накалила эмоции, но пока трудно было представить, что именно произошло в России. На второй день прилетела из Петрограда телеграмма от Доменики Федоровны, адресованная Ярославскому, как поселенцу с постоянным и твердым адресом в этом городе.
Емельян Михайлович распечатал ее, прочитал, лицо его просияло. Он бросил все и помчался к Петровскому в мастерскую. Молча протянул ему телеграмму.
— «Николай II отрекся от престола, — читал Григорий Иванович. — В Петрограде создан Совет рабочих и солдатских депутатов и Временное правительство… Царская семья арестована. Революцию поддерживают Кронштадт и Москва. Горят здания судебной палаты и жандармского управления. Петровская». Наконец-то! — радостно воскликнул он. — На сегодня с нас хватит. — Петровский выключил рубильник, вытер станок, весело сказал: — Ну что ж, товарищ станок, пока отдыхай, я, видно, вернусь не скоро.
Петровский и Ярославский посмотрели, улыбаясь, друг на друга и еще раз перечитали телеграмму.
— Нельзя терять ни минуты… соберем колонию…
— Надо срочно вызвать Серго…
На дворе трещал лютый мороз, но Петровский его не чувствовал. Еще вчера Григорию Ивановичу нездоровилось: кололо в боку, было трудно дышать. Теперь он шагал стремительно и бодро, словно сбросил с плеч не один десяток лет.
Навстречу ехали сани, запряженные парой гнедых якутских лошадей с густой курчавой шерстью. Когда сани поравнялись с Петровским, полицмейстер Рубцов поздоровался с ним особенно вежливо. «Знает», — решил Григорий Иванович.
Невообразимый шум стоял в клубе приказчиков, где уже собрались политические, а также местные жители. На лицах беспокойство и нетерпеливое ожидание. Петровский, как председатель колонии политических ссыльных, прочитал телеграмму из Петрограда.
Вихлянский тут же попросил слова.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Часть четвертая
Часть четвертая Тщетные усилия М-ру Чемберлену удалось получить от Южной Африки подарок в 35 миллионов фунтов стерлингов и завоевать сердца англичан и буров. Поэтому он оказал холодный прием индийской депутации.– Вы знаете, – сказал он, – что
Часть четвертая
Часть четвертая
Часть четвертая
Часть четвертая Мать научила Сашу Минца, будущего академика, отмечать, что надо сделать и что сделано за день, научила уважать женщину, уступать ей место, скромно одеваться, не тратить деньги на роскошь, потому что кругом много бедных людей. Эти простые, наивные правила
Часть четвертая
Часть четвертая Ходил он от дома к дому, Стучась у чужих дверей, Со старым дубовым пандури, С нехитрою песней своей. А в песне его, а в песне, Как солнечный блеск чиста, Звучала великая правда, Возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, Заставить биться сумел, У
Часть четвертая
Часть четвертая
Часть четвёртая
Часть четвёртая Глава 1 События в мире развивались стремительно. Одно трагичнее другого, словно предначертание чудовищной судьбы. Ужасы, слёзы, кровь стали обыденностью. Главари фашистских государств преподносили миру всё новые и новые сюрпризы.Началось всё в один из
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Витебский вокзал — самый старый, первый вокзал в России. Его построил на месте предыдущих зданий (деревянное 1837-го, каменное 1849–1852 годов) архитектор А. Бржозовский в 1904 году. Это модерн, ничего старческого в нем нет, а светлой красоты и суровой