ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА
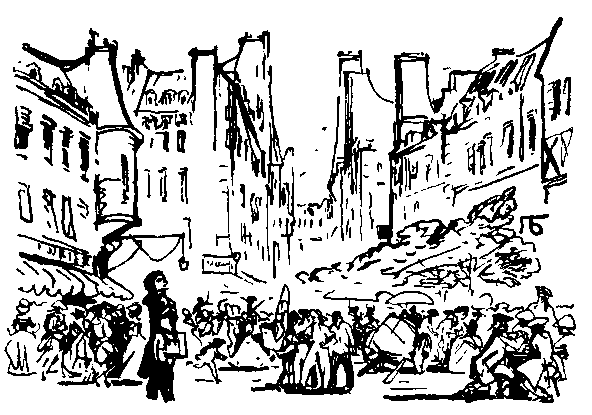
Детский мир Жана Поля Мара до десятилетнего возраста был ограничен маленьким городком Будри.
В 1754 году семья переехала в Невшатель, и горизонт Жана Поля сразу раздвинулся. После игрушечного Будри Невшатель показался большим и прекрасным городом. Длинные улицы, широкие площади, казавшиеся очень высокими трех-четырехэтажные дома, здание ратуши, исполненное строгости и величия, бескрайные берега озера, омывающего город, белые, вздутые ветром паруса на подвижной ряби воды стального цвета…
А что было по ту сторону озера, там, где смутно обозначалась гряда уходящих в небо Альпийских гор?
Но горизонт маленького Жана Поля становился все шире не только потому, что он увидел неведомый ему раньше и казавшийся огромным незнакомый мир.
В раннем детстве мальчик был физически слаб. «Я не знал ни буйства и безрассудности, ни игр детства», — писал он позднее. Он легко и прилежно занимался, благо к этому его поощряли родители, много читал, был склонен к наблюдениям и размышлениям.
Под влиянием матери в сознании мальчика рано определились понятия добра и зла, хорошего и плохого.
Многим позже Марат вспоминал о своем детстве: «Я имел уже нравственное чувство, развитое к восьми годам; в этом возрасте я не мог выносить злых намерений, направленных против ближних; возможная жестокость возбуждала мое негодование, и всегда зрелище несправедливости вызывало усиленное биение моего сердца, воспринималось как чувство личной обиды».
Жан Поль в отрочестве и юности много читал. Он унаследовал от отца интерес и способности к иностранным языкам, изучил главные европейские языки — французский, английский, немецкий, итальянский, позднее испанский, голландский, а также латынь и греческий.
Больше всего он увлекался историей. По обычаям тех лет наибольшее внимание уделялось античной истории. Жан Поль Мара изучил ее в совершенстве. В его сочинениях, написанных в молодые и зрелые годы, обнаруживается превосходное знание истории, постоянно встречаются примеры, сравнения, метафоры, почерпнутые из античной истории. Он многократно ссылается на классические труды Корнелия Тацита, Юлия Цезаря, Тита Ливия, Светония, Плутарха, Дионисия Галикарнасского, Диона Кассия и других античных авторов. Основательное знание этих трудов, свободная ориентация в их сложных текстах, которая чувствуется в работах Марата, свидетельствует — о том, что эти сочинения были не просто прочитаны, а тщательно проштудированы, и, по-видимому, не раз.
Чтение исторических сочинений, повествований о великих людях прошлого — Перикле, Александре Македонском, Юлии Цезаре, о героических подвигах, ожесточенных сражениях, преодоленных опасностях, о триумфе победителей, о лаврах славы оказывали огромное впечатление на мальчика.
Мечты о славе кружили ему голову с мальчишеского возраста… «…C детских лет я был объят любовью к славе, страстью, которая изменяла часто свой объект в разные периоды моей жизни, но которая меня не покидала ни на мгновение, — признавался Марат. — В пять лет я хотел быть школьным учителем, в пятнадцать — профессором, в восемнадцать — писателем, в двадцать — гением-изобретателем, так же как ныне я добиваюсь славы принести себя в жертву отечеству».
В этом рассказе обращает на себя внимание полное отсутствие мечтаний о воинской славе; юный мечтатель грезил о подвигах лишь на гражданском поприще.
Марат писал приведенные выше строки в 1793 году, когда он уже был одним из признанных вождей якобинцев и достиг высшей славы — любви и уважения народа.
Может быть, это наложило отпечаток и на его воспоминания?
Трудно предположить, чтобы мальчик, а затем юноша, читавший «Историю греко-персидских войн» Геродота, «12 Цезарей» Гая Транквилла Светония, «Записки о гальской войне» Юлия Цезаря, не мечтал о подвигах на поле сражений, о воинской доблести, о триумфах победоносного полководца.
Но если в отроческие годы Жан Поль отдал дань и этим столь свойственным мальчикам мечтаниям, то это не могло длиться долго, и его мечты должны были устремиться по иной стезе.
Молодые люди, созревшие в середине восемнадцатого столетия, уже не стремились подражать Александру Македонскому или Ричарду Львиное Сердце. Вольтер, Монтескье, Дидро и в особенности властитель дум молодого поколения Жан Жак Руссо увлекали их мечты по совсем иному пути. Пришло время преклонения перед всепобеждающей силой разума, насмешек над церковными догмами и феодальной моралью, стремлений к нравственному совершенствованию, простоте, близости к природе.
Юный Жан Поль Мара должен был испытать могучее воздействие этих новых веяний — освободительных идей восемнадцатого столетия.
Он ощутил эти новые влияния тем сильнее, что и сама его жизнь круто изменилась.
Детство и отрочество Жана Поля в родительском доме прошли безоблачно. Он жил в маленьком замкнутом мире, в достатке, окруженный любовью и заботой своих родителей, особенно матери; он пользовался свободой, которой, однако, не злоупотреблял, так как все досуги посвящал чтению, обдумыванию прочитанного. «С детских лет я усвоил привычку к жизни любознательной и прилежной… самые сладкие минуты я находил в размышлении», — вспоминал он потом.
Но время шло… Мальчик превратился в юношу, он вырос, окреп, стал физически сильным, к шестнадцати годам он почувствовал себя настолько взрослым, чтобы расстаться с родительским домом, выйти из тихой гавани и впервые пуститься одному в половодье жизни.
Автор первой научной — и все остающейся лучшей, несмотря на почти столетнюю давность, — биографии Марата Альфред Бужар полагал, что непосредственным побудительным толчком к уходу Жана Поля из родной семьи была смерть его любимой матери. После того как ее не стало, родительский дом не мог уже его удержать; ему не терпелось уйти в огромный и неведомый мир, скрытый за окружающими Невшатель горами.
И вот шестнадцатилетний Жан Поль Мара во Франции, в Бордо. В течение двух лет он служит воспитателем детей в семье богатого бордоского судовладельца и работорговца Нерака.
Бордо — древняя столица средневековой провинции Гиэнь, центр бордоского генеральства Бордолэ, в середине семнадцатого столетия важный очаг движения Фронды, во второй половине восемнадцатого века стал одним из экономически развитых и передовых городов французского королевства.
Расположенный на берегу Жиронды, у самого входа в Бискайский залив — ворота Атлантического океана, Бордо превратился в крупнейший центр большой заморской торговли и промышленности, главным образом судостроения.
Здесь, в устье Гаронны, высились громадные верфи; здесь от зари до позднего вечера не затихал шум; тысячи рабочих трудились, сооружая самые совершенные для того времени корабли.
Со стапелей бордоских судоверфей в море уходили тысячи судов разных моделей, от небольших увертливых шхун и легких бригов до огромных многомачтовых кораблей, безбоязненно пересекавших под парусами бескрайные бурные воды Атлантического океана.
Мануфактуристы-судостроители, арматоры-судовладельцы, крупные торговцы-оптовики ворочали огромными по тем временам капиталами. Состояние одного из бордоских негоциантов, Боннафе, бывшего клерка, сумевшего ловкими, рискованными операциями превратиться в крупнейшего судовладельца, исчислялось миллионами. И он был вовсе не единственным миллионером в этом городе. Бордо в восемнадцатом веке стал цитаделью крупной французской провинциальной буржуазии.
Одним из важнейших источников наживы для купцов Бордо была торговля с французскими колониями. Антильские острова, Сан-Доминго, Мартиника, Гваделупа — эти заморские земли французской короны стараниями французских коммерсантов, и в первую очередь бордоских купцов и судовладельцев, стали островами сокровищ, сказочного обогащения.
Колонии поставляли не только сахар, кофе, табак, пряности и другие колониальные продукты, вывозимые за бесценок из этих благодатных краев, но прежде всего живой товар — рабов, чернокожих, торговля которыми приносила баснословные барыши.
Золото притекало непрерывным потоком к негоциантам Бордо; казалось, оно само прилипало к их пальцам. Удачливые стяжатели, счастливые охотники за добычей, люди без роду и племени, ставшие за короткий срок обладателями огромных богатств, они хотели, чтобы город, в котором они достигли такого могущества, рос и богател вместе с ними.
Во второй половине восемнадцатого века население Бордо превысило восемьдесят тысяч человек. Это был один из крупнейших городов Франции. По числу жителей он уступал только Парижу, Лиону и соперничал с Марселем.
И вот уроженец крохотного Будри, обитатель тихого, невозмутимого в своем спокойствии и неподвижности Невшателя оказался в этом кипящем жизнью приморском торговом городе.
После ровной глади маленького Невшательского озера бурные волны Бискайи и Атлантики! После рыбацких лодок и скромных парусников огромные океанские корабли! После мягкой тишины безлюдных невшательских улиц шум и грохот портового города, разноязыкий говор многоголосой городской толпы! Этот город должен был показаться шестнадцатилетнему юноше из Невшателя, впервые ступившему на его мостовые» страшным Вавилоном!
То была первая школа жизни — не литературной, не книжной, не разграфленной на параграфы уроков, а живой — грубой и реальной.
Юный мечтатель с берегов Невшательского озера, грезивший о славе, должен был пройти это первое испытание.
Он его выдержал. Двухлетнее пребывание в доме одного из крупнейших негоциантов Бордо дало возможность юному Мара хорошо ознакомиться с закулисной жизнью французской крупной торгово-промышленной буржуазии.
Эти личные непосредственные наблюдения юности многому научили Мара. Он впервые увидел совсем близко, на кратчайшем расстоянии, рядом с собой, свирепую алчность, неутолимую жажду обогащения, беспощадную жестокость в достижении цели, волчьи законы конкурентной борьбы.
Все увиденное и пережитое в Бордо запомнилось ему на всю жизнь.
Не сохранилось ни записей, ни дневников, ни даже писем юного Мара, относящихся ко времени его двухлетнего пребывания в Бордо.
Но пройдет еще тридцать лет, и в последние годы его жизни, в годы революции, в сложных перипетиях напряженной политической борьбы — судьба сведет его на поле брани с противником — самым ожесточенным, самым непримиримым противником, который вошел в историю под именем Жиронды — морских ворот города Бордо.
Не довольствуясь жадными наблюдениями над окружающим, юный Мара отдавал свои досуги (по-видимому, довольно большие) изучению медицины, естественных наук, а также продолжению занятий по истории, философии, праву, начатых еще в Швейцарии.
Передовые мыслящие люди во Франции восемнадцатого столетия стремились к энциклопедическим знаниям. Это был век энциклопедизма. Его можно так назвать не только потому, что начиная с 1751 года стали выходить тома знаменитой «Энциклопедии», оказавшей огромное влияние на ход идейной борьбы своего времени Само развитие общественной мысли во Франции, размах и широта идеологических сражений, развертывавшихся в десятилетия, предшествовавшие революции, требовали от их участников чрезвычайно высокой подготовки в самых разных отраслях знания, своего рода универсализма.
Наука была тогда еще на той стадии развития, когда передовому человеку был доступен весь ее комплекс.
Писатели, вошедшие в историю общественной мысли под именем «энциклопедистов» — Дидро, Д’Аламбер, Гельвеций и многие другие, — заслужили его не только большой ролью, сыгранной ими в издании шедшей впереди века «.Энциклопедии», но также и тем, что они были «энциклопедистами» на деле, обладали в действительности самыми разносторонними и, надо добавить, самыми передовыми для своего времени знаниями.
Идейные представители восходящей революционной буржуазии или народных масс, готовящиеся к решительному наступлению на самые основы феодально-абсолютистского строя, подвергали ожесточенной идеологической бомбардировке всю систему феодальных отношений, все его учреждения и институты, его мораль, его догмы и каноны.
Мыслителем огромных энциклопедических знаний и самых разносторонних дарований был Вольтер, выступавший с равным блеском и как художник слова, и как философ, и как физик, и как историк, и как публицист и политический деятель. В значительной мере то же может быть сказано и о гениальном самоучке, поднявшемся над уровнем знаний своего века, — Жане Жаке Руссо. Блестяще, энциклопедически образованными людьми были ученые столь разных узких специальностей, как Монтескье и Бюффон, Лавуазье и Гольбах, Лаплас и Кенэ. Сколько еще других прославленных имен можно было бы назвать в этом ряду!
Появление «Энциклопедии», или «Толкового словаря наук, искусств и ремесел», как он назывался, во второй половине восемнадцатого века было далеко не случайным: она отвечала назревшей потребности. Знаменательно, что до этого во Франции имел большое распространение и был переведен на французский язык английский «Универсальный словарь» Ефраима Чемберса, вышедший впервые в Лондоне в 1728 году в двух томах, а в 1746 году уже выдержавший пятое издание, несмотря на то, что он вырос до девяти томов.
Но «Универсальный словарь» Чемберса, уделявший преимущественное внимание точным наукам и технике производства, не отвечал требованиям, выдвинутым самим ходом жизни перед передовой общественной мыслью во Франции. Острота классовых противоречий во Франции, отражавшая ожесточенность идейной борьбы, делала необходимой критическую переоценку всех ценностей, критический пересмотр всех важнейших вопросов. Мало того, надо было не только подвергнуть критической оценке идеи, мнения и догмы феодального общества, но надо было противопоставить свод положительных знаний, освещенных с точки зрения новых, самых передовых для того времени взглядов.
Эту же потребность разобраться во всех спорных вопросах и овладеть положительными знаниями по возможности во всех областях, во всех сферах науки ощущал, как и многие иные его современники, молодой Жан Поль Мара.
Юный Мара, с детских лет испытавший, как он сам о том позднее поведал, наслаждение от чтения, от самого процесса раздумий над прочитанным, к тому же снедаемый жаждой славы, мечтами о лаврах великого ученого или мыслителя, поборника справедливости, защитника слабых и угнетенных, естественно, стремился проникнуть во все тайны науки, разобраться во всех вопросах, овладеть всеми отраслями знания.
Скромный воспитатель детей бордоского негоцианта с жадностью читал все и обо всем, штудировал, изучал, стремясь всемерно расширить свои знания.
Но, конечно, не Бордо — город арматоров и работорговцев — был центром умственной жизни Франции. С давних пор, со времени своих первых детских мечтаний, в отцовском доме в Будри Жан Поль Мара Грезил о городе, излучавшем свою славу на весь мир, — о Париже.
* * *
В 1762 году девятнадцатилетний Жан Поль Мара переезжает в Париж. Без имени, без денег, без связей, никому не ведомый молодой человек из Невшателя отправляется завоевывать великую столицу.
В этом не было ничего необычного. И до и позже Мара тысячи таких же безвестных молодых людей, не имевших за плечами ничего, кроме восемнадцати лет и честолюбивых мечтаний, так же начинали свой путь. Мара знал, что путь к подвигам и славе лежит через Париж. Юному и бедному провинциалу, увлеченному идеями великих мыслителей своего века, Париж представлялся светочем разума, центром науки, искусства, культуры, средоточием блестящих умов и талантов.
В действительности это было так и не так.
В самом деле, никогда еще до этой поры — до второй воловины восемнадцатого века — Франция не знала стольких ярких талантов. Почти одновременно над французской землей поднялось блистательное созвездие дарований первой величины. Философы-материалисты, экономисты-физиократы, естествоиспытатели, физики, химики, математики, драматурги и поэты, художники и композиторы, публицисты и ораторы — народные трибуны — представляли разные оттенки французского Просвещения восемнадцатого века.
В 1748 году вышел из печати главный труд просветителя старшего поколения Шарля Луи де Монтескье «О духе законов», в первые же два года после опубликования переизданный двадцать два раза и остававшийся одним из самых популярных произведений просветительской мысли в последующие десятилетия.
В 1753–1758 годах печатался «Опыт о нравах и духе народов» другого патриарха французского Просвещения — (Вольтера, уже стяжавшего себе мировую славу лучшего поэта, драматурга, самого остроумного и самого просвещенного мыслителя Франции.
С 1749 года начала выходить знаменитая «Всеобщая и частная естественная история» Жоржа Луи Бюффона. Этот монументальный труд выдающегося естествоиспытателя был издан в тридцати шести томах, и автор так и не успел дописать последнюю часть — историю Земли. Но уже до 1767 года он сумел создать и опубликовать первые пятнадцать томов своего труда, в которых была изложена его самая важная часть — «Теория Земли» и история четвероногих.
В 1748 году была издана оказавшая большое влияние на современников книга философа и врача Жюльена Ламетри «Человек-машина», так ярко отразившая и все сильные стороны французского материализма восемнадцатого века и свойственную ему механистичность.
С 1751 года том за томом, преодолевая все препятствия — официальное запрещение властей, осуждение римского папы и французской католической церкви, осмеяние подкупленными правительством продажными авторами, — выходила ставшая знаменитой «Энциклопедия». По самому своему характеру это издание было полно глубокого значения. Не за горами было еще время, когда писатели-просветители выступали одиночками, не встречая ни гласной поддержки, ни открытых единомышленников. Бесстрашный революционный мыслитель, безбожник и материалист начала восемнадцатого столетия Жан Мелье до самой своей смерти носил личину смиренного священника и так и не посмел высказать вслух свои сокровенные мысли. Монтескье лицемерил. Вольтер, дважды познавший страшные казематы Бастилии, предпочитал свои наиболее рискованные мысли издавать анонимно или под вымышленным именем. В начале своего пути и Монтескье и Вольтер чувствовали себя еще очень одиноко.
«Энциклопедия» была примечательна прежде всего тем, что она объединяла под своим знаменем целую армию «философов», как называли в ту пору всех передовых мыслителей века. Вольтер, Дидро, Д’Аламбер, Жан Жак Руссо, Бюффон, Гельвеций, Гольбах, Кондильяк, Рейналь, Мабли, Кондорсе, Кенэ, Тюрго, Дюпон де Немур и другие известные имена — между этими людьми были существенные различия, они во многом расходились между собою, но их объединяло то общее, что все они отстаивали новое, представляли разные оттенки мысли молодых революционных сил, смело атаковавших старый феодальный строй, его учреждения и его идеологию. Впервые не только Франция, но весь образованный мир мог убедиться, как могущественны и неотразимы силы идейных представителей революционной буржуазии и народных масс, выступавших широким, сплоченным фронтом против общего врага
Это наступление передовой общественной мысли на старый мир и его институты продолжалось с возрастающей мощью.
В 1758 году были опубликованы книга Гельвеция «О духе» и «Экономическая таблица» Кенэ. В 1762 году был издан «Племянник Рамо» Дени Дидро. В том же 1762 году вышли в свет «Общественный договор» и «Эмиль» Жана Жака Руссо — книги, потрясшие современников.
Французское Просвещение достигло вершины своей мощи и влияния. Париж был его умственным центром, в глазах всех современников он оставался духовной столицей всего просвещенного мира.
Жан Поль Мара, пока еще безвестный провинциальный искатель славы, приехавший в великий город, должен-был быть потрясен всем увиденным.
Париж был средоточием французской культуры. В его литературных салонах встречались знаменитости века. В подвалах книжных лавок и даже на книжных развалах на берегу Сены лежали признанные еретическими и приговоренные к сожжению книги. Театры были переполнены. Во Французской комедии гремели овации госпоже Клерон — актрисе, пленившей парижан блеском своего таланта в «Танкреде» Вольтера. В музыкальных кругах столицы, во Французской опере со времени постановки в 1752 году оперы-буфф Перголези и выхода в свет в 1753 году «Писем о французской музыке» Жана Жака Руссо не прекращались ожесточенные споры. В живописи Шарден, Жан Батист Грез, в области скульптуры Пигалль, Гудон пытались сказать новое слово, вызывавшее яростные возражения поборников старой школы.
Казалось, никогда еще духовная жизнь Парижа не была столь полнокровной, столь богатой.
Все это было так. Но в то же время молодой Мара мог легко заметить и иное.
Он приехал в Париж в 1762 году, в год завершения разорительной, бесславной для французского оружия, более того, унизительной для Франции Семилетней войны.
Когда в 1763 году в Губертсбурге и Версале были подписаны мирные договоры, подытожившие результаты Семилетней войны, для всех стало очевидным, что для Франции война завершилась поражением Все завоеванное в век Людовика XIV было утрачено. Франция должна была отдать Англии свои колониальные владения в Индии, в Америке — Канаду. Она понесла не только территориальные, материальные и людские потери; она потеряла большее — веками создаваемый престиж великой державы, претендующей на первенство.
Ради чего велась эта война? В чьих интересах? Кому она была выгодна? Кому на пользу шло поддержание союза и дружбы со старыми противниками Франции — Австрийской империей Габсбургов и Испанией? Современники не находили ответа на эти волновавшие всех вопросы.
Война была крайне непопулярна. Страна была истощена, крестьянство голодало, во всех делах был застой. Правительство, испытывавшее вечный недостаток в средствах вследствие прогрессировавших рас ходов, знало лишь один путь — увеличение налогов «Наш век — бедный век, — писал Вольтер в сентябре 1758 года. — Франция, конечно, будет существовать, но ее слава, ее благоденствие, ее былое превосходство… что станется со всем этим?»
Король Людовик XV, тот самый, которому приписывали знаменитую фразу: «Apr?s nous — le deluge!» — «После нас — хоть потоп!», нимало не был обеспокоен ходом событий. Пресыщенный к пятидесяти годам всеми благами жизни, равнодушный и безразличный ко всему, в особенности к государственным вопросам, волновавшим страну, он подчинялся лишь капризам мадам де Помпадур, год от году приобретавшей все большее влияние на короля, а следовательно, и на всю политическую жизнь королевства Королевский двор брал пример с монарха. По справедливому замечанию Д’Аржансона, одного из самых умных наблюдателей эпохи, при дворе каждый думал только о себе и грабил, как грабят в городе, взятом штурмом.
Недовольство было всеобщим. Разоренное, измученное непосильной феодальной эксплуатацией крестьянство выражало его восстаниями. В городах народ глухо волновался. В 1757 году в Париже, в Люксембургском саду, в Лувре, в здании Французской комедии разбрасывались афиши, содержавшие угрозы вооруженного выступления. В буржуазных кругах открыто высказывали недовольство правительством. Даже люди, близкие ко двору, не скрывали своих опасений. «В сущности, нам недостает правительства», — меланхолично констатировал в 1758 году аббат де Берни, государственный секретарь иностранных дел.
Аббату де Берни принадлежала также честь первым произнести ставшие столь популярными слова об упадке, о декадансе. «Мы приходим к последнему периоду упадка», — писал де Берни в июне 1758 года. По-французски «упадок» — «d?cadance». С этого времени это слово — декаданс — стало одним из самых распространенных в словаре французского языка. Все заговорили об упадке; во всем видели декаданс, и прежде всего в политике правительства.
Марат, приехавший в столицу королевства из делового, трезвенного, озабоченного поисками барышей Бордо, должен был быть ошеломлен этой разительной переменой.
Все сетуют. Все возмущены. Все осуждают. Это была совершенно новая и резко отличная от прежней духовная атмосфера, с которой впервые соприкоснулся молодой уроженец кантона Невшатель.
В этом огромном городе, казавшемся сказочно, неправдоподобно большим и людным, где рядом с блеском и великолепием соседствовала нищета, где наряду с прославлением монарха и угодливыми речами льстецов открыто звучали насмешка, слова осуждения и все громче раздавались голоса, возвещавшие начало всеобщего упадка, юный Жан Поль Мара должен был многому переучиваться.
Впрочем, он должен был вскоре же убедиться, что не следует переоценивать значение слов осуждения и что режим, над которым осмеливаются исподтишка посмеиваться, еще достаточно силен.
Людовика XV, сохранявшего все то же презрительное равнодушие к заботам государства или волнениям общества, весьма мало трогали неудачи французского оружия, поражения французской дипломатии, бедствия его подданных.
Тем не менее при всей слабости и бездарности правительства, при постоянных, самых неожиданных колебаниях его политики в разные стороны в некоторых коренных вопросах эта политика оставалась неизменной. Классовый инстинкт феодалов, стремление сохранить свое господство подсказывали правительству, из каких бы бездарностей оно ни состояло, необходимость держать народ в узде, в повиновении и подавлять, пресекать всякие крамольные вольнодумные идеи, которые распространяли «господа философы».
Хотя в глазах Европы Париж на протяжении всего восемнадцатого века неизменно оставался «светочем разума», положение людей, поддерживавших своими трудами этот «светоч», было далеко не завидным.
Еще в апреле 1757 года король обнародовал декларацию, первые же статьи которой красноречиво определяли отношение власти к «господам философам».
«Все те, которые будут изобличены либо в составлении, либо в поручении составить и напечатать сочинения, имеющие в виду нападение на религию, покушение на нашу власть или стремление нарушить порядок и спокойствие наших стран, будут наказываться смертной казнью». Та же кара предназначалась наборщикам, владельцам типографий, книгопродавцам, разносчикам и вообще воем лицам, распространяющим эти опасные сочинения.
У правительства не хватило ни решительности, ни твердости, чтобы привести эти угрозы в исполнение. Но, не набравшись смелости предать казни некоронованного короля духовного царства — Вольтера (как его величали почитатели), оно все же решилось публично — на Гревской площади в Париже — рукой палача подвергнуть сожжению «Орлеанскую девственницу» и многие другие произведения прославленного французского писателя. Запрещению властей и осуждению парижского архиепископа подверглись сочинения Гельвеция «Об уме», «Эмиль» Руссо, книги Вольтера, Дидро, Бюффона, «Энциклопедия» и многие другие произведения просветительской мысли.
Чтобы ограничить зло, исходившее от опасных книг, правительство значительно увеличило количество королевских цензоров. С 1742 по 1762 год число этих «чиновников таможни мыслей», как называл их Вольтер, возросло с семидесяти восьми до ста двадцати одного.
Философы были объявлены «общественными отравителями», виновниками во всех бедствиях и неудачах Франции. «Дело дошло до того, — жаловался Гримм, — что сейчас нет ни одного человека, занимающего казенное место, который не смотрел бы на успехи философии, как на источник всех наших бед!»
«Властители дум» Европы чувствовали себя в родной стране в состоянии постоянной опасности.
Вольтер, чтобы не испытывать судьбу, предпочел удалиться в приобретенное им поместье Ферне по ту сторону границы, где вне досягаемости французских властей он ощущал себя гораздо спокойнее. Впрочем, даже находясь в Ферне, он предпочитал выпускать свои произведения под чужим именем. «Старайтесь принести пользу человеческому роду, не причиняя себе ни малейшего вреда», — поучал он Гельвеция.
Бездомный, скитавшийся всю жизнь Жан Жак Руссо, после того как его «Эмиль» был публично сожжен по постановлению парламента, стал издавать свои сочинения в Голландии или в Швейцарии, во всяком случае, за пределами Франции. Правда, сожжение книги и осуждение ее парижским архиепископом лишь увеличили славу писателя и известность запрещенного сочинения. После того как «Эмиль» был осужден и запрещен, в Париже, по свидетельству одного из современников, его прочли «решительно все». До конца восемнадцатого столетия «Эмиль» был переиздан шестьдесят раз. Но бедному автору знаменитой книги успех этот приносил лишь горести. Он должен был спасаться от преследования бегством в Женеву, но и там власти постановили: книгу сжечь, а Руссо арестовать. Руссо бежал из Женевы в Берн, но сенат Берна пошел по стопам Женевы. Автор самого прославившегося произведения должен был снова бежать и долго еще скитаться, скрываясь на чужбине.
Гельвеций после публичного сожжения палачом его главного труда «Об уме» стал издавать все свои следующие сочинения за границей. Так же должны были поступить и другие философы-материалисты: Гольбах и Жан Батист Робине. Робине, работая над своим обширным трудом «О природе», выходившим в течение ряда лет, с 1761 по 1768 год, счел вообще безопаснее с самого начала уехать за границу и там поступить на службу к издателю.
Ученик великих французских мыслителей юный Жан Поль Мара, очутившись в Париже, разглядел не только лицевую, парадную, но и оборотную сторону знаменитого города. Он увидел, что в столице французского королевства знаменитые писатели, составлявшие славу Франции, значат многим меньше, чем любой случайный приближенный фаворитки короля.
Жан Поль Мара пробыл в Париже около трех лет, до 1765 года.
Где жил он? Кто приютил никому не ведомого молодого человека — бывшего воспитателя в Бордо — в огромной столице? Что было источником его существования на протяжении трехлетнего его пребывания в Париже? В каком обществе он вращался? С кем встречался? Кто были его друзья?
Все эти вопросы, которые можно было бы продолжить, остаются и ныне без ответа. Биографы Марата, даже самые лучшие, как Бужар и Шевремон, трудившиеся около ста лет тому назад над созданием биографии великого французского революционера, с замечательной добросовестностью собиравшие все относящиеся к его жизни материалы, не нашли никаких документов, освещающих эту сторону первого пребывания Мара в Париже.
Известно, что в этот период Мара все с тем же увлечением и усердием продолжал свои занятия медициной, а главное — общественными науками: философией, правом, историей, экономическими и социальными вопросами, стоявшими тогда в центре умственной жизни столицы.
Увлекаясь идеями французской просветительной философии, Мара далеко не одинаково ценил отдельных ее представителей. Он относился сдержанно к Вольтеру и к Д’Аламберу, Дидро и Мармонтелю, то есть к «энциклопедистам» в узком смысле слова, а позднее эта сдержанность переросла в прямую, открытую враждебность, и надо сказать, что в своих суждениях Марат был далеко не во всем прав и справедлив.
В вопросах художественной литературы, к которой он проявлял самый живой интерес и внимание, он не скрывал своего резко отрицательного отношения к Расину. Позже он писал о «пошлости Расина». Но его нелюбовь к Расину, как и к Буало, имела ярко выраженную политическую окраску: он им ставил в вину и не мог простить прислужничества монарху; оно представлялось ему бесспорным.
Наибольшее впечатление на него произвели Монтескье и Руссо. Примерно двадцать лет спустя, в 1785 году, Марат написал «Похвальное слово Монтескье». За два года до своей смерти, в 1791 году, Марат писал, что Руссо «был бы самым великим человеком нашего века, если бы не существовало Монтескье».
Эта фраза не была случайной. Марат не раз сопоставлял Монтескье, «самого великого человека, какого только породил наш век и который прославил Францию», с Жаном Жаком Руссо. Он всегда находил аргументы, — чтобы доказать первенство автора «Персидских писем».
И все-таки, анализируя систему взглядов Марата по общественно-политическим вопросам, сложившуюся еще задолго до революции, затем рассматривая его социально-политическую программу во время революции, нельзя не признать безусловного и очень значительного влияния идей Жана Жака Руссо на мировоззрение и политические взгляды Друга народа.
Французское просветительство ни на одном этапе своей истории не было ни единым, ни однородным. Если оно и выступало сомкнутым фронтом против общего врага — «триединой гидры»: феодализма, абсолютизма, церкви, то это вовсе не означало, что в собственных его рядах ни на минуту не прекращалась внутренняя борьба, достигавшая порой большого ожесточения.
Жан Поль Мара за время своего трехлетнего пребывания в Париже завершил свое образование в области общественных наук; он прочел и проштудировал и все старые и новейшие, последние сочинения по вопросам философии, права, политической экономии, истории, искусства. Как и лучшие из его современников, он овладел знаниями своего века, он стал, подобно им, «энциклопедистом», универсально образованным человеком. Но он сумел достичь и большего. Он разобрался в боровшихся между собою в рядах Просвещения идейных течениях, сумел определить свое отношение к ним и нашел свое место в рядах демократического направления французского Просвещения.
Годы занятий в Париже не прошли для Мара даром. Вчерашний наивный, даже несколько восторженный мечтатель вырос, идейно окреп. Он освободился от многих розовых иллюзий; не лишенные сентиментальности мечтания были отброшены прочь; он многое увидел и осознал в совсем ином свете.
В 1762 году Жан Поль Мара приехал в Париж смятенным, ищущим, крайне неуверенным в себе юношей, а через три года это был уже молодой человек со сложившимися философскими и общественно-политическими взглядами, уже составивший мнение по многим вопросам, которые недавно, в Бордо, казались ему неразрешимыми или неясными.
Годы ученичества заканчивались. По крайней мере для самого себя — в печати он еще не выступал — он многое уяснил и определил свое место в рядах левого крыла французской просветительной мысли.
В Париже ничто его более не удивляло, ничто не казалось уже новым.
Но он испытывал еще то нетерпение пытливой молодости, когда она стремится к все шире раздвигающимся горизонтам, когда она хочет видеть мир каждый день иным и лучшим, чем он был вчера.
Не позднее 1765 года Жан Поль Мара оставил Париж и уехал в Англию.
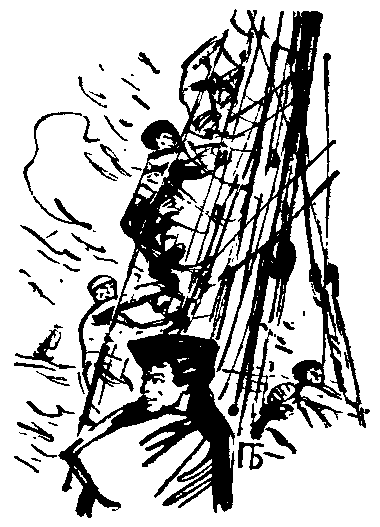
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
V. Годы ученичества
V. Годы ученичества Наука – оружие и доспехи разума, и разум найдет свое спасение, не взывая к самому себе– что равносильно погоне за призраком, – а избрав себе определенную цель, которая станет для него опорой. Ален Райт и его ученики верили в вакцины, в опсонический
Глава третья Годы выживания
Глава третья Годы выживания Через годы становления и упрочения в своей профессии проходят многие артисты, и вообще количество рядовых, не известных массовому зрителю служителей Мельпомены, во много раз превышает число тех, с кем знакомы, кого любят зрители. Жизнь
Глава третья Детские годы Авроры
Глава третья Детские годы Авроры Когда моя мать уехала в Италию, меня поместили к одной женщине в Шайо, она отучила меня от груди. Мы с Клотильдой прожили у этой доброй женщины до двух или трех лет. По воскресеньям нас возили в Париж на ослике — каждую в особой корзинке —
Глава третья Детские годы Авроры
Глава третья Детские годы Авроры Когда моя мать уехала в Италию, меня поместили к одной женщине в Шайо, она отучила меня от груди. Мы с Клотильдой прожили у этой доброй женщины до двух или трех лет.По воскресеньям нас возили в Париж на ослике — каждую в особой корзинке —
Глава третья ГОДЫ СТРАНСТВИЙ
Глава третья ГОДЫ СТРАНСТВИЙ На морском берегу Гельголанд привлекал Илью изобилием морских животных, которых волны выбрасывали на берег. Эти животные были необходимы молодому ученому для исследований.Летним жарким днем на берегу Гельголанда появился юноша. Его с
Глава третья НЕИЗВЕСТНЫЕ ГОДЫ
Глава третья НЕИЗВЕСТНЫЕ ГОДЫ Англия ее разочаровала. В этой стране почти никому не было дела до психических феноменов. Появилась, правда, в Кембридже немногочисленная группка молодых людей, которых заинтересовала как эта неисследованная сторона человеческой психики,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОДЫ НЕВОЛИ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОДЫ НЕВОЛИ
Глава третья ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Глава третья ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В последнее десятилетие своей жизни, которое соответствовало первому десятилетию нового века, Дашкова жила летом в своем поместье, а весной и осенью и зимой — в Москве. Визит сестер Марты и Кэтрин Вильмот на некоторое время омолодил Дашкову,
Глава третья ГОДЫ УЧЕНИЯ — ГОДЫ СТРАНСТВИЙ
Глава третья ГОДЫ УЧЕНИЯ — ГОДЫ СТРАНСТВИЙ 1Из Кронштадта корабль вышел (впервые с семнадцатилетнего возраста Михайло ступил на корабельную палубу, для товарищей же его это была, видимо, вообще первая встреча с морем) — но уже через два дня вернулся из-за бури. Студенты
ГЛАВА 2 . ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА
ГЛАВА 2. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА Берлин всегда был музыкальным городом. В двадцатые годы и в начале тридцатых американские джазовые ансамбли регулярно выступали в клубах и кабаре, где они пользовались огромной популярностью. Мы сходили с ума по джазу. Я особенно любил Кэба
Глава третья СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Глава третья СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ Увлечение точными науками в юности предопределило область знаний, которыми Попов решил заняться, намереваясь поступить в высшую школу. В выборе учебного заведения у него никаких колебаний не было. Лучшим университетом России в то время
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Тревожные годы
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Тревожные годы Мои дети укачивались под политические колыбельные. Роуз Кеннеди В тридцатые годы, а именно, в год рождения Эдварда Джозеф Кеннеди впервые вошел в большую политику. На президентских выборах он поддержал кандидатуру Франклина Делано Рузвельта