Наброски
Наброски
Употребляя слово, которое обычно используется как в отношении зрителей спортивного матча, так и боксеров, скажу, что Сент-Экзюпери не был «спортивным». Подозреваю, что его мало интересовала физическая культура. Он не любил ходьбы и останавливал такси при малейшей надобности. Но подумать только: в Ливийской пустыне он прошагал восемьдесят километров!
Однажды он позвонил мне: «Я очень хотел бы повидать вас, но мои средства на передвижение ограничены». Он имел в виду, что у него не было денег, чтобы взять такси. У меня их тоже не было.
Я уже не помню, кто из нас двоих принес себя в жертву, чтобы пешком преодолеть расстояние, отделяющее улицу Шаналей от улицы д’Асса.
Когда он забирался на сиденье пилота, то делал это немного тяжеловесно, как и положено невозмутимому великану. Казалось, что он располагается для размышлений. Потом он блаженствовал, погружаясь в геометрию и поэзию пространства. Или играл с самолетом, взмывая вверх и опускаясь почти до земли.
Однажды, поднявшись на высоту, откуда пасущиеся барашки облаков кажутся не больше пшеничных зерен, он решил прокатить меня на бреющем полете. Я увидел впереди холм. Но я доверял своему другу. И все-таки про себя подумал, что это довольно опасная затея.
Внезапно самолет как будто встал на дыбы и пролетел над холмом; мне показалось, что он оказался во власти яростного ускорения. И еще мне показалось, будто в этом ускорении, от которого содрогалось все пространство, я тоже принимаю участие, словно оно поселилось во мне, внутри моего собственного тела. А Сент-Экзюпери лукаво и почти по-мальчишески заметил: «Мне хотелось произвести на вас впечатление…»
Тот, кто не пытался разбудить спящего Сент-Экзюпери, не знает, что такое сон. Однажды я взял на себя заботу разбудить его перед ранним вылетом. Я окликал его. Безуспешно. Потом я легонько потряс его за плечо. В ответ услышал лишь глухое ворчание. Я настаивал. Глухое ворчание сменилось гортанным раскатом, очень напоминавшим шум далекого моря. Затем, опершись на руку, он одарил меня взглядом, в котором возмущение боролось с удивлением. И снова улегся, отправившись в царство сновидений, такое неколебимое и такое грандиозное, что нельзя было не ужаснуться несметному количеству снов и бессознательных видений, которое в нем заключалось. И пока он снова погружался в сон, трудно было поверить, что весь мир, море, земля и планеты, остановив свой бег, не заснут, настолько это погружение было заразительно.
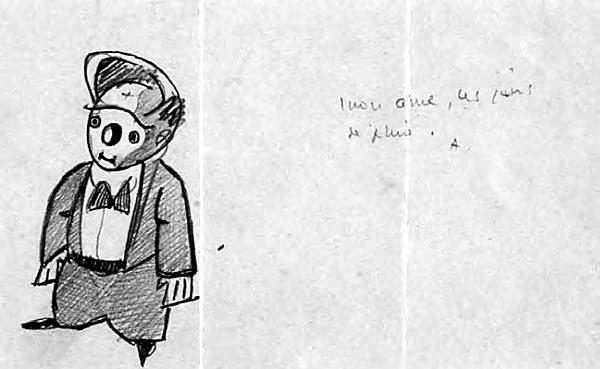
Моя душа в пасмурные дни
В романах салонной эпохи непременно присутствовал персонаж блестящего собеседника. Довольно часто он был естественным и непринужденным. Однако его естественность была салонной. И мир тоже. Сент-Экзюпери имел обыкновение парить над Кордильерами и над системами. И само пространство было для него поэзией.
Тем, кто его не знал, могло показаться, что его стиль разговора был напряженным, резким, императивным. Словом, это был стиль человека деятельного, каким в театре обычно представляют руководителя и исследователя. Так вот, тон моего друга был почти всегда доверительным. Без пафосного налета, слегка приглушенный.
Редкий человек не повышает голос в споре, если он понимает, что его доводы неубедительны. Спор, как говорится, со временем накаляется. И тогда уже требуется победить, а не убедить. Аргументы становятся своего рода оружием. А дискуссия превращается в собачий лай. Она переходит в полемику. Мне никогда не доводилось слышать, чтобы Сент-Экзюпери изменял так называемому общему тону беседы. Таким образом он не только проявлял вежливость или умение владеть собой. Он презирал полемику, считая ее проявлением злобности или преднамеренным нежеланием принять точку зрения собеседника.
Наверняка внутреннее и телесное понятие о пространстве и времени любого пилота или даже просто пассажира самолета, привыкших к скорости в четыреста или пятьсот километров в час, не может соответствовать восприятию средневекового человека, не представлявшего себе большей скорости, нежели скорость скачущей галопом лошади. Но Сент-Экзюпери попросту упразднял пространство и время. Он не хотел признавать препятствий для полета мысли. Он не подчинялся правилам общественного мнения, презирал предписанную обычаем субординацию времени и мест назначения. Мой друг считал, что чувство или даже каприз не должны уступать какой-то условности. Так, он звонил посреди ночи, чтобы узнать решение математической задачи, или просил напеть в трубку мотив какой-нибудь старинной песни, который сам не мог вспомнить.
Однажды я зашел вместе с ним в главную клетку, где нас дожидался зверь. Он принадлежал к финансовой или промышленной верхушке. Меня обуял страх. Лицо у зверя казалось не человеческим и не звериным. Оно было прогнатическим и апокалиптическим. Взгляд притягивал огромный подбородок, победоносно устремлявшийся куда-то ввысь, дальше взгляда. Его челюсть, кажется, могла бы без труда перемолоть бычьи кости. Но еще ужаснее, чем челюсть, был взгляд зверя: ускользающий, масляный, ласковый и, что хуже всего, приятный. Губу прикрывали напомаженные усы. Усы и взгляд напоминали жениха с цветных почтовых открыток, тех, что обычно помещают рядом с видовыми открытками в витринах писчебумажных магазинов. Зато лицом он походил на душителя маленьких девочек. Но было и кое-что похуже: вульгарность, которая вдруг навела меня на мысль о том, что если звери и бывают жестокими, то вульгарных зверей в природе не существует.
Сент-Экзюпери приблизился к нему со свойственным ему видом архангела и вельможи одновременно. И устремил на зверя свой простодушный взгляд. Так, должно быть, смотрел он на пуму, такую милую, которую вез однажды из Африки и которая чуть не загрызла бортпроводника. И вот в этот момент я стал свидетелем странной сцены. Человек-зверь, в клетку к которому мы вошли, «ума не мог приложить, что и делать». Не то чтобы на него давил авторитет писателя и пилота. Для него это ничего не значило. Да и Сент-Экзюпери вел себя совсем не как укротитель. Но тем не менее тот человек был укрощен. Укрощен обаянием, тайной, которую ни его хитрость, ни его деньги не могли разъяснить. В мгновение ока он лишился силы и могущества. Сент-Экзюпери, стоявший перед ним, был для него непостижим, зато он смутно ощущал, что его самого Сент-Экзюпери постиг без труда и видел буквально насквозь. Он что-то лепетал, безуспешно пытаясь обрести уверенность с помощью своего ножа для разрезания бумаг. У меня на глазах миф об Орфее воплощался в жизнь.
Порой слава (точно так же, как жизнь, да и сама смерть) выглядит комично. Так, всего через несколько недель после его возвращения из Ливийской пустыни мы сидели вечером за столиком кафе в глубине зала. Было уже поздно. Обычно в такой час кафе напоминает освещенное логово. Внезапно какая-то женщина (оказалось, известная актриса) проскользнула между стульев к нам. Подойдя к Сент-Экзюпери, она широко раскинула руки, походившие на два трепещущих крыла, и, заглушая своим голосом шум, царивший в зале, произнесла: «Все женщины Франции плакали вместе со мной… Все женщины Франции радуются вместе со мной…»
Сент-Экзюпери не знал, что ему делать: то ли, скромно потупившись, уткнуться взглядом в стол, то ли из вежливости созерцать эту ужасную аллегорию славы. Наконец аллегория заскользила прочь. Когда она оказалась достаточно далеко и уже не могла услышать его, Сент-Экзюпери спросил, наклонившись ко мне: «Кто эта дурища?»
Вспоминаю один летний воскресный день. Близился вечер. У меня собрались несколько друзей. Кто-то сел за пианино и запел:
У смерти на краю
На Францию смотрю.
Потом последовали «Да здравствуют пленники» и «Битва при Мариньяно».
Сент-Экзюпери тоже запел. (Он любил песни XVI века, хотя исполнял их на редкость фальшиво.) Затем подошел к окну и какое-то время созерцал деревья Люксембургского сада.
Внезапно я увидел, как он размахивает руками, окликая двух прохожих. Это были два мулата. Жестами он настоятельно приглашал их подняться. То ли за время долгих странствий привыкнув ничему не удивляться, то ли загипнотизированные Сент-Экзюпери, словно птица змеей, оба мулата повиновались. Они вошли без робости, но и без грубой самоуверенности. Вели они себя просто и безупречно. Не заставив себя долго упрашивать, они спели несколько старинных песен не то Гваделупы, не то Мартиники.
Из окна второго этажа Сент-Экзюпери сразу же распознал в них деликатных людей и принял за своих. Это было похоже на фокус: из тысячи прохожих он выбрал именно этих двух. Такой выбор походил на трюк иллюзиониста, но мой друг, несомненно, был блестящим знатоком людей.
Пилот, поэт, физик, фокусник. Поначалу такое разнообразие талантов приводит в замешательство. Я видел предававшихся забавам ученых. Видел потуги литературных и театральных шутников казаться серьезными. Но ученый, изображая ребенка, выглядел смешным, как и шутник, изображавший философа.



Сент-Экзюпери был очень гармоничен. С непревзойденным изяществом он переходил от умозрительных построений к фокусам и наоборот. Порой мы не могли отличить серьезность его игр от воздушной легкости его размышлений. Он умел играть с животным, с ребенком, с костяшками домино, с системами.
Сколько в нем кажущихся контрастов! Он радуется ужасу жалкого кабака, балаганным чудесам и читает Платона в бараке дакарского аэродрома.
Он разбирается в хромосомах, генах и квантовой теории. Он отлично чувствует себя в пространстве Вселенной, среди планет, и в любой забегаловке. Так писатель Сент-Экзюпери возводит естественное в возвышенное и низводит возвышенное до естественного.
Помню один вечер в Луна-парке. Мы отправились туда вместе с Жаном Люка, его товарищем по Порт-Этьенну, и моим сыном, которому было тогда двенадцать лет. Мы даже не притворялись, будто жертвуем своими высокими умозрительными построениями, чтобы доставить удовольствие ребенку. Нас умчало такси. Мы постреляли из карабина. Сент-Экзюпери делал это с поразительной точностью, изумившей в свое время мавров в пустыне. Потом мы сели в дьявольскую лодку. Хитроумная игра зеркал создавала иллюзию, будто лодка вот-вот разобьется об искусственные скалы. Но главным аттракционом была огромная шевелюра невидимого великана, то натянутая, словно парус, то колышущаяся и трепещущая, грозившая запутать нас всех, как мух, в своей паутине.
За несколько дней до этого он вместе с Гийоме взобрался на башню парашютного аттракциона. «Нам никогда не было так страшно… – рассказывали они. – Мы не стали прыгать. Мы предоставили своим женам исполнить это опасное упражнение…»
Существует поэзия бистро, но существует и поэзия звезд. Нам случилось как-то поужинать в одном из тех русских кабачков, в ту пору модных, где снобы с удовольствием поглощали черную икру. Но мы предпочитали обычные бистро, где ужинают у стойки. Мне никогда не забыть бакалейной лавки-ресторана на улице Жи-ле-Кёр, которую содержали марсельцы, там на ужин подавали чесночный соус, на два дня погружавший вас в полудрему.
Сент-Экзюпери слыл кудесником картежных фокусов. Это не было искусством иллюзиониста. Это было нечто большее. Иллюзионист показывает фокус с помощью ловких рук. Он искусник ловкости. Работает засучив рукава.
А Сент-Экзюпери во время фокуса хранил задумчивый вид или притворялся, будто пронзает своего визави взглядом. Он изображал проницательность, а не колдовство. Создавалась иллюзия проникновения в мир, где невозможного попросту не существует. В условиях, превосходивших всякое понимание, он угадывал задуманную карту или ту, к которой кто-то прикасался. Стоило разбросать на столе тридцать две карты, и он создавал чудо. Напрасно какой-нибудь подозрительный или недоверчивый тип придирался по пустякам, мелочился, пытаясь отыскать некий промах. В ответ Сент-Экзюпери важно заявлял: «Я господин своего церемониала…»
Однажды он приземлился в Томбукту и был весьма неприветливо встречен полковником, управлявшим местностью. Тому не сообщили о приземлении пилота. Старший офицер был страшно недоволен. Но на столе лежала колода карт. И через пять минут этот офицер уже напоминал зачарованную птицу, прирученную лань.
Мне рассказывали, что в пустыне офицеры, бывшие студенты Политехнической школы, безуспешно пытались разгадать секрет Сент-Экзюпери с помощью интегралов и теории вероятности. У историка Люсьена Февра я собственными глазами видел, как преподобный отец Тери, ученый, специалист по Карлу Великому и его времени, умолял Сент-Экзюпери дать ему ключ к разгадке хотя бы одного из его фокусов.
Эти забавы не были столь легкомысленными, какими казались поначалу. Они представляли собой прекрасный психологический тест, позволяя различать два типа людей: с одной стороны, педантов, рационалистов с неверными рассуждениями; а с другой – тех, кто соглашается с фактом, что понимает не все, но доверяется чуду, а изумление не считает проявлением тупости.
Я знаю секрет одного из его фокусов, самого простого, для этого нужна лишь тренировка. Я мог бы его раскрыть. Но мало кто способен его повторить. Это психологический фокус, он основан на том, что человек выбирает карту в соответствии со своими ассоциациями и в зависимости от того, игрок он или нет.
Мой номер был более торжественным, но далеко не столь оригинальным. Я пытался без запинки продекламировать один из лучших пассажей Боссюэ: «Приобщаясь к принципам их морали, следует знать, какое суровое осуждение ждет ум, выставляющий себя напоказ, дабы отбросив все иные сопутствующие беды, найти забвение или забаву с целью усмирить терзания той безжалостной скуки, что составляет основу человеческой жизни с тех пор, как человек утратил интерес к Богу».
Однако, следует признаться, больше времени мы уделяли карточным фокусам, чем Боссюэ.
Возвращаясь из Флёрвиля, мы проезжали Турню. Сент-Экзюпери решил навестить друзей, живших в нескольких сотнях километров. Он не соглашался отпустить меня. Или, вернее, об этом и речи не шло. Я даже не стал ссылаться на светские приличия, стеснение – и для них, и для меня – из-за моего неожиданного появления у незнакомых людей. Столь мелочные расчеты, основанные на простодушной учтивости, по мнению Сент-Экзюпери, не соответствовали дружбе. Он приберегал их для одной из тех важных персон, о которой сказал так: «Я старался приноровиться к нему. Я говорил с ним о бридже, о гольфе, о политике и галстуках». И посему Сент-Экзюпери сел за руль видавшего виды «Бугатти», очень похожего на тех стариков, у которых в отличном состоянии сохранился только разум.
Поздно ночью мы постучали в дверь старинного жилища. Сначала я увидел сонных людей. Надо ли мне извиниться, как подобает в таких случаях? Какое там! Сент-Экзюпери улыбнулся, и хозяева сразу же расположились к нему; свет его улыбки будто озарил пространство. Он мог совершенно неожиданно завязывать отношения с людьми. Ибо обладал способностью не только завораживать детей, но и убеждать взрослых в том, что они на самом деле сродни сказочным персонажам.
Сент-Экзюпери так и не расстался с детством. Взрослые узнают себе подобных лишь по крупицам и обрывкам, плохо сочетающимся, смутно различимым в тусклом свете. Зато ребенок видит других при ярком освещении. И все они так же несомненны для него, как людоед или Спящая красавица. Для ребенка все правда. Сент-Экзюпери обладал искусством возвращать людям эту правду. Благодаря ему каждый в ту ночь мог почувствовать себя мальчиком с пальчик.
Не знаю, какое тайное заклинание он прошептал. Наверняка что-то вроде коротенькой молитвы, которой, как он уверял, один из его друзей, весьма лихой водитель, направлял судьбу на крутых поворотах. А для меня все было как во времена моего детства, когда мне подарили волшебный фонарь и я проецировал на простыню, натянутую на стене, историю жизни Женевьевы Брабантской.[26]
В ту ночь наш разговор не касался жалких сиюминутных обстоятельств. Началась мобилизация. У дверей ферм то и дело появлялись солдаты. И я уже не помню, кто заявил: «Меня занимают серьезные вещи, а не пустяки… Оставьте меня в покое с этой войной…» Сент-Экзюпери, как волшебник, придал этой фразе изящество и шарм. Никто не воспринял эту шутку буквально. Но благодаря ей на какой-то миг была отодвинута непереносимая абсурдность мира и войны.
Не помню, чтобы за десять лет мы говорили о литературе дольше нескольких минут. К тому же обычно это был случайный, короткий разговор.
В одном из тех журналов, где литература, наука и философия сводятся к броским рекламным фразам, я как-то прочитал: «Сент-Экзюпери терпеть не мог Вольтера и Руссо, ему нравился Паскаль». Самое странное то, что эта глупость, неверно отражающая пристрастия моего друга, имеет под собой некую реальную основу. Вполне возможно, что Сент-Экзюпери заявил однажды, что Руссо не был безупречным социологом. Не знаю, часто ли он обращался к Вольтеру. Но полагаю, что он не мог не любить поборника справедливости, как не мог восхищаться и каким-нибудь пассажем, где Вольтер, отрицая свойства души, уже придерживался концепции абстрактного человека.
Что же касается Паскаля, то тут я не ограничусь размытыми догадками и предположениями. Мы оба поклонялись Паскалю. Однажды мы признались в этом друг другу. Нам нравился юмор «Писем к провинциалу», вечное молчание бесконечных просторов, его презрение к преходящим величинам и его внутреннее горение. Надо, правда, сказать, что наше поклонение можно было отчасти считать поклонением художников. Нам казалось, что никто из французских писателей не использовал слова с такой мощью. Каждое слово – это капля крови. Мы выглядели смешными? Не совсем. Когда культура еще не служила пропаганде, а просто без потаенных мыслей распространяла свое влияние на общество, «эрудит» восхищался Боссюэ и Паскалем, даже, вероятно, оставаясь равнодушным к достоинствам религии откровения.
Восхищение? Нередко это слово лишено смысла. Это подтверждает Лабрюйер:[27] истинный читатель не восхищается, он одобряет. Сент-Экзюпери одобрял. Он проигрывал для себя вариации на темы Паскаля. После этого любая литература казалась ему неинтересной. Его могло увлечь лишь чтение какого-нибудь детективного романа, безобидное развлечение, почти математическое, похожее на шахматную игру. Те, кто научился читать, то есть читать между строк, те, кто, читая, извлекает образы из собственной души, вряд ли еще нуждаются в чтении. О книгах они могут судить, просто подержав их в руках. А нередко они и от этого отказываются. Они сочиняют собственные истории, свою поэзию.
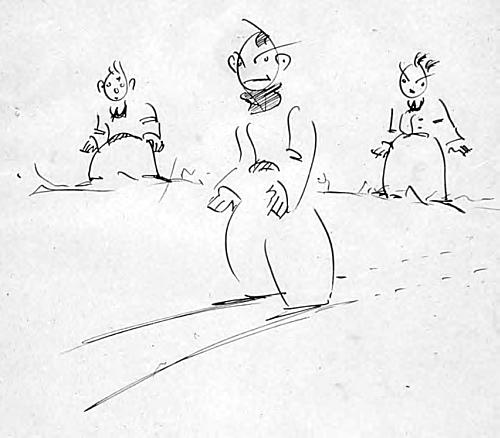
Сент-Экзюпери «прочитал все». Умом, сердцем, глазами, руками. Однако я ничего не скажу о его суждениях относительно современных писателей. Я не стану превращать в собрание изречений замечания, брошенные в ходе беседы.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ
ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ * * *Так плясал, что когда штаны снял, пар пошел.* * *Видел, какие у нее глазищи-то. На три аршина в землю видят!* * *— Ночевайте!— Вечерошне молоко-то.* * *Ходила Клавдия-то в лес, да ни с чем вернулась. И Ленька ходил, — только вымочился.* * *— Ой, еле добралась!
Глава XXX Беглые наброски
Глава XXX Беглые наброски Ниже Мемфиса река сильно разлилась — вода везде стояла вровень с берегами, а очень часто и выше берегов, она заливала леса и поля на мили вширь и местами доходила там до пятнадцати футов глубины; всюду виднелись признаки того, что даром пропали
63. «Люблю наброски и этюды…»
63. «Люблю наброски и этюды…» Люблю наброски и этюды Твоей неопытной руки, Негармонические чуда, Нездешней полные тоски. 8 октября
Приложение. Наброски писем Фейербаха к Марксу
Приложение. Наброски писем Фейербаха к Марксу Впервые публикуются на русском языке в переводе Б. БыховскогоНабросок письма Л. Фейербаха — К. Марксу[17]Глубокоуважаемый господин!Своим предложением дать характеристику Шеллинга для нового журнала, издаваемого совместно
Записи. Наброски
Записи. Наброски Рассказ Миши о чтении «Робеспьера»Раскольников, Федор Федорович, бывший в то время (примерно, год 1929-й) начальником Главреперткома, написал пьесу «Робеспьер». Он предложил Никитиной, что прочтет ее на одном из никитинских субботников.Публики собралось
Записи. Наброски.
Записи. Наброски. «Рассказ Миши о чтении Робеспьера» и «Будто бы Михаил Афанасьевич…»» — попытки Е. С. восстановить невероятные, бесконечно варьировавшиеся устные рассказы Булгакова. (См. в ее письме к А. С. Нюренбергу 23.II.1961 г.: «Он никогда не рассказывал анекдотов… а
Автобиографические наброски и размышления о жизни
Автобиографические наброски и размышления о жизни От составителя и комментатораВ этом разделе приведены недатированные записи, которые можно считать неким предварительным наброском будущей книги о своей жизни. Но характерно, что Л.П. Берия не впадает в подробные личные
Наброски политических портретов
Наброски политических портретов От составителя и комментатораВ этом разделе даны своего рода наброски политических и житейских портретов различных современников Л.П. Берии. По структуре эти наброски весьма неоднородны. Конкретные детали перемежаются общими
ГЛАВА 1. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ
ГЛАВА 1. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ "Говорить о себе тонкое искусство, я не обладаю им”,— сказал Горький [6].На самом деле он в совершенстве обладал этим искусством, при завидной к тому же решимости быть искренним.При таком счастливом сочетании таланта и мужества
Наброски к океанографии
Наброски к океанографии Во всем, что касается моря, я – дилетант. Много лет я коллекционирую все, что узнаю о нем, хотя нет в том особой нужды, ибо плаваю я по земле.Теперь я возвращаюсь в Чили, в мою океаническую страну. Наш пароход приближается к берегам Африки. Позади
Черновые наброски
Черновые наброски В феврале 2012 года Наталия Разлогова передала Георгию Гурьянову кассету с записью пяти черновых вариантов песен к «Черному альбому», спетых Виктором под акустическую гитару, и записанных им с помощью обыкновенного бытового магнитофона, в Беляево,
С.Г.Мюге Улыбка фортуны Автобиографические наброски
С.Г.Мюге Улыбка фортуны Автобиографические наброски
из статьи: ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ НАБРОСКИ
из статьи: ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ НАБРОСКИ …В параллельной плацкарте, в окружении урлы, жрущей пиво из пластмассовых банок для бензина, ехала Янка.Зрелище и запахи страшные. Все существующие в природе виды панковских причесок.Заходит Коблов. Коблов и Янка совокупно перекрашивают