Из странствия по Урянхайской земле
Из странствия по Урянхайской земле
I
Вступление. – Экспедиция 1879 г. – Состав ее. – Путь от озера Убса. – Гора Танну-Ола. – Обо-жертвенник. – Трудности горного перевала. – Падение верблюда в пропасть. – Встреча с туземцами, их оригинальный костюм. – Конокрады и остроумные конюхи, предупредившие кражу. – Караван урянхайцев. – Шаманский центр – Фиктивные жертвы шаманистов. – Шаманка – женщина-жрец. – Обряд шаманства. – Шаманка-девица. – Костюм шаманки. – Поэтическая остановка и живописные местности. – Русская заимка. – Отдых.
Наш очерк представляет попытку познакомить читателя с новой страной. Случается обыкновенно так, что, благодаря заманчивым описаниям и интересным путешествиям, нам делаются близкими и знакомыми разные дикие уголки Африки, Америки или Индии и остаются почти совсем неизвестными страны, лежащие на окраинах нашей России и возле нее. Страна Урянхайская именно тем и замечательна, что составляет нашу границу на расстоянии почти тысячи верст, и между тем редкий из русских читателей знает ее хотя бы только по имени. Страна эта занимает южный склон гор Саянских, окаймляющих с юга сибирские губернии Иркутскую и Енисейскую.
Мы в наших путешествиях два раза посетили Урянхайскую землю. В 1876 г. мы подходили к ее восточной оконечности, к озеру Косогол. В 1879 г. экспедиция, посланная для исследования Северо-Западной Монголии, состояла из моего мужа, Григория Николаевича Потанина, г. Адрианова, студента, присоединившегося к экспедиции в качестве естествоиспытателя, меня и одного прикомандированного к нам переводчика. К концу лета к экспедиции присоединился топографский офицер Орлов со своим помощником и двумя казаками, знающими монгольский язык. Осенью экспедиция находилась в Северной Монголии, на озере Убса. Отсюда должно было начаться наше возвращение в Россию, но по дороге мы должны были исследовать страну урянхов.
Предлагаемый очерк имеет в виду познакомить читателей с тою частью страны, которую мы видели, и с теми трудностями, какие испытывают люди, в первый раз проходящие по малоисследованному краю. Западная часть страны и северо-восточный ее угол остались нам совершенно неизвестны.
От озера Убса мы начали подниматься в горы и в первый день поднялись лишь на карниз главного хребта. Этот карниз представляет ровную поверхность, поросшую степной растительностью и кипцами, по ней извивалась река, окаймленная деревьями. Величественная Танну-Ола смотрелась отсюда еще неприступнее; горы, казалось, стояли сплошной стеной, вершины были покрыты пятнами снега и по утрам дымились туманами. Бока гор были покрыты лиственным лесом. Монгольские солдаты с пикета пугали нас трудностями здешнего перевала и предлагали нам идти вдоль по этому карнизу Танну-Олы, с тем чтобы перейти на северную ее сторону более удобным восточным перевалом; но тогда значительная часть урянхайской страны осталась бы нам неизвестной, и мы предпочли перевал Торхоликский. Громадная стена Танну-Олы как будто манила скорее взглянуть на то, что скрывается за ней. 17 сентября мы поднялись на перевал.
Несмотря на кажущуюся неприступность, подъем был довольно удобный. На перевале уже не встречалось деревьев; это была довольно большая болотистая площадка, посредине которой возвышалось обычное в Монголии на перевалах обо, т. е. груда камней и хворосту со вставленными в кучу палками, с навешанными жертвами духу горы. Здесь были и грубые изображения на коленкоре буддийских божеств, и такие же тибетские и монгольские молитвы, тут же были простые ленточки из цветного коленкора или даже пучки лошадиных и верблюжьих волос – жертва, самая употребительная у путешественников, так как материал всегда под руками. Перевал этот носит название у монголов Баин-Танну; хребет над перевалом возвышается еще футов на триста.

Взоры всех устремились с перевала на север; но нам, кроме бесчисленных горных вершин, густо поросших лесом, ничего не было видно. Нам предстоял чрезвычайно крутой и лесистый спуск. Глинистая тропинка чуть заметно извивалась по обрыву. Все спешились, лошадей перевязали по две и по три и отдали людям. Рабочие взяли верблюдов за повода, стараясь, чтобы на каждого рабочего пришлось не больше двух. Только что выпавший снег сделал глину на спуске скользкой, и верблюды боялись идти. Не прошли мы и полуверсты, как один верблюд полетел с тропинки вниз; к счастью, деревья задержали его и не дали свалиться на дно оврага. Развьючка и переноска вьюка на руках заняли довольно много времени, между тем обвал, произведенный падением верблюда, сделал тропинку в этом месте почти непроходимой и для всех остальных животных, особенно для верблюдов; с лошадьми можно было забраться выше и обойти лесом. Чтобы предупредить падение верблюдов, их поддерживали накинутой с этого бока веревкой. Дальше по дороге также встречались задержки от большой крутизны; местами приходилось срубать деревья, чтобы верблюды с вьюками могли пройти. Через этот перевал обыкновенно переходят на быках или лошадях.
Мы, гнавшие лошадей, опередили караван и, спустившись с первого уступа гор, сели отдохнуть под высокими кедрами, которые растут в изобилии на северной стороне Танну-Олы. Вскоре, один за другим, к нам присоединились проводники верблюдов. Дойдя до речки, мы заночевали, и весь следующий день шли по узкому ущелью, бока которого густо поросли лесом хвойных деревьев, кедра, лиственницы и ели; по берегам реки росли рябины, черемухи и осины, с удовольствием встретили мы эти русские деревья, не виденные нами в Монголии.
Несмотря на то что мы продвигались на север, становилось все теплее и теплее, высокие лесные травы изредка встречались еще в цвету, тогда как в долине Убса все было уже давно желто. Только что мы стали лагерем, как к нам подошли два молодые урянхайца; по их словам, они направлялись в Монголию, но ничто в их костюме не обнаруживало дальних путешественников. Несмотря на осеннее время, на них были короткие замшевые куртки и такие же, до крайности короткие кожаные панталоны, похожие скорее на трубы, едва скрепленные вверху и не достающие далеко до колен; живот тоже до половины оставался открыт, штаны были подвешены к поясу на ремнях; к поясу же на ремнях прикреплялись и сапоги, сделанные из кожи ног горного козла; они были выше колен и под коленками подвязывались ремешками. Молодые люди, несмотря на голые грудь и живот, казалось, не зябли. Один из них, разговаривая с нами на берегу речки, снял с себя сапоги и стал бродить по воде, брызгая и проламывая в мелких местах лед своими босыми ногами, забавляясь, как ребенок.
При этих «путешественниках за границу» не было ни багажа, ни оружия, но у каждого в руке был небольшой кнутик, что казалось совсем лишним для пешеходов. Бичечи (писарь) объяснил нам, что урянхайцы, наверное, отправились воровать лошадей, почему кнуты им необходимы. Такое открытие очень встревожило наших людей: они боялись, что эти молодцы угонят ночью наших лошадей; но это обстоятельство заставило их удвоить любезность с гостями: они не только пригласили их ужинать, но даже предложили им лечь спать на своих войлоках и прикрылись на ночь одной с ними кошмой – затем, как объяснили они нам, чтобы в таких условиях им лучше было наблюдать за ночным поведением гостей. Но на этот раз дипломатия наших монголов удалась, и урянхайцы, переночевав, ушли мирно утром.
В тот же день мимо нас прошел большой караван урянхайцев, возвращавшихся с своих пашен. Быки были нагружены мешками с просом; женщины ехали на быках или коровах, а большая часть мужчин – на лошадях. Лица урянхайцев были красивее монгольских, несколько татарского типа; черные, живые глаза и черные же усы даже стариков делали красивыми, а между молодежью встречались настоящие красавцы. На головах у женщин были пунцовые шерстяные капюшоны, вроде тех, что носят наши монахини под клубуком. По краям и вокруг лица этот головной убор был у всех вышит белыми бусами. Шубы на женщинах были длинные, овчинные, у некоторых крытые синей нанкой; фасон женских шуб напоминал рубаху наших татарок: книзу шуба оканчивалась широкой оборкой, окаймленной полосой красного ситца или черного плиса. Кавалькада эта, завидев наш лагерь, спешилась и окружила нас, вышедших из палаток посмотреть на них.
Переночевав здесь под тенью высоких лиственниц, мы пошли вниз по речке Ар-Торхолик. По ее берегам росли березы, осины и рябины: последние всегда были украшены лентами цветного коленкора; по-видимому, это дерево считается священным.
Вступив в урянхайскую землю через перевал Торхолик, мы очутились в каком-то шаманском центре. У расширения Торхоликской долины, при выходе ее на долину Улухана[120], окрестные горы представляли тринадцать отдельных пиков, бывших жилищем тринадцати горных духов, или хозяев места, сабдиков (употребляют здесь монгольское выражение), почему и перевал Торхоликский носил название Тринадцать онгонов (онгон – монгольское выражение, но оно более распространено и употреблялось нами потому, что мы слышали его от монголов, окружающих нас). У входа в ущелье стояло огромное обо; оно не было похоже на другие, т. е. на простую кучу камней или хвороста, а было сложено из бревен, составленных конусом, и представляло собой такой же урянхайский алянчик, или шалаш, какой и доныне употребляют звероловы-урянхайцы.

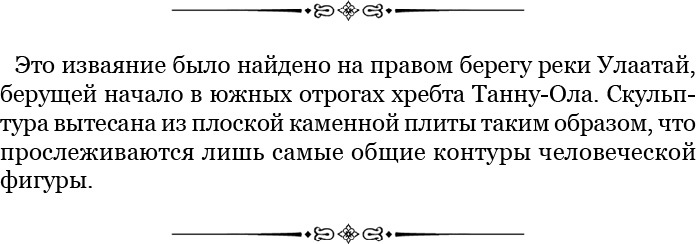
Внутри этого конуса были протянуты шнурки, все густо увешанные ламой, или лентами разноцветных материй; в дальнем от входа конце был прилавок, и на нем стояли вырезанные из дерева фигуры разных животных: верблюдов, коней, быков. По объяснению сопровождавших нас людей, это должно было изображать животных, принесенных будто бы в жертву. К чести урянхайцев надобно сказать, что, несмотря на их глубокое проникновение шаманством, кровавых жертв они не приносят, тогда как у наших алтайцев и бурят такие жертвы существуют доселе.
Когда мы остановились лагерем около Модот-обо на Торхолик, к нам вечером доносились со всех сторон удары бубна, и наш проводник говорил, что в окрестностях живет до десяти шаманов и шаманок; это место, по-видимому, было особенно священно для них. В урянхайской земле шаманов, и женщин и мужчин, много; женщин как будто даже больше, чем мужчин. Нам хотелось видеть этих прославленных прорицательниц, но от нас потребовали, чтобы мы подарили шаманке белую лошадь и пять разноцветных кусков материй: после объяснилось, что куски не означали целых кусков, а могли быть и небольшими, а лошадь только посылалась за шаманкой, но не поступала в ее пользу. Шаманка эта была еще молодая женщина, и, когда мы приехали к ней, она только что кончила винокуренье, и все присутствующие пили еще теплую орыхи, т. е. молочную водку, и были несколько навеселе, хозяйка также; наш проводник, монгольский бичечи (писарь), был здесь, как свой, а настоящий хозяин, несмотря на веселое общество, собирался уехать в тот же вечер в табун.
Окружающие нас монголы говорили, что бичечи пользуется в этом доме правами друга несколько более, чем бы это следовало; но, по-видимому, это не особенно скандализировало окружающее нас общество. На другой день шаманка с своими приятельницами приезжала к нам, опять происходили переговоры, но нам все-таки не удалось видеть, как шаманит Джаппай. Джаппай держалась с такой независимостью и свободой, какой нам не случалось наблюдать у монголок, но было ли это ее личной особенностью, или она держалась так потому, что была шаманка, не могу сказать. Несколько позднее, на р. Елегес, мы видели урянхайскую шаманку: она не производила никакого импонирующего впечатления, была одна и, кажется, боялась нас, русских. Камлать (шаманить) у нас она не согласилась, и мы должны были отправиться для этого в урянхайскую юрту. Мы приехали к ней, когда было уже совсем темно; юрта была бедная, закоптелая и тесная; нас приехало довольно много, и мы едва разместились на рваных войлоках, постланных у стен юрты; между нами и очагом едва оставался проход. Эта шаманка, во время своего камланья, оставалась в своей обыкновенной одежде у нее был только бубен.
По-видимому, она сильно волновалась и потому долго не могла отдаться экстазу; пела она мало, а все издавала какие-то звуки, по ее мнению, подражающие крику различных животных, или, может быть, духов, – она рычала, скалила зубы, протягивала к людям руки, как кошка, желающая царапать, бросалась на людей и на камни очага. Окружающие жалели ее, останавливали, говорили: «Ах, бедная!» Муж ее, когда она подходила близко к очагу, кричал ей: «Джидек! Джидек! Пук!», что в переводе означало: «Вонюче, погано». Затем с ней сделался припадок: она упала в конвульсиях, лицо стало дергать, изо рта показалась пена; полежав несколько минут, она встала и докончила камлание, т, е. опять стала бить в бубен и предсказывать. Камлание это оставило во мне самое неприятное впечатление. Совестно было, что мы устроили для себя зрелище, стоившее бедной женщине, очевидно, много душевных и телесных напряжений, тем более что в ее камланье не было ничего поэтического.
Гораздо лучшее впечатление произвело на нас гаданье или камланье другой урянхайской утаганы[121] – девицы, жившей на южной стороне Танну-Олы. Самая обстановка была тогда очень поэтична. Юрта утаганы стояла в лесу больших тополей и лиственниц; она была велика и убрана довольно богато и чисто. Но и там, по случаю предстоящего камланья, железный очаг был вынесен из юрты и на огнище были положены три камня, на которых и ставился котел, когда было нужно совершать курения и возлияния. Сама утагана Найдын была здоровая и довольно красивая девушка, одетая нарядно, держалась она смело и, пожалуй, даже повелительно; все прочие члены семьи, мать, брат, слушались каждого слова Найдын. Все принадлежности камланья: ерень, т. е. шнур, увешанный лентами и протянутый в переднем углу юрты, несколько вправо от входа, шаманский плащ, шапка, сапоги, – были новы и сделаны с некоторой кокетливостью, насколько это было совместимо с традиционным покроем всех этих вещей, сшитых из замши, сделанной из шкур дикого козла; но украшения были сделаны из материй, и в них выказывался изящный вкус Найдын.
Плащ всякого урянхайского кама имеет на себе массу бахромы, нашитой по всей его длине, начиная сверху донизу, точно также и по рукавам, вдоль всей руки. Обыкновенно эта бахрома делается из нарезанных тонко ремешков, вперемежку с которыми пришиты бывают изображения змей и различные шкурки зверей; иногда тут же пришивают железные изображения различных животных, какие-то погремушки и иногда даже колокольчики. У Найдын преобладали ремешки и змеи и были железные погремушки; две змеи на спине были больше других и головы их были сшиты более искусно, с глазами, обозначенными бисером, с раскрытой пастью и с ушками; они назывались алтын-баштыг Амырга джилан, т. е. шестиглавая или, может быть, златоглавая змея Амырга.
На плечах плаща были нашиты пучки совиных перьев; такими же перьями был обшит воротник. Шапка Найдын состояла из довольно широкого околыша или повязки, из пунцового сукна, нашитого на замшу; по сукну были нашиты мелкие раковины, джилан-баш (змеиные головки) по-урянхайски; верхний край повязки густо обшит совиными перьями, а нижний край – бахромой, которая спускалась на лицо Найдын и совершенно его закрывала до рта. Совиные перья на шапке торчали кверху и, распушаясь, делали эту шапку похожей на диадему. Сапоги Найдын были с мягкими подошвами, и на носках их были вышиты глазки. Змейки, украшавшие плащ, назывались лосунай аймын, т. е. царство дракона, если перевести на наш язык.
Бубен у Найдын был такой же, как и у других камов[122].

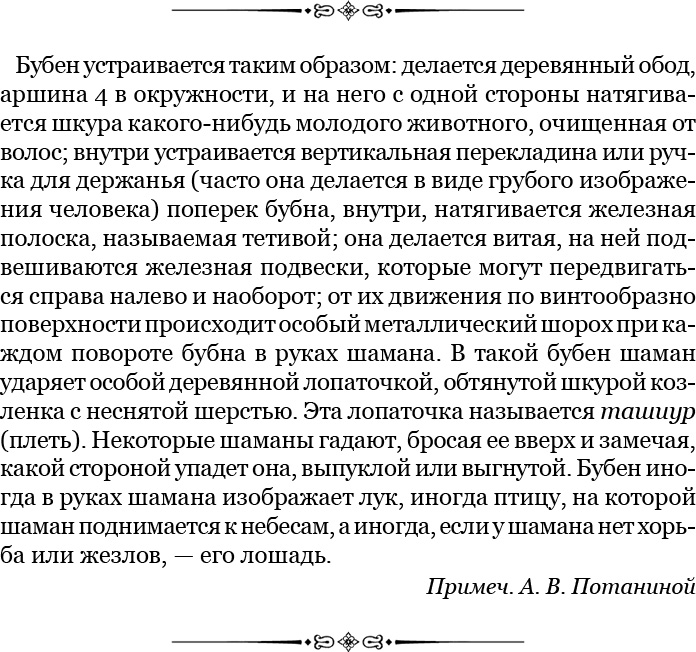
Когда мы приехали в юрту Найдын, ерень уже был протянут и бубен просушивался над огнем, что всегда делается перед камланьем; брат Найдын, время от времени, пробовал его звук, ударяя по бубну колотушкой и снова начиная повертывать бубен над огнем всеми сторонами. Потом на очаг посыпали можжевельник; мать Найдын полила на камни очага молока, побрызгала им в отверстие юрты и затем приступила к одеванию утаганы. Перед еренем был постлан войлочек; став на него лицом к ереню и задом к огню, Найдын начала камлать, т. е. бить в бубен и при этом раскачиваться всем телом. Она держала бубен в левой руке за перекладину внутри его. Сначала следовали два удара кряду, причем бубен держался у левой ноги, затем сильным взмахом бубен переносился к правой ноге, и здесь делался удар, получалась дробь марша. Голова шамана постоянно наклоняется; сначала вся шаманская пляска состоит из этих движений, вызываемых ударами в бубен, затем уже следуют разные вариации, но все время ноги шамана остаются почти неподвижны, и двигается только верхняя часть туловища, иногда с изумительной быстротой. Пляска и музыка Найдын была очень энергична.
При высоком росте и стройности шаманки, при естественной грации, которой она обладала, эти пляски никогда не переходили у нее в безобразные кривлянья. Лицо кама всегда бывает наполовину скрыто бахромой от шапки. Найдын прикрывала его, кроме того, бубном и старалась держаться в тени. Один или два раза Найдын начинала неистово кружиться на одном месте; тогда плащ ее, все его ремешки и змеи разлетались во все стороны и кружились вокруг ее стана. Пляски свои Найдын прерывала, обходя, время от времени, вокруг очага, медленно, с остановками, и тогда начинала петь. Пение было чрезвычайно приятно, так как голос ее был нежен. Мотивов было много. Пение было до крайности заунывно, иногда оно переходило как бы в плач. Эти переходы от бурной пляски, от громовых ударов бубна к нежным мелодиям пения производили очень сильное впечатление. По временам Найдын издавала также какие-то свистящие, шипящие и гортанные звуки или подражала ржанью лошади и кукованью кукушки – это, по объяснению окружающих нас, должно было изображать прибытие духов, подвластных Найдын и вызванных камланьем ее. Камланье в юрте было закончено камланьем под открытым небом.
Надо отдать справедливость Найдын, – она хорошо поняла сценический эффект этой последней сцены. Представьте себе снежную полянку под высокими деревьями; луны нет, но звезды дают достаточно свету; против дверей юрты держали под узду белую лошадь, перед мордой которой на треножнике курился можжевельник; между конем и юртой постлан войлок, и мать шаманки сделала коню поклон и обрызгала его чем-то, затем вышла сама утагана, медленно направилась к коню и начала бить в бубен. Лошадь храпела, но не рвалась; очевидно, она уже привыкла к этому. Затем Найдын отступила от коня, все время не переставая бить в бубен, и вошла в юрту задом, очевидно, желая этим выразить почтительное отношение к коню или, может быть, к тому, кто невидимо присутствует тут, по ее представлениям.
В юрте она опять обошла вокруг очага, направилась к ереню и, после камлания перед ним, начала бросать свою орбо в колени присутствующим при камланье людям. Каждый, кому оно брошено, берет его в руки, прикладывает в знак почтения ко лбу и подает снова Найдын; она снова поколотит в бубен и снова бросит, не прерывая пения, не выказывая никакого участия, как будто действует во сне. Каждый, подавая орбо, произносит ойио или торак, судя по тому, верхней или нижней своей стороной упала к нему в колени орбо. То, что поется во время этого бросанья, и есть предсказанье судьбы. Эти предсказания, по-видимому, старинные, но в них Найдын, или вообще кам, более или менее искусно, судя по таланту, вставляют свои импровизации, сообразно с обстоятельствами.
Иногда человек в это время задает каму вопросы, и последний импровизирует ответы. Найдын бросала свое орбо всем, не обходя никого, даже детям, и всем по порядку. В отличие от монгольских шаманов, урянхайские кружатся по солнцу. Обойдя всех, Найдын опять стала перед еренем, т. е. перед шнуром с джаламой, и здесь мать и брат стали снимать с нее камское платье; в это время она корчилась и стонала и в то же время не переставала тихонько напевать; успокоилась она только тогда, когда все шаманское сняли с нее; она имела вид человека только что проснувшегося и оправилась уже после сильной понюшки табаку и чашки чаю, которую ей подали. Вид у всех камов, и мужчин и женщин, такой, какой бывает у людей с сильными страстями: морщины показываются рано и бывают глубоко врезаны, глаза почти у всех имеют в себе нечто особенное, они как бы больше блестят, по крайней мере, это бывает заметно в дни камланий.
Нам всегда почти приходилось наблюдать камов в дни, назначенные уже для камланья, определенные раз навсегда; а все камы, говорят, чувствуют особое нервное возбуждение, когда наступает время камланья; с ними даже случаются болезненные припадки вроде падучей, если они удерживаются от камланья. Урянхайские камы совершают обязательные камланья 9-го, 19-го и 29-го числа каждого месяца. Можно и нарочно пригласить кама камлать, например, по случаю болезни, или ради освещения нового домашнего онгона.
Все пение Найдын и других урянхайских шаманов, даже и тех, которые в обыкновенной жизни уже говорят монгольским языком, совершается, как бы для большой торжественности, на языке урянхайском или, как в этом случае говорят иные монголы, на уйгурском. Впоследствии нам перевели некоторые отрывки из того, что пела Найдын во время своего камланья.
Вначале она обращаясь к змее:
«Златоглавая моя змея Амырга!
Пьющая воду из вершин рек!
Шагающая по вершинам гор!»
Дальше она пела:
«Левой рукой держусь я за радугу, правой – за небо.
Тело мое велико, как гора, сердце мое крепко, как кишечило (надмогильный камень).
Шуба моя из лохмотьев, пища моя горька, как сосновая смола».
С урочища Модон-Обо мы любовались видом, который был великолепен. Большая долина Енисея видна верст на десять; она тянулась с востока на запад. Вдали, на противоположном берегу, опять высились скалистые горы. От нашей стоянки у подножия Танну-Олы до Енисея было верст двадцать; воды в реке нам не было видно за береговым уступом, но линия реки обозначалась густым тополевым лесом; долину Енисея местами перерезывали речки, сбегавшие с Танну-Олы; их берега тоже окаймлялись кустарниками тальника и, главным образом, облепихи (Hippophae rhamnoides); деревья были уже в осеннем ярко-желтом уборе.
Ближе к склонам горы находились пашни, разделенные канавами. Просо, которое здесь сеют, было везде почти снято. Налево продолжение долины скрывалось от гор холмами, направо, по берегам Енисея, местами выступали причудливые, отдельно стоящие скалы, иные из них были белые и очень украшали ландшафт.
Мы шли на восток то у самой воды, то обходя скалы и поднимаясь на береговую террасу. Река имела очень красивый и внушительный вид. Улукем здесь очень широк, и воды его несутся быстро, но он очень пустынен. За все время, которое мы двигались около реки, мы только раз видели каких-то урянхайцев, плывших вниз на плоте.
Река достигает здесь ста сажен или даже больше; по ней много островов. Два раза в год, весной и затем в конце лета, в Улукеме воды прибывают, и тогда он несется с бешеной быстротой, иногда смывает целые острова и намывает новые. По берегам Улукема встречаются тополевые рощи, деревья бывают в несколько обхватов толщины; луга иногда покрыты высокой травой. По верхней террасе встречались места степные, т. е. рос ковыль, высокий злак джису (Lasiagrostis splendens) и мелкие солянки. Между последними было много таких, которые образовали перекати-поле, облеплявшее придорожные кусты. В одном месте этих оторвавшихся от корней растений было так много, что караван брел по их серым массам, точно по воде.
26 сентября мы дошли до реки Елеш. По всей дороге не было урянхайских жилищ; только раз мы встретили веселый поезд, – молодые люди и молодые девушки ехали на свадьбу. Все они были нарядно одеты, но их костюм на этот раз не отличался от монгольского; яркие атласные шляпы были, очевидно, куплены в улясутайском китайском магазине. Веселые, румяные лица девушек, их бойкий смех, некоторое заигрыванье с молодежью нашего каравана очень понравилось нам; видно было, что они на своих скакунах чувствовали себя совершенно безопасными, и действительно, перекинувшись двумя-тремя фразами и посмеявшись они унеслись, как ветер, в боковое ущелье долины.
Реку Елеш мы перешли вброд, воды было только по стремя. На этой реке мы нашли русский дом и русских людей. Тут жил уже девять лет старик, приказчик купца Весенкова. Его хозяин вывозил соль из озера, которое лежит несколько выше, ближе к горам Танну-Олы, скупал урянхайский скот и пушной товар, а урянхайцам продавал русские товары. От этого приказчика мы узнали, что несколько далее по нашей дороге есть еще русский дом, где живет минусинский купец Сафьянов.
Мы были очень рады встретить русских людей и мечтали о разных русских удобствах жизни – о печеном хлебе, русских щах, бане и т. п.
Следующая наша ночевка была уже у Сафьяновых. Трудно описать то удовольствие, которое испытываешь, когда, после долгих лишений, вновь пользуешься привычным комфортом. У Сафьянова совсем русский дом. Отдохнув тут один день, мы двинулись в дальнейший путь, далеко не легкий, как оказалось впоследствии; он лежал по местности, совершенно лишенной дорог.
В восьми верстах выше Сафьяновского дома, в Улукем впадает с севера река Бейкем. Собственно Улукем, или, что то же, Енисей, имеет две вершины, почти равные по своей величине: Бейкем и Хаикем; обе эти реки протекают по очень горной стране, имеют много притоков и многоводны, но, вследствие пустынности страны, имеют мало значения в настоящем. Кем по-урянхайски значит «река», Улукем – «большая река».
От слияния двух кемов мы пошли к югу, так как берегом Хакема, южной вершины, идти было нельзя, – мешали скалы, подходящие к воде, не оставляющие на берегу дороги.
Дойдя до значительной речки Бурен, где, как мы узнали, жил начальник здешних урянхайцев Огурда, у которого нам нужно было выпросить проводников, мы послали Огурде с казаком подарки: дешевое ружье, карманные часы и несколько мелочей. Огурда приехал к нам сам; это был мужчина средних лет, в шляпе с павлиньим пером и в китайской курме поверх халата: с ним явились и два его помощника. Разговор мы поддерживали с трудом, хотя Огурда держал себя просто, без спеси; только выпитый пунш сделал гостя несколько более разговорчивым. На другой день он прислал нам ответные подарки; блюдо очищенных кедровых орехов, блюдо овечьего сыра, два куска шелковой материи и кусок бумажной синей далимбы. С этими подарками к нам явились два сына Огурды; один, лет 18, был лама, другой, наследник его княжеского достоинства, лет 14; последний не умел говорить по-монгольски и был очень застенчив. Молодые люди показали нам свою удаль, ловкость и резвость своих скакунов.
Несколько дней спустя мы были в гостях у одного из урянхайских чиновных лиц. Юрта у него была большая, пол в ней густо выстлан кошмой, кругом были деревянные кушетки для спанья и шкафы для посуды. Обстановка казалась более богатой, чем мы обыкновенно встречали. Жены у него не было, хозяйничали две дочери, одна из них была невестой. Угощение состояло из монгольского чая, к которому подавали жареное просо и сыр. Угощали чиновников также и водкой, но немногие русские с охотой пьют эту молочную водку. Мы привезли с собой, в виде гостинцев, сахару и русской водки и несколько мелочей: ножниц, зеркалец и т. п. Хозяину так понравилась наша водка, что он, отпустив наш караван, через полчаса снова догнал нас и упрашивал дать ему еще бутылку, в обмен которой подарки нам: несколько аршин дешевой шелковой сырцовой материи. Урянхайские и монгольские князья получают шелковые и бумажные материи от пекинского двора в ответ на их новогодние подарки богдыхану, и у них накопляется их много.
Огурда Майдоре сильно отговаривал нас идти по намеченной нами дороге. По его словам, нам с верблюдами будет трудно пройти, потому что дорога горная, лесистая, и на ней бесчисленное множество перевалов. Однако решено было идти по этой дороге, и Огурда дал нам двоих проводников.

II
Дальнейший путь. – Анджан-Хорум. – Трудности дороги. – Мучения верблюдов. – Наше времяпровождение. – Гибель верблюдов. – Холод. – Удобства урянхайского костюма. – Земля дархатов. – Зимний путь. – Страдания от холода. – Отмороженные ноги. – Долина Шишкит. – Русская заимка Посылина. – Озеро Косогол и Мунко-Сардык. – Общие впечатления урянхайской жизни. – Сношения русских с урянхайской землей.
В вершинах реки Бурен виднелись высокие горы Анджан-Хорум, отрог Танну-Олы. С большим трудом перебрались мы здесь через реку, которая была глубока и имела саженей 15 ширины; затем, перевалив через горы Таудук, мы снова спустились к берегам главной речки Хакема. Река здесь уже не походила на Улукем, – вместо тихой и покойной она приняла вид бурного потока, который нес свои воды, разбиваясь о выдающиеся из воды камни. Долина в этом месте расширилась и имела саженей 50 ширины; она была завалена обломками скал, свалившихся с боковых гор, и упавшими деревьями, что очень затрудняло наш путь. Неожиданно нам пришлось простоять тут целый день.
Ночью выпал снежок, утро было ясное и морозное. Рабочие стали ловить лошадей; между ними была одна, которая, чтобы избежать аркана и укрюка, кинулась в реку и переплыла на ту сторону; пример ее оказался заразителен: за ней бросились и другие лошади. Плыть за ними по холодной, как лед, воде и через незнакомую реку никто не решался. Казаки, которые были с нами, принялись тотчас же делать из валежника плот, на котором двое из них, вооружившись шестами, переплыли на другую сторону, лошадей вернули, но на всю эту возню ушло много времени, и мы решили остаться до следующего дня.
Подобные задержки и необходимость собственными силами прокладывать дорогу в крае сделали то, что пространство верст в 300–400 мы шли в продолжение двух месяцев. Описывать наш путь день за днем я не буду. Несмотря на разнообразие отдельных картин, в общем все было донельзя однообразно. Обыкновенно подъем по лесистой стороне горки, обращенной к северо-западу, и затем – спуск по южному склону, который покрыт травой. В этой части страны нам начала встречаться высокая береза. На речке Ирцых нас поразило особенное явление: березы здесь росли часто и были очень тонкоствольны и высоки, между ними было множество деревьев, образовывавших арки; вершина дерева низко опускалась, у иных деревьев до земли, лес представлял, таким образом, множество арок; мы объяснили это тем, что снега бывают здесь очень обильны и, падая на верхушки деревьев, склоняют их.
9 октября мы начали подниматься на горы Анджан-Хорум, которые в вершинах своих имели белок. Ночью шел снег и сделалось тепло; тропинка была узкая, проложенная по крутому косогору, заросшему густо лесом. Верблюды не могли иногда проходить под деревьями, задевая за их ветви вьюками, и тогда мы должны были срубать деревья; обходить их было нельзя, потому что верблюды не могли удержаться на косогоре; часто они падали и на тропинке в тех местах, где под молодым снегом был лед. Иногда, когда на тропинке был чистый лед, его приходилось рубить или посыпать обледенелые места песком. Несмотря на все меры, случалось, верблюд скользил и падал на бок и катился вниз по косогору до тех пор, пока какое-нибудь препятствие, в виде камня или дерева, не останавливало его. Смотреть на маету с верблюдами, на мучения этих кротких, безропотных животных (не знаю, почему их считают упрямыми, – упрямятся они только тогда, когда от них требуют чего-нибудь совсем неподходящего или когда они потеряли силы) было ужасно тяжело и скучно. Из лагеря мы обыкновенно выступали рано; нам подавали оседланных лошадей.
После нашего трудного подъема на горы Анджан-Хорум, нам пришлось отдыхать целых три дня, потому что 10 и 11 октября падал густой снег; он покрыл горы кругом глубоким ковром и закрыл все даже высокие травы, что было очень плохо для наших животных, в особенности овец. Горы в том месте, где мы остановились, были так однообразно круты, что мы едва-едва выбрали местечко для лагеря, да и то пол в палатке нашей был настолько покат, что дрова, разложенные посредине, скатывались к порогу от очага; надо было постоянно следить за головнями, чтобы они не раскатились и не наделали пожару. 11-го числа наши «нойоны»[123], т. е. муж мой и топограф Орлов, решили поехать вперед и осмотреть спуск, который им предстояло сделать. Проводники говорили, что он будет очень труден.
«Нойоны» возвратились с осмотра дороги и нашли спуск хотя крутым, но не невозможным; они оставили провожавших их казаков рубить лес на узких местах, без чего нельзя было пускаться в путь, и послали из лагеря еще двух человек с топорами и лопатами для расчистки дороги; эти рабочие вернулись вечером и объявили, что им хватит работы еще на день, и мы простояли еще сутки, пока наш передовой отряд расчищал дорогу. Обыкновенно, вечера дневок были веселее; к нам в юрту приходили Орлов и его помощник-юнкер. Орлов много на своем веку странствовал, и ему было, о чем рассказать, а юноша занимался предположениями: «что-то теперь делается в Омске», где находились его товарищи и семья.
На другой день, несмотря на расчистку дороги, решено было вьючить только самых крепких верблюдов, а остальные вьюки разложить на лошадей; все люди шли пешком, только мне, на всякий случай, заседлали лошадку. Во весь этот день мы сделали не больше десяти верст, хотя некоторые верблюды все-таки пробыли под вьюками 12 часов сряду, и на ночлег пришли уже совсем ночью. Спуск был, по гребню, и у самой тропинки лежал откос, саженей в десять, совершенно открытый, без деревьев, и лишь дно ущелья было покрыто деревьями, колодами и болотами; упасть здесь было опасно, однако к вечеру без этого не обошлось, и два верблюда свалились-таки на дно оврага; усталые люди уже не полезли за ними и оставили их на произвол судьбы до утра. В этот день я хоть и брела все время вместе с нашим караваном по глубокому снегу, веля в поводу коня и отдыхая на каждой поляне, но к вечеру не выдержала и ушла вперед, рассчитывая, что находившийся впереди караван Орлова пришел на место, и у них раскинута палатка. Действительно, я застала их общество за чаем.
Впоследствии я часто пользовалась их гостеприимством, опережала своих и подъезжала пить чай к их палатке, тогда как мой муж и г. Адрианов, бывший в то время с ними, никогда не оставляли каравана, стараясь ободрять людей личным присутствием при всех невзгодах. Следующий день мы опять стояли, так как надо было выручить упавших верблюдов и дать отдых остальным. Во время следующего перехода по долине реки Джибей мы видели жилища урянхайцев – алянчики, сложенных конусов из бревен. Дорога теперь была ровнее, нам не приходилось взбираться на высокие горы, и мы шли по долинам речек; тут встречались затруднения другого рода: иногда речка имела забереги – очень высокие ледяные карнизы, и середина реки еще не замерзла, тогда приходилось прыгать с этих карнизов в воду и снова заскакивать на противоположный ледяной берег; лошади это могли делать, но для вьючных верблюдов в таких случаях приходилось обрубать забереги, размельчать ледяные осколки, посыпать этот лед песком и тогда проводить по нему или в тех местах, где речки еще не замерзли, набрасывать на их грязные или болотистые берега рубленые ветви, потому что верблюды вязли в грязи.
На одном из таких переходов, встав утром, мы увидели двух своих верблюдов мертвыми. Они, по-видимому, замерзли, по крайней мере, они имели такой вид. Гибель этих верблюдов наводила на мысль, что и другие тоже могут издохнуть, и в таком случае нам пришлось бы зимовать, питаясь остатками наших лошадей, из которых, впрочем, только одна (избегавшая всю дорогу ловли) была жирна, чем возбуждала аппетит у людей, которым надоели наши тощие бараны. Было решено, что при первой же нужде в продовольствии непокорный савраска будет подстрелен и пойдет на еду. Скоро и некоторые лошади начали отставать, особенно взятые из России; иногда ослабевшим давали понемногу мучной болтушки, но муки и для людей было мало, – мы уже начали, вместо лепешек, с чаем пить затурак, т. е. чай, подправленный мукой и маслом, и стали покупать у урянхайцев, если находили у них, корешки мяхира (Polygonum riviparum), растения гречихового семейства.

Впрочем, урянхайцев мы встречали очень редко. В нашей юрте не чувствовалось особенного нетерпения и скуки; гораздо тяжелее было топографам; они должны были к зиме возвратиться в Омск, где у обоих оставались семьи; о них могли беспокоиться, не получая никаких известий. Это обстоятельство и неудобство делать съемку зимой, проезжая по лесистой стране, или на дне глубоких долин, отнимало у них энергию. В нашей же юрте по вечерам было даже весело; нас никто не ждал, – г. Адрианов тоже был человек одинокий. Вечером к нам приходил обыкновенно молодой урянхаец – сказочник и рассказывал нам сказки; наш переводчик-алтаец передавал сказку по-русски, а муж мой записывал ее. К ночи в юрту приносили обыкновенно дров и растопки, но ночью не держали огня; от холода мы спасались, залезая в кошемный мешок, а растопка нужна была к утру, потому что муж мой обыкновенно вставал раньше всех в лагере и, храбро выскочив на мороз из-под теплого одеяла, прежде всего зажигал костер в юрте, затем уже будил алтайца Ивана, на обязанности которого лежало греть нам чай; потом, когда огонь в юрте нагревал воздух, вставала я, после всех – Адрианов; начиналось чаепитие и сборы в дорогу.
Во время наших странствий мы пришли к мысли, что собственно всем путешественникам следовало бы носить туземное платье или, по крайней мере, обувь, конечно, приспособляя это платье к нашим привычкам. Во время переходов по урянхайским трущобам мы нашли, что нет ничего лучше урянхайских сапог, сделанных из шкуры с ног оленя или дикого козла. Их мелкая гладкая шерсть решительно не пропускала сырости, и ноги очень легко было вытаскивать, как бы глубоко ни приходилось брести по снегу; сапоги эти чаще всего делались выше колен и поддерживались ремешками, прикрепленными к поясу; под коленками их затягивали пряжкой, чтобы они плотнее облегали ногу.
Сапоги эти собственно имеют вид чулка, и потому в них можно с большим удобством лазить по самым страшным тропинкам, как вверх по горе, так и вниз, тогда как сапог с каблуком иногда очень затрудняет при спусках. Шубы мы, конечно, новые не заводили, – каждый довольствовался тем, что есть, но они волей судьбы тоже превратились в урянхайские, – вследствие лесистых дорог и отдыхов у пылающих дров, они у всех поизодрались, а по-монгольски всякая изодранная шуба называлась урянхайской шубой – «урянха девгиль». 29 октября мы пришли на озеро Терьхуль, где должны были сменить вожаков.
Сначала шли вниз по реке Хорге, которая еще не вся замерзла; по реке рос густой лиственный лес, изредка здесь стали встречаться ели, и из кустарников появилась карагана. Монгольское название «верблюжий хвост» очень идет этому растению. Карагана эта растет, обыкновенно, одним тонким стволом и чаще всего не выше фута высоты, причем немного сгибается, по стволу она густо усажена иглами светло-коричневого цвета, иглы эти мягки, тонки и прижаты к стволу, почему и напоминают шерсть на хвосте верблюда. Почти весь год растение стоит без листьев и своим серовато-коричневым цветом дополняет сходство; лишь на очень короткое время летом покрывается мотыльковыми цветами нежного цвета чайной розы, причем появляется немного и листьев. Здесь этот «верблюжий хвост» достигает высоты человеческого роста и слегка ветвится, т. е. вместо одной ветки имел две-три, но в общем сохранял все тот же печальный и оригинальный вид. Караганы очень много в горах; наша садовая акация принадлежит к этому же семейству. Здесь мы встретили уже давно невиданное нами зрелище – это несколько семей урянхайцев, перекочевывавших в долину Хорги с Терьхуля; имущество везли на грубых телегах, запряженных быками, и частью на вьючных быках.
На Терьхуле мы вели переговоры с здешними дзании (мелкое начальство), взяли новых проводников; купить почти ничего не пришлось; здешние жители очень бедный народ: они охотнее давали нам свои запасы, если бы могли взамен взять чай, но мы могли им дать только серебро, с которым им нечего делать. Если бы мы пришли на Терьхуль летом, мы могли бы с Терьхуля пройти прямо в дархатский курень, откуда прямая дорога в Россию; но так как было уже поздно и горные перевалы были покрыты глубокими снегами, то мы должны были идти в обход, направляясь на юго-восток, и только на восьмой день, дойдя до реки Тезинша, повернули на северо-восток, т. е. к России. Страна была ровнее, не приходилось делать крутых подъемов и спусков; расчищать дорогу тоже не приходилось. Леса уже были только по вершинам гор, а наш путь шел по открытым безлесным долинам от дороги к лесу, чтобы иметь на ночь хороший костер; там, где не было воды, чай пили и готовили, растаивая снег.
Дней через семь мы достигли земли дархатов, племени, родственного урянхайцам. Здесь было несколько темнее, а главное, менее снежно, и скот наш мог теперь не голодать, потому что сквозь снег все же поля желтели травой. Узнавши, где кочует один из правителей дархатского народа, мы всем караваном пошли к нему. Дарга[124] Одунжан, к которому мы зашли, был очень не рад нашему приходу; наш скот съедал траву, которая предназначалась для зимнего продовольствия его скота. Мы понимали его недовольство нами и просили его скорее помочь нам выбраться от него дальше. Решено было, что г. Орлов и г. Алексеев нанимают свежих лошадей и сейчас же отправляются в Россию, а мы пока перейдем на речку Хуху-мора, где есть трава и солонец, в котором так нуждались наши усталые животные, и здесь оставим их под присмотром рабочих и нашего переводчика г. Палкина, а сами налегке выедем в Россию с тем, чтобы весной снова приехать сюда и продолжать наше путешествие.
Было уже пора возвращаться, становилось холодно, термометр Цельсия часто показывал выше 20°; кроме того, у г. Адрианова заболело горло, и он заметно утратил бодрость. Мы наняли у дархатов семь толстых и крепких лошадей и, взявши самый необходимый багаж на двух вьючных лошадях, вчетвером: муж мой, я, г. Адрианов и наш повар и переводчик-алтаец, отправились на север. С нами было два проводника-дархата. Наше путешествие теперь совершенно изменило свой характер. Палатки с нами не было, ночевали мы прямо на снегу около большого костра, просыпались рано, пили чай и сейчас пускались в путь. Ехать приходилось крупной рысью; я ужасно уставала ехать на тряской лошади. Проскакав рысью часов до двух дня, мы обыкновенно свертывали с дороги в лесок и останавливались пить чай. На этих остановках ели холодное мясо или разогревали вынутый из мешка и замерзший мякир, сваренный с маслом уже заранее перед путешествием.
С урянхайцами было замороженное и нарубленное кусками молоко, которое мы клали в котел с чаем. Вьюки мы не разбивали, а только снимали их со спин лошадей. Отдохнувши часа два и удивительно, как ободрившись чаем, мы снова садились на лошадей и ехали часов до 9 вечера. Тут уже доставали кошмы и подушки, взяв еду, т. е. баранину, запивали ужин чаем и затем укладывались, занимая места вокруг костра, но стараясь не ложиться на подветренной стороне, потому что искры, которые всегда летят от полусырых дров, беспрестанно попадали на наши постели и прожигали наши кошмы, одеяла и шубы. Наблюдать за огнем и караулить лагерь и лошадей оставались урянхайцы, а мы все засыпали быстро и очень крепко. Было что-то необычайно приятное в этих ночлегах под звездным небом, среди пустыни, правда, с одним только условием, если не было ветрено и не шел снег.
В ночь с 15 на 16 ноября нам пришлось испытать эту неприятность. Утомляясь от беспрерывной езды и неудобного мехового костюма, я ужасно уставала. Часто я просила, чтобы мне позволили пойти немного пешком или хоть бы ехать шагом; раз муж было согласился на это, и мы отстали с ним от прочих всадников, но скоро потеряли тропинку и очень испугались: при близорукости нас обоих, нам трудно было найти потерянную тропинку на однообразной снежной поляне; с тех пор муж не позволял мне отставать, несмотря на мои просьбы и жалобы на усталость; в этот день (15-го) к усталости присоединилось легонькое нездоровье; Адрианов и Иван, не имевшие больших шуб, тоже стали зябнуть; на дневной остановке достали байковое одеяло и завернули в него Aдрианова, как в плед. Лица у всех нас в этот день оказались обмороженными. На ночлег ветер, казалось, затих, и мы отогрелись немного, хотя суп наш замерзал на полдороге ко рту. Хотели было выпить пуншу, так как с нами было немного рому, но бутылку из-под рому нашли привязанной горлышком книзу и, конечно, уже пустой; было ли это сделано нечаянно или, может, ром наш и не пропал даром, осталось, конечно, неизвестным, да и малоинтересным, раз бутылка опустела.

Несмотря на холод, укладывались мы спать, обыкновенно снимая с себя все верхнее платье и оставаясь только во фланелевых рубахах; сапоги выставляли поближе к костру, а сами забирались в кошмы, сшитые мешками, для того чтобы снизу не поддувало. В эту ночь к утру мы с мужем пробудились от каких-то жалобных криков; от испуга я вскочила, не принимая предосторожностей, бросилась было к своим сапогам, но оказалось, что они были полны снега, и я опять должна была спрятать ноги в мешок, где в это время было уже довольно снегу, который я насорила туда, вставая.
Муж в это время шел на крик, который, как оказалось, раздавался из-под кошмы нашего Ивана; у него, бедного, замерзли ноги, так как мешка у него не было, и под кошму задувал ветер и нанесло снегу. Муж стал ему оттирать ноги снегом, затем пытался раздуть совсем погасший за ночь костер. Снег запорошил его, и мокрые дрова никак не хотели загораться. Урянхайцев не было: они ушли, как оказалось после, собрать разбежавшихся от непогоды лошадей.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ
НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ Маклай с нетерпением ждал времени, когда «Изумруд» бросит якорь в гавани Манилы на Филиппинах. Как нарочно, корабль подолгу задерживался в пути. Но зато Маклай получил возможность видеть города и население Молуккских островов. Он побывал в Тидоре —
Странствия великого спирита
Странствия великого спирита Уильям Теккерей, набычившись, заорал на издателя: «Гоните всех спиритов взашей, а тем более этого Дэниэла Хоума! Мало нам отечественных английских шарлатанов, так еще и из Америки едут!»Издатель тихонько вздохнул. Нельзя ссориться с самым
24 Конец странствия
24 Конец странствия Дай мне покой, его скорлупкой я укроюсь, И посох веры, на который обопрусь, Толику радости, бессмертья пищи, Бутылку, в коей я найду спасенье, И славы плащ, надежды истинный залог, — Тогда готов я в странствие пуститься. Сэр Уолтер Рэли В июне 1993 года
СТРАНСТВИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
СТРАНСТВИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ Летом 767 года Ду Фу навестил двоюродный брат Ду Гуань, приехавший с севера, из местечка Ланьтянь, и эта встреча вновь вызвала в поэте мысли о возвращении. Братья говорили о заброшенном фамильном кладбище, за могилами которого никто не следит, об
21. СТРАНСТВИЯ
21. СТРАНСТВИЯ Несколько месяцев я скитался по России. Проделал огромное расстояние от Баренцова моря до Каспийского. Пришлось побывать в больших городах и местечках, в отрезанных от внешнего мира деревнях. Ночи проводил на вокзалах, в городских парках, во дворах возле
Глава IV СТРАНСТВИЯ
Глава IV СТРАНСТВИЯ Куприн в Гатчине много и плодотворно работал. В газетах появляются рассказы из цикла «Листригоны». Он также работает над «Ямой». Но царская цензура не оставляет его в покое.В 1908 году Петербургский цензурный комитет постановил «возбудить судебное
Странствия Одиссея
Странствия Одиссея Ночью прошла гроза, и над давно не крашенной, в ржавых пятнах крышей соседнего дома растекался легкий парок. День снова обещал быть жарким, но в узком дворе, куда солнце заглядывало лишь на секунды, да и то искоса, за поленницами оставшихся с зимы,
Странствия, труды и будни
Странствия, труды и будни В начале жизни Из метрической книги Вознесенской церкви в Симбирске за июнь 1812:6 — рожд., крещ. 11. У симбирского купца Александра Иванова Гончарова — сын Иван. Восприемник надворный советник Николай Николаевич Трегубов. Молитвовал и крестил
НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ
НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ Ивану Константиновичу была нестерпима тишина родного дома. Некогда веселый, наполненный счастливыми голосами его девочек, дом теперь был молчалив и грустен.По-прежнему висели на стенах картины, по-прежнему каждое утро менялись цветы в вазах и по вечерам
Европейские странствия и впечатления
Европейские странствия и впечатления Григорий Петрович Данилевский. Из беседы с матерью Гоголя:– Ваш сын долго отсутствовал за границей?– Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.Михаил Петрович Погодин:По дорогам ехать с ним – новые хлопоты
Странствия по Европе
Странствия по Европе В июне 1884 года, в возрасте двадцати двух лет, Ризаль уже окончил университет со степенью кандидата медицины и оценкой «прекрасно». Через год, 19 июня 1885 года, он сдал выпускные экзамены по философии и литературе и получил ученую степень с оценкой
Посредине странствия земного
Посредине странствия земного «Уважаемый Магистрат! Благоволите выдать мне на немецком языке свидетельство об отсутствии средств, поскольку это свидетельство мне нужно для получения государственной артистической стипендии», — с таким прошением обратился Дворжак к
Глава II. Служебные странствия
Глава II. Служебные странствия Бах – придворный музыкант в Веймаре. – Переход на должность органиста в Арнштадте. – Отношение Баха к новым обязанностям. – Путешествие в Любек. – Столкновение с арнштадтским церковным начальством. – Новое переселение в Мюльхаузен. –