Post scriptum
Post scriptum


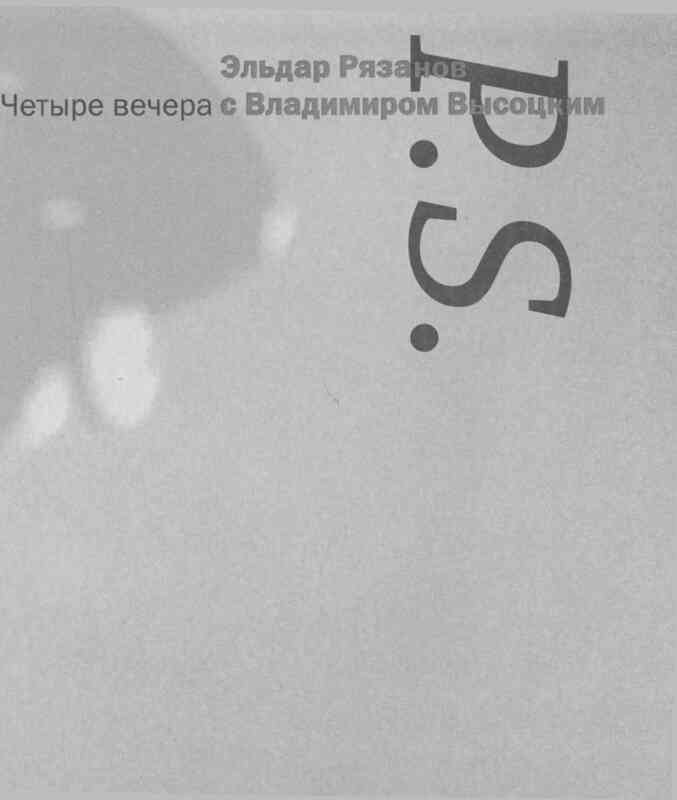





Весна 1997 года. Мастерская Шемякина на Гудзонщине;
Рязанов. Миша, вам, наверное, задавали этот вопрос не один раз — откуда у вас на лице эти шрамы?
Шемякин. Не с детства. Я вылезал на свет нормальным, не покалеченным ребенком.
Рязанов. Вы эти шрамы в один прием получили?
Шемякин. Нет, нет. Их много, и не только на физиономии. Ни для кого не секрет, что я изрядно служил когда-то Бахусу. А жил я в довольно мрачном районе, сейчас он стал модным, это район Сохо, Бликер-стрит, где собирались так называемые «Ангелы Ада». С ними бывали столкновения, потасовки. Но есть шрамы — следствие производственных травм в литейной мастерской. Это все не порезы, а ожоги. Но и драк было достаточно, больше чем достаточно.
Рязанов. А сейчас Бахусу служите? Уж раз вы сами заговорили про это?
Шемякин. Я много раз пытался бороться, обращался к врачам. Раз, наверное, девять зашивался, «торпедировался», потом снова срывался. Зашивались мы вместе с Володей Высоцким у одного и того же доктора.
А потом я понял, что слишком много краду от творческой жизни. Наконец решился и «завязал».
Рязанов. Раз уж вы упомянули имя Володи, нам не миновать этой темы. Я знаю, что вы храните гитару Высоцкого, это она? (И я показал на стену, где висела самая обычная гитара. Шемякин утвердительно кивнул.) Как она попала к вам? Я знаю, вы очень дружили, знаю, что после смерти Володи вы первым выпустили его семь пластинок, помогли издать в Америке его двухтомник…
Шемякин. Эту гитару Володя называл «наш рабочий инструмент». Когда в Париже мы встретились, то быстро подружились. Встреча с Володей — огромное событие в моей жизни. Я знал, что его песни не изданы на пластинках, что записи любительские с концертов очень плохие, с большими шумами, кашлями и прочими дефектами.
Я стал мечтать о том, чтобы записать качественно его песни. Володя тоже увлекся этой идеей. Было так: прямо из аэропорта он приезжал ко мне в мастерскую.
Я купил лучшую аппаратуру, несколько профессиональных магнитофонов, наушники, лучшую магнитную ленту. И мы начинали работать.
Миша Либерман, ставший потом основным инженером по созданию этих семи дисков, говорил, что иногда во время исполнения слышит шуршание бумаги. Просто новые свои песни Володя еще не успевал запомнить.
Он приезжал на запись с какими-то листочками. Ставил их на мольберт. В последние годы он не очень хорошо видел, надевал очки. Вид у него в очках был необычный. Рязанов. А вы работали звукооператором? Шемякин. Да. Была в общем-то самодеятельность. Но потом я удостоился похвалы высокопрофессионального звукооператора за техническое качество.
Рязанов. А после записи хорошо выпивали? Шемякин. Нет. Володя в те годы был уже тяжело болен. И те грандиозные запои, в которых нас обвиняют, из области легенд. Был однажды срыв. Результатом, правда, явилась блестящая песня «Французские бесы — большие балбесы».
ФРАНЦУЗСКИЕ БЕСЫ
Открытые двери
Больниц, жандармерий —
Предельно натянута нить.
Французские бесы —
Большие балбесы,
Но тоже умеют кружить.
Я где-то точно наследил,
Последствия предвижу:
Меня сегодня бес водил
По городу Парижу,
Канючил: «Выпей-ка бокал,
Послушай-ка гитары!» —
Таскал по русским кабакам,
Тце венгры да болгары.
Я рвался на природу, в лес,
Хотел в траву и в воду, —
Но это был французский бес) —
Он не любил природу.
Мы — как сбежали из тюрьмы,—
Веди, куда угодно,
Пьянели и трезвели мы
Всегда поочередно.
И бес водил, и пели мы,
и плакали свободно.
А друг мой — гений всех времен,
Безумец и повеса, —
Когда бывал в сознанье он,
Седлал хромого беса.
Трезвея, он вставал под душ,
Изничтожая вялость.
И бесу наших русских душ
Сгубить не удавалось.
А то, что друг мой сотворил, —
От Бога, не от беса, —
Он крупного помола был,
Крутого был замеса.
Его снутри не провернешь
Ни острым, ни тяжелым,
Хотя он огорожен сплошь
Враждебным частоколом.
Пить наши пьяные умы
Считали делом кровным, —
Чего наговорили мы
И правым и виновным!
Нить порвалась и понеслась, —
Спасайте наши шкуры!
Больницы плакали по нас,
А также префектуры.
Мы лезли к бесу в кабалу,
С гранатами под танки.
Блестели слезы на палу,
А в них тускнели франки.
Цыгане пели нам про шаль
И скрипками качали,
Вливали в нас тоску-печаль, —
По горло в нас печали.
Уж влага из грудей лилась,
Все чушь, глупее чуши,
Но скрипки снова эту мразь
Заталкивали в души.
Армян в браслетах и серьгах
Икрой кормили где-то,
А друг мой в черных сапогах
Стрелял из пистолета.
Набрякли жилы, и в крови
Образовались сгустки,
И бес, сидевший визави,
Хихикал по-французски.
Все в этой жизни — суета,
Плевать на префектуры!
Мой друг подписывал счета
И раздавал купюры.
Распахнуты двери
Больниц, жандармерий.
Предельно натянута нить.
Французские бесы —
Такие балбесы!
Но тоже умеют кружить.
Рязанов. Роскошное описание запоя. На уровне того же автора:
Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем,
Только помню, что стены с обоями…
Шемякин. «Французские бесы» дорого обошлись Володе. Марина закатила страшный скандал. Она прилетела в Москву. Володя ей с восторгом исполнил эту песню. Марина слушала, смеялась. Но когда прослушала до конца, сказала: «Я страдала, переживала. А в песне я даже не упомянута». Собрала чемодан и улетела обратно в Париж. Я потом долго их мирил, недели две. Но это был наш единственный совместный загул.
Рязанов. Как вы узнали о его смерти?
Шемякин. Я был в Греции, звонил ему домой, в Москву. Разговаривал с Мариной. Чувствую по голосам — что-то неладное. Но мне не сказали, что Володя умер. Ни у кого не повернулся язык. Боялись за меня, я тогда не был зашит. Узнал я от своей американской подруги. Она прочла во французской газете, что великий русский бард скончался. У меня была страшная ночь… Рязанов. В Москву путь был заказан?
Шемякин. Что вы! В то время я не смог поехать даже на похороны отца. Мой отец умер в семьдесят шестом году. Не пустили. Это исключалось… Года два, наверное, я не мог слушать Володины песни, никогда не включал магнитофон. Было слишком тяжело…
А потом, несколько лет спустя, я издал пластинки. Семь дисков получилось, огромных. Люди, которые собирают песни Высоцкого, считают, что это одни из лучших: там он, гитара и его душа.
Рязанов. Скажите, пожалуйста, Миша, вам не приходила мысль сделать памятник другу?
(Тут он деликатно уклонился от оценки разных памятников, похвалив при этом скульптуру Александра Рукавишникова, установленную на могиле поэта на Ваганьковском кладбище.)
Шемякин. Я никогда не делал Володю в скульптуре, даже не пробовал делать никаких эскизов.
Рязанов. В силу того, что он вам слишком близок? Я знаю, о близком друге трудно и писать, и, наверное, делать портреты, скульптуры.
Шемякин. Да. Единственное, я нарисовал восемь иллюстраций к книге его стихотворений.
Рязанов. Что вам дала эта дружба?
Шемякин. На ум приходят слова Корнеля: «Дружба с великим человеком — это дар богов». Я считаю, что этого дара я удостоился. Володя сыграл в моей жизни громадную роль, прежде всего как человек. Которого я любил и люблю по сегодняшний день. Человек необычайный, утонченный. Обычно думают, что Высоцкий — хулиган с гитарой под мышкой или же он чересчур импульсивный. Это бывало моментами. Особенно когда он уходил в загул. А у меня дома он надевал очки. И ночами сидел, рассматривал монографии или что-то читал. Многие книги в то время нельзя было раздобыть в России. Это были очень тихие вечера и ночи.
Рязанов. Имело для него значение то, что вы замечательный художник? Или все-таки ваша дружба возникла от человеческой совместимости? А то, что вы художник, имело второстепенное значение?
Шемякин. Он, конечно, любил мои работы. Однажды, когда я приехал в Америку на несколько дней по делам, Володя прилетел в Париж и очень расстроился, что меня не было. Остановился у меня и стал названивать мне в отель. Он впервые увидел серию моих литографий «Чрево Парижа». И после этого принялся названивать через каждый час и читать по телефону строфы своего стихотворения «Тушеноши», на которое его вдохновили мои картинки. Писал стихи, посвященные мне или каким-то моментам моей жизни, называл меня ласково «птичкой»…
А вообще-то он комплексовал по поводу своего места в поэзии. Однажды влетел ко мне после поездки в Нью-Йорк, держа в руках томик Бродского. И заорал: «А ты знаешь, что мне Бродский написал, вот почитай!» Там было написано: «Большому поэту Владимиру Высоцкому. Иосиф Бродский». И Володя был счастлив все эти дни.
Володя очень мучился от алкоголя. А последнее, что угробило его, — он перешел на морфий. Как мы с ним только ни пытались бросить пить, зашивались вместе, даже ездили к учителю Далай-Ламы. Отвезла нас туда Марина. И только в машине сказала, куда нас везут. Приехали в маленький буддийский монастырь под Парижем. Нам сказали, что наставник Далай-Ламы может помочь нам умным советом или своей необычайной силой духа. Попросили опуститься на колени. Так, на коленях, мы и вползли с Володей к иссушенному старцу в желтых одеждах, в монашеском облачении. Сидел он на подушках. Мы с переводчиком. Переводчик тоже на коленях. Перед нами вползло несколько французов, они задавали глобальные суперсложные вопросы. О пребывании души в теле или о переселении душ, что-то в этом роде. Старец давал сложные ответы. Мы с Володей были последними. Мы боялись немножко, что наш вопрос — как нам избавиться от зеленого змия, покажется ему мелким. Но как ни странно, старичок очень оживился. Стал размахивать маленькими ладошками и рассказывать притчу, которую я уже слышал в православных монастырях. Одному монаху предложили совершить преступление. По притче он обязан был выбрать, какое именно. Он выбрал якобы самое безобидное — пьянство. А по пьянке совершил все те страшные преступления, от которых хотел отказаться. Наставник еще сказал, что будет за нас молиться. Повязал желтые ленточки мне и Володе. Смотрел на нас как-то ласково, с сочувствием. Когда мы уже собирались обратно уползать, он сказал, мол, вообще-то маленькая стопочка не вредит, она как-то веселит и успокаивает. Старичок не знал, что для нас маленькая стопочка — это как для акулы глоток крови.
Ее потом не остановишь. Володя держался некоторое время. И я держался. Иногда Володя звонил и спрашивал: «Как старик? Действует?» — «Действует, действует». Потом я раз сорвался, но соврал ему, что, мол, действует старик, действует. А однажды Володя позвонил из Москвы явно под сильным газом. Зарыдал и сказал: «Нет, Миша, старик, видно, забыл нас. Не действует».
Рязанов. От этой истории кровь стынет в жилах.
(Мы оба похихикали.)
Осень 1996 года. Наша съемочная группа приехала в небольшой городок Мезон-Лафит, что в тридцати минутах езды от Парижска. Так Владимир Высоцкий любил называть прекрасную столицу Франции. Я не случайно заговорил о Владимире Семеновиче. Ибо позади меня находится дом Марины Влади.
Старшее поколение наших зрителей помнит Марину Влади как замечательную «Колдунью» из франко-шведского фильма, поставленного по повести Куприна «Олеся». Тогда Марина Влади буквально ворвалась в нашу жизнь.
В те годы многие наши девушки стали копировать ее прически и ее пластику. Загадочная, с таинственным прищуром глаз блондинка действительно сводила с ума очень многих. А для людей среднего поколения Марина Влади — жена нашего великого поэта, певца, актера — Владимира Семеновича Высоцкого.
Сейчас у нее третий период, я бы его назвал «пост-Высоцкий». Об этом мы знаем значительно меньше.
Я хочу, чтобы вы получили представление о Марине Влади не только как о жене Высоцкого, не только как о русской, живущей во Франции, а как о крупной актрисе французского кино. Вы, верно, знаете, что она русского происхождения. Что «Влади» — ее псевдоним, — сокращенное от Владимировны. Вообще-то она Марина Владимировна Полякова.
Мы звоним в калитку. Открывает сама Марина.
Мы входим на лужайку перед красивым двухэтажным домом. Прыгают, гавкая, три дружелюбных пса. Здороваемся с хозяйкой, обмениваемся приветствиями. Я дарю Марине Владимировне видеокассеты с моей четырехсерийной телепередачей о Высоцком, которая вышла еще в январе 1988 года, пластинки.
В это время с улицы на лужайку вошел невысокий пожилой человек с портфелем в руках. Проходя мимо нас, он поклонился. Марина остановила его и стала нас знакомить. Мы поняли, что это ее муж, знаменитый доктор, онколог, бывший министр здравоохранения, отважный общественный деятель. Нам как обывателям, конечно, было интересно поглазеть, кого выбрала Марина Влади после Высоцкого. Она, верно, тоже это почувствовала и отрекомендовала его весьма странно.
Влади. Это мой компаньон жизни Леон Шварценберг…
Мы. Очень приятно.
Влади. Знаменитый онколог, с которым я живу уже несколько лет…
Мы. Очень приятно.
ЛЕОН ШВАРЦЕНБЕРГ. Мне очень приятно с вами познакомиться…
Мы. И нам очень приятно…
После обмена несколькими любезными фразами хирург-онколог удалился в дом, а хозяйка пригласила нас попить чайку. Дальше беседа продолжалась за самоваром, купленным в Ницце, который служил реквизитом в «Трех сестрах», а теперь в него наливают кипяток и ставят на стол во время чаепития.
Влади. Однажды Сергей Юткевич мне предложил роль Лики Мизиновой. А я обожаю Чехова.
Это мой любимый писатель и драматург. Я часто играла Чехова в театре и в кино тоже. Я сразу сказала: «Да». Я не знала тогда, что после этого буду двенадцать лет жить в России. Я снималась год, и за это время Володя Высоцкий стал моим любимым человеком, стал моим мужем.
Рязанов. Я видел, у вас на стене в рамке под стеклом висит его последнее предсмертное стихотворение. Это жуткая традиция наших поэтов. И Есенин оставил перед смертью, и Маяковский, и Высоцкий…
Влади. Я его только после смерти нашла. Оно у него было в бумагах, где все было зарыто, разрыто. Очень повезло, что я его нашла.
Рязанов. Мы приехали, чтобы сделать передачу о вас, но все время разговор переходит на Володю. Впрочем, Высоцкий — большая глава вашей жизни.
Влади. Это самая главная глава. И так останется. Володя со мной все время. Все случилось как будто вчера. Для меня ничего не отошло, ничего не стерто, ничего.
И переживания, и то, что его не хватает. Когда открывали памятник, я не могла поехать и послала слова, которые хотела бы произнести. Написала о том, как его не хватает сейчас России. Не хватает, чтобы описать трагедию народа. Он мог и что-то дельное предложить. Володя был удивительный ясновидец. Его стихи, написанные двадцать-тридцать лет назад, — это же о сегодняшних страданиях народа, о сегодняшних его бедах. А ведь при жизни не было ни одного афишного концерта.
Но произошло главное — он стал частью нашей культуры, нашей жизни. Так же, как Есенин или Маяковский…
Так вот, о страданиях людей. Я недавно была в Одессе, снималась там…
Рязанов. Вы бывали там раньше с Высоцким?
Влади. Да. Он там много снимался. Мы очень часто жили в Одессе. Оттуда улетали, уезжали поездом, уплывали пароходом. Между прочим, и в свадебное путешествие на теплоходе «Грузия». Но в последний раз Одесса меня просто потрясла… Я жила в России двенадцать лет, но никогда не видела детей, которые роются в помойках. А сейчас я это видела. И для меня это такой ужас, такой стыд! Не могу этого простить.
Рязанов. На правах давнего знакомства еще один, пожалуй, щекотливый вопрос. Русский менталитет — особенный менталитет. После того, как погиб Джон Кеннеди, у нас многие осуждали Жаклин, которая не осталась верна его памяти и вышла замуж за Онассиса. Хотя, казалось бы, какое нам дело до американского президента и его вдовы? А Володя Высоцкий для нашего народа куда больше, чем любой президент. И вдруг женщина, которую он обожал, которой посвящал стихи и так далее… Вы понимаете, что я имею в виду.
Влади. Конечно, понимаю. И совершенно спокойно отвечу на ваш невысказанный вопрос. Речь идет о Леоне Шварценберге, так ведь?.. Когда я осталась без Володи, мне было сорок два года. Жизнь продолжалась, я ведь не умерла. И через какое-то время, то есть через три года я встретила человека, который совершенно другой. Он старше меня на пятнадцать лет, он полюбил меня и смог помочь мне — я ведь пережила ужасную трагедию, потеряв Володю. Леон дал мне возможность жить и работать, и чувствовать себя нормальной женщиной.
Когда Володя умер, я снималась в фильме, который назывался «Сильна, как смерть», по Мопассану.
Я улетела на два дня в Москву на похороны, а потом продолжались съемки.
Я стала работать, как сумасшедшая. Все, что мне предлагали, я брала, брала, брала. Но так получилось, что я встретила этого человека, именно этого. Думаю, что никто другой не мог бы мне так помочь. Леон известный врач, профессор-онколог, но он еще и общественный деятель. Очень много работает в области социальных проблем. Он был министром здравоохранения Франции. Занимается политикой. Он — личность. И я очень горжусь тем, что я рядом с ним. Сейчас он защищает бездомных людей. Эти несчастные взламывают двери пустующих домов и занимают их. Леон в гуще событий.
Его бьют полицейские, а ведь ему все-таки семьдесят три года. Он очень храбрый. Считаю, что, живя с человеком таких высоких моральных качеств, я не оскорбляю Володю. Наоборот!
Рязанов. Расскажите мне о вашей книге «Владимир, или Прерванный полет».
Влади. Володя мне часто говорил: «Ты должна писать. Когда-то. ты будешь писать, я уверен. Ты мне пишешь такие письма… У тебя есть литературный дар». А я говорила: «Ты знаешь, я и пою, и снимаюсь, и играю в театре… Хватит».
Но в восемьдесят пятом году я решила, что надо рассказать правду о Володе. О том, как мы жили с ним, что он пережил, почему умер в сорок два года. И я написала книгу «Владимир, или Прерванный полет».
Эта книга открыла мне путь в литературу.
Рязанов. А вы не думали издать когда-нибудь вашу переписку с Володей? Когда-нибудь?
Влади. Тут есть одна большая сложность — все мои письма исчезли. Все Володины письма, естественно, у меня дома. Но мои письма исчезли. Когда Володя умер, многие вещи, к сожалению, исчезли из дома. Среди них — мои письма. Они всплывают иногда… Бывает, что мы покупаем пачки моих писем.
Меня ведь обвинили, что я продала все рукописи Володи. Но не будем говорить про гадкое прошлое. Все, что было написано Володей, я сдала, как вы знаете, в ЦГАЛИ (теперь РГАЛИ. — Э.Р.). Все, кроме его писем, написанных мне. Их я пока не сдала. Но обещала девочкам из архива, что когда-нибудь отдам и письма…


Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Post scriptum об Аврааме Васильевиче
Post scriptum об Аврааме Васильевиче Как я и думал, писем Толстого к Аврааму Юшко оказалось не два. Другие, конечно, затерялись — об этом что говорить… Слава Богу, хоть ниточки иных преданий не вовсе истёрлись. А утраченные письма к Юшко тоже нашлись в «юбилейном» собрании Льва
Post scriptum к законченной главе о поселковом прокуроре
Post scriptum к законченной главе о поселковом прокуроре Увы, не смог я удержаться и вот к законченной главе прилаживаю прибавление на ту же, как мне показалось, тему. Это просто высказывание одного российского лица, а чьё же именно, скажу потом. Высказывание вот какое:— Мы
II POST SCRIPTUM
II POST SCRIPTUM Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим, другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить,
Post Scriptum
Post Scriptum Прошло около пятнадцати лет. В июне 2010 года в Музее изобразительных искусств им. Пушкина состоялся вечер, посвященный столетию со дня рождения Лидии Николаевны Делекторской. Выступали директор музея И.А. Антонова, научные сотрудники музея, друзья, племянница
POST SCRIPTUM
POST SCRIPTUM И всё же универсам № 30 ещё раз всплыл в моей жизни. Шла осень 1989 года. Советская власть ещё существовала, но уже клонилась к упадку, и все наслаждались свободой. Как раз в это время в Болгарии в славном городе Бургас проходил «Орфикон», и я, как один из авторов
Post-Scriptum
Post-Scriptum До недавнего времени мне не приходилась даже слышать о том, чтобы на местах других лагерей смерти были сделаны находки наподобие тех, что были обнаружены в Аушвице. Но, как выясняется, записки на идиш были найдены и в других местах, по меньшей мере в Майданеке[514] и в
Post scriptum
Post scriptum В «Литературной газете» 5 октября т. Сергиевский[1240], стяжавший лавры Герострата в качестве редактора, собравшего в пушкинском сборнике «Литературного наследства» ряд статей, в которых Пушкин характеризовался как лакей и предатель, неожиданно выступает ныне в
POST SCRIPTUM
POST
POST SCRIPTUM Мой прадед дружил со Сталиным
POST SCRIPTUM Мой прадед дружил со Сталиным Пролетарский Баку К началу ХХ века, в связи с бурным развитием нефтяной промышленности, среди крупнейших индустриальных центров Закавказья выделился Баку. Именно в ту пору появилась байка: «В Баку можно заработать, в Эривани —
POST SCRIPTUM К СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКЕ
POST SCRIPTUM К СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКЕ Когда в разверстую, залитую яркими весенними лучами солнца могилу опускали гроб отца, Константин Сергеевич как будто и не осознавал отчетливо, что происходит. Он стоял около матери и неподвижным взглядом смотрел перед собою, отрешенный от
POST SCRIPTUM. ДЕКАЛОГ СВОБОДЫ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА
POST SCRIPTUM. ДЕКАЛОГ СВОБОДЫ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА …Мы можем сказать, как не надобно, мы можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль… А. И. Герцен «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа».«В себе самом
Post scriptum
Post scriptum Весна 1997 года. Мастерская Шемякина на Гудзонщине;Рязанов. Миша, вам, наверное, задавали этот вопрос не один раз — откуда у вас на лице эти шрамы?Шемякин. Не с детства. Я вылезал на свет нормальным, не покалеченным ребенком.Рязанов. Вы эти шрамы в один прием
Post scriptum Ольги Александровны
Post scriptum Ольги Александровны «Дорогой мой, душевный друг! Стыжусь, как давно не писала. Путешествия, попытки прирасти к дому, снова санаторий… Силы появились, но их недостаточно. Быстро устаю и много времени провожу в горизонтальном положении. Не только писать или
POST POST SCRIPTUM
POST POST SCRIPTUM Среди известных фотографий и портретов Федора Сологуба есть говорящие, запечатлевшие не только его внешность, но и черты внутреннего облика. Эти изображения как нельзя лучше передают динамику его личности, позволяют превозмочь прочно вошедшее в наше сознание