Глава шестая Друкарь из Москвы
Глава шестая
Друкарь из Москвы
Иван Федоров поселился в львовском предместье. Предоставив юношам разбирать имущество и устраивать новый очаг, он стал целые дни проводить в городе.
У него имелись типографские принадлежности, но нужны были еще средства на бумагу, на расходы по установке типографии, на помещение, наконец, на жизнь, пока будет печататься первая книга.
Он был убежден, что львовские купцы охотно дадут ему денег: дело его верное, книги нужны, их, конечно, скоро раскупят; купцы ничего не потеряют, если помогут ему.
И в самом деле, его всюду хорошо принимали. Имя Ивана Федорова уже было известно благодаря заблудовским изданиям. Он приносил их с собой вместе со своими книгами московской печати.
Купец рассматривал эти книги, сидя в своей богатой горнице, окруженный роскошью, которой завидовали многие заносчивые паны, и, пока купец читал послесловия московского «Апостола» или заблудовского евангелия, Иван Федоров с надеждой обращал свой взор на поставцы с золотой и серебряной посудой, на развешанное по стенам оружие, украшенное драгоценностями, на затейливые шкатулки, в которых хозяева хранили перстни, ожерелья, кораллы и жемчуг. Вся эта роскошь внушала надежду, что хозяин согласится со своим гостем и даст ему денег на книжное дело.
Но радушный хозяин, просмотрев книги, возвращал их Ивану Федорову, а когда тот заговаривал о своей нужде, лицо хозяина становилось ласково-печальным, купец начинал ссылаться на трудные времена, на убытки, которые он недавно потерпел, и чем горячее старался Федоров доказать пользу и важность своего дела, чем настойчивее убеждал хозяина не только в выгоде, но и в великом значении печатного дела, тем холоднее делалось лицо хозяина. И так во всех домах, куда только ни приходил Федоров.
Вдобавок, он еще не умел взяться за дело. Начиная рассказывать о своей типографии, он увлекался и, вместо того чтобы подчеркивать перед купцом прибыльность дела, произносил страстные речи о том, как оно служит народу, помогает ему в борьбе за свою самостоятельность. Купцы слушали воодушевленного, самозабвенного энтузиаста и, конечно, не решались доверить деньги такому чудаку.
А Федоров с горестью и недоумением смотрел на богачей, не понимая, как могут они отказать в поддержке такому важному делу, тем более, что поддержка эта почти ничего не составляет для них: на ненужную, бесполезную роскошь они тратят в десятки раз больше.
Так ничего и не добился Иван Федоров у львовских купцов. Он обратился к высшему духовенству, надеясь здесь найти больше понимания. Ведь его книги предназначены для русских церквей, в деятельности которых православные священники должны были быть заинтересованы, однако и здесь не получил помощи. Он добился только того, что некоторые священники оповещали о его деле в церквах и убеждали прихожан помочь ему. Но и призывы оставались без ответа.
Тогда Федорову пришлось действовать самостоятельно. Он обратился к простым людям, таким же беднякам, как он сам, и у них встретил сочувствие и поддержку. По грошам наскреб он небольшую сумму и приступил, наконец, к работе. Но тут он столкнулся с новыми препятствиями. Надо было нанять столяра, чтобы оборудовать типографское помещение. Это оказалось не так просто.
Во Львове сильны были средневековые цеховые порядки. Столярные мастера состояли в цехе, а подмастерья, ученики, среди которых было немало уже взрослых и достаточно опытных столяров, должны были работать только у этих мастеров, не имели права выполнять никаких заказов на сторону. По тем же цеховым законам Федоров не мог также держать у себя столяра, и на этой почве у него сразу произошел спор с местным цехом.
26 января 1573 года Федорову пришлось предстать перед советом города Львова, где разбирался спор. Совет стал на сторону цеха, запретил Федорову держать столяра и производить столярные работы. Было разрешено нанять столяра у записанного в цех мастера, но цех и на это не дал согласия.
Ни в Москве, ни в Заблудове не было цехов. Федоров не имел о них понятия. Впервые он столкнулся во Львове с цеховыми законами, и эти законы препятствовали его деятельности.
Только почти через год, в декабре 1573 года, совет разрешил, наконец, Федорову вызвать из какого-нибудь другого места столяра, но обязал записать его к цеховому мастеру, от которого потом и нанять на полгода. Это, конечно, стоило гораздо дороже: Федоров должен был платить цеховому мастеру деньги ни за что ни про что. Но и такой столяр имел право изготовлять только одни типографские принадлежности и не смел выполнять для типографии (ни в ней, ни вне ее) обычной столярной работы — ни столов, ни скамеек, ни сундуков, шкафов, дверей и т. п. Однако и это не удовлетворило заправил цеха. Федорову приходилось все время преодолевать ограничения и препятствия, терять время и покой.
В такой обстановке Иван Федоров приступил 25 февраля 1573 года к печатанию первой на новом месте книги. В эти дни как раз исполнялось десять лет с тех пор, как он в Москве, на государевом Печатном дворе начал работу над первопечатным «Апостолом».
Изгнанный из Москвы преследованиями бояр и князей церкви, страдающий в скитаниях по незнакомому краю, Федоров насмотрелся здесь на еще более страшные страдания простого народа, крепостных крестьян. Он узнал равнодушие богатых, тупую злобу и вражду привилегированных цеховых мастеров. Каждый шаг в своем любимом деле он должен был делать, только преодолевая сопротивление и препятствия. И, оглядываясь на пройденный путь, Иван Федоров решил поведать о нем всему миру, Недаром владеет он могучим искусством размножать правдивое слово и сеять его в сердцах людей. Пусть же узнают люди о злых начальниках, о бездушных богачах, о невеждах и клеветниках, о всех, кто не хочет пустить книгу в народ, кто преследует честных людей, трудящихся на общее благо. Обо всем этом расскажет он, книгопечатник, с помощью своего искусства.
И Иван Федоров выбрал для издания ту самую книгу, первопечатный «Апостол», которая начала собой официальную деятельность Московского печатного двора.
Он снова, в изгнании, напечатал этот «Апостол», точь-в-точь, слово в слово по московскому изданию, но приложил к нему свое послесловие.
Львовский «Апостол» вышел в феврале 1574 года, через десять лет после выхода первопечатной книги в Москве.
Послесловие открывалось краткой историей типографии. Первопечатник считал, что она возникла не во Львове и даже не в Заблудове. Начало своей львовской типографии он видел в Москве: «…друкарня сия составися в царствующем граде Москве, в лето 7071 (1563)…»
Он подчеркивал, таким образом, непрерывность, единство всей своей печатной деятельности, начиная с первого дня и до последнего момента. Пусть его московские ученики уже через два-три года забыли (или хотели забыть) о первой типографии, пусть они в своем послесловии к книге, напечатанной в Москве в 1568 году, утверждают, что их типография «составилась» именно в этом году, пусть ни словом не обмолвились они ни об Иване Федорове, ни даже о Макарии, — Федоров в своем львовском послесловии напоминает о подлинных основателях первой русской типографии.
«Сия же убо не туне начах поведати вам…» обращается Иван Федоров к читателю и рассказывает о «презелном озлоблении», которое случилось ему и Мстиславцу не от государя, но от многих начальников и священноначальников и учителей. Эти гонители «зависти ради многие ереси на нас умышляли, хотячи благое во зло превратити и божие дело в конец погубити». Клеветники и невежды преследовали книгопечатников: «Обычай есть злонравных и ненаученых, и неискусных в разуме человек, ниже грамотические хитрости навыкше, ниже духовного разума исполнени бывше, но туне и всуе слово зло пронесоша». (Подлинный текст послесловия дан в приложении к этой книге. — И. Б.)

Послесловие Ивана Федорова к «Апостолу» 1574 года.
Иван Федоров безусловно был прав в оценке своих врагов, как людей «ненаученых» и даже прямо безграмотных; сам он, несомненно, стоял неизмеримо выше их и в нравственном, и в культурном отношении. Эта резкая, но правильная оценка исходила из уст человека скромного, отнюдь не склонного преувеличивать свои силы и достоинства: он сам в том же послесловии просит исправить его ошибки, если они окажутся в книге, ибо, говорит книгопечатник, он тоже мог ошибиться.
Но его московские гонители неспособны были обнаружить подлинные ошибки. Невежество и пороки духовенства поражали посещавших Россию иностранцев:
«…У русских очень много духовных лиц. Как они коверкают и путают евангелие с другими частями святого писания, — это, по слухам, удивительно. Что касается разврата и пьянства, то нет в мире подобного, да и по вымогательствам это самые отвратительные люди под солнцем. Судите теперь о их святости. У них вдвое больше земли, чем у самого великого князя, но по отношению к ним он действует умеренно. Когда они обирают простых людей и бедняков, он получает часть».
Так писал англичанин Ричард Ченслор, посетив Россию в 1553–1554 годах. Его характеристика целиком приложима и к гонителям первопечатника. Они действовали из ненависти к новому, они измышляли наветы из злобы и зависти, даже сами не разумея смысла своей клеветы: «Такова бо есть зависть и ненависть, сама себе наветующи, не разумеет, како ходит и о чем утверждается…»
И с горечью упрекает Иван Федоров своих гонителей в том, что они изгнали его из отечества: «сия убо нас от земли, и отечества, и от рода нашего изгна и в ины страны незнаемы пресели». Далее следует рассказ о том, как попали печатники к Григорию Ходкевичу, «любезно принявшему» их, и как вынужден был оставить его Иван Федоров и пуститься в новые скитания.
Рассказал он и о своем путешествии во Львов: «И в путь шествующу ми, многи скорби и беды обретоша мя, не точию долготы ради путного шествия, но и презелному поветрею дышущу и путь шествия моего стесняющу и, просто реши (сказать), вся злая и злых злее».
И лишь попав во Львов, Иван Федоров вздохнул легко: все, что он перенес, «сну подобно и сени, преходят бо; яко же бо дым на воздусе благая и злая расходятся». Сын своего века, Иван Федоров, придя во Львов, творит молитву. Но и молится он только о своем любимом деле. Он просил не отнимать у него словес истинных, дать ему возможность распространять эти словеса в его печатных книгах.
После этого он обратился к местным богачам: «И обтецах (обходили) многащи богатых и благородных в мире, помощи прося от них и метание сотворяя, коленом касаяся и припадая на лицы земном, сердечно каплющими слезами моими ноги их омывах, и сие не единою, ни дващи, но и многащи, сотворях… не испросих умиленными глаголы, ни умолих многослезным рыданием… и плакахся прегоркими слезами, еже не обретох милующего, ниже помогающего, не точию же в русском народе, но ниже в греках милости обретох…» И только «инии неславнии в мире» и некоторые «малые в иерейском чину», то есть из низшего духовенства, помогли Федорову вопреки отношению высших духовных чинов.
Такова «вкратце списаная история» страданий и мытарств первого русского книгопечатника. В ней нет ничего вымышленного. Все позднейшие исследования не опровергли ни одного утверждения Федорова. Наоборот, документальные данные подтверждают правильность сообщенных им фактов. Так летопись Супрасльского монастыря, мимо которого лежал путь книгопечатника из Заблудова во Львов, также упоминает, и именно под 1572 годом, о страшной моровой язве, от которой вымирали целые села.
Львовское послесловие написано сильным и уверенным языком опытного литератора. Оно лишний раз подчеркивает, что Иван Федоров был не просто ремесленником, а высокообразованным, культурным человеком, стоявшим на уровне передовых идей своего времени.
Для его послесловий (и этого, и в первопечатной книге 1564 года) характерны конкретность содержания, насыщенность яркими фактами, взятыми из самой жизни, изложенными сжато, но ясно и энергично. Этим своеобразным реализмом они выгодно отличаются от туманных и малосодержательных, но зато перегруженных церковной мистикой послесловий в книгах, появившихся в Москве после Ивана Федорова. Чтоб убедиться в этом, достаточно прочитать для сравнения, как типичный образец, послесловие из книги, напечатанной в 1587 году, уже при сыне Ивана IV, царе Федоре Ивановиче:
«Всяко даяние благо и всяк дар совершен, сходяй свыше от отца светом; свет же есть истинный Христос бог наш, иже сый сияние славы отча и образ ипостаси его, нося же всяческая глаголом силы своея, собою очищение грехов наших сотворив, и седе одесную престола величествия на высоких, и оттуду всем полезная подавая, и всякое исполнение исполняя, озаряя и просвещая всякого человека, грядущего в мир, якоже и сам рече: аз есмь свет миру и ходяй по мне не имать ходити во тме, но имать свет животный. Той свет истинный, слово божие и сын отечь, воссия молнию светолучныя благодати в сердцы благочестивого царя нашего и государя великого князя Феодора Ивановича, всея Русии самодержьца, дабы царство его исполнилося божественных книг печатных: и повелением его великого государя благочестивого царя, и благословением преосвященного Иова митрополита всея Русии начата бысть печатати в богохранимом и царствующем граде Москве…» и так до конца, все в том же духе. Ничего подобного нет в послесловиях Ивана Федорова.
Львовский «Апостол» Ивана Федорова был отпечатан так же тонко и искусно, как и все его работы.
Шрифты для этой книги были изготовлены по формам (пунсонам или матрицам), привезенным из Москвы. Украшения также были из московской типографии. Даже рамка на гравюре Луки была московская, только самое изображение Луки было вырезано заново. Наконец, в львовском издании точно совпадали с первопечатным «Апостолом» начало и конец каждой страницы.
Кроме послесловия, львовское издание отличается от первопечатного красиво исполненным рисунком в конце книги. Левая сторона рисунка изображает герб города Львова; правая — книжный знак Ивана Федорова.
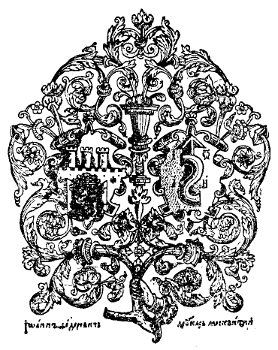
Соединенный книгопечатный герб Ивана Федорова и города Львова.
Что хотел выразить первопечатник своим книжным знаком или гербом? Одни находят в нем подражание книжному знаку Альда Мануция, который изобразил дельфина и якорь: с дельфином будто бы сходна изогнутая полоса в гербе Федорова, а с якорем — венчающий ее наконечник стрелы; другие видят в изогнутой полосе извив реки, а в стреле — угольник, необходимое орудие при изготовлении букв.
Изображение реки, по мнению некоторых толкователей, должно было напоминать древнее русское изречение: «Книги суть реки, напояющие вселенную…» А угольник мог служить эмблемой типографского искусства или в качестве стрелы указывать на его назначение — широко распространять просвещение.
Сам Федоров не оставил толкования своего книжного знака. Во всяком случае, появление его в книге, изданной Федоровым в собственной типографии, говорит о стремлении Федорова определить, подчеркнуть и сохранить свое самостоятельное лицо, как книгопечатника.
Этот герб появляется и в его последующих работах, с его именем и со словами: «Печатник из Москвы».
Иван Федоров был редкий мастер, художник книгопечатного дела и мог бы, конечно, извлечь из него большие личные выгоды, если бы взялся вместо русских книг печатать польские, если бы поставил свое печатное искусство на службу панам. Как раз в это время он мог наблюдать, как процветает в Польше ловкий деляга типографщик Шарфенберг, который сумел сделаться типографом королевской канцелярии, получить кучу привилегий, даже освободиться от обычной подсудности городским властям.
Но все эти блага не прельщали Ивана Федорова, он был и оставался до конца своей жизни русским печатником — Impressor Ruthenus, как именовал он себя в официальных бумагах и документах. При этом он вовсе не был узким сектантом, ограниченным человеком. Он быстро приспособился к новым условиям; в своих книгах не стеснялся употреблять слова, взятые из польского, свою типографию он уже называет друкарней; он принял (впоследствии) заказ польского правительства на отливку пушки, когда Польша заключила мир с Россией. Но свое книгопечатное дело он никогда не ставил на службу никому, кроме своего народа.
Книга была отпечатана. Надо было браться за новую работу. Чтобы выбиться из нужды, теснившей со всех сторон, приходилось упорно и беспрерывно трудиться. Надо было вновь доставать бумагу и печатать новые книги. Средства на это можно было выручить от продажи первой книги львовской типографии. Но книги не продаются так быстро. Нужно время, чтоб их распространить. Нужно терпеливо ждать, пока они снова превратятся в деньги. Но Федоров не мог позволить себе роскошь бездейственного ожидания. Ему нужны деньги немедленно, чтобы приобрести материалы и начать работу снова. Он обращается к ростовщикам. Теперь дело уже внушает доверие настолько, чтобы ссудить ему деньги под ростовщические проценты: в крайнем случае, всегда ведь можно забрать за долги книги и типографское имущество.
Торговцам же он поручает и продавать свои книги. Прежние переписчики книг могли работать непосредственно на отдельных лиц, выполнять частный заказ. Ивану Федорову приходится отдавать свои книги купцам, и те, конечно, не упускают случая положить в карман значительную часть вырученных денег. Они наживаются на его тяжелом труде. Через три месяца после отпечатания «Апостола», 12 мая 1574 года, Федоров уже уполномочил своего соседа Кассиана взыскать с некоего Ивана, очевидно купца, тридцать два злотых за взятые у него книги.
В том же месяце Федоров берет взаймы у соседа Сеньки Седельника (Сидляра) семьсот польских злотых. Деньги большие. За десять злотых можно было купить хорошую рабочую лошадь. Ссуда дана была на восемь месяцев под залог типографии. Ростовщик Сенька Седельник, судя по его прозвищу, был, видимо, разбогатевший ремесленник, выбившийся в купцы. Оказывая соседскую услугу Ивану Федорову, он опутывал его ростовщическими сетями.
Во Львове Федоров продолжал обучать Гриня. Научив всему, что умел сам, — художественно отливать шрифты, тонко полировать каждую букву, — он отдал Гриня в ученье другим мастерам и, несмотря на собственную нужду, ухитрялся выкроить средства, чтобы платить за обучение своего помощника. Благодаря Федорову Гринь усвоил еще малярное и столярное дело.
У соседа Сеньки Седельника был сын Сашка. Он тоже интересовался делами печатника. Но его привлекало не самое ремесло, не искусство книгопечатания. Он все высчитывал, сколько можно заработать на напечатанных книгах, где и кому можно их продать. Сашка был в курсе всех денежных счетов отца с Федоровым и быстрее его мог в любой момент вычислить, сколько уже должен уплатить печатник за полученную ссуду. Он очень скоро сообразил, что дело Федорова выгодное, но что самому печатнику, постоянно занятому в мастерской, не шныряющему по базарам и ярмаркам и не умеющему завязать нужные знакомства, не сбыть своего товара и не обойтись без посредничества.
Про себя Сашка решил не отставать от печатника, при котором можно поживиться. И он всегда вертелся возле Федорова, интересовался его делами, лез в дружбу, приводил покупателей на книги, не забывая при этом, конечно, собственной выгоды.
Очевидно, Федоров еще что-то напечатал в своей львовской типографии, но, что именно, неизвестно: другие книги из его типографии до нас не дошли, остались лишь глухие намеки в городских бумагах.
Ивану Федорову не удалось поставить дело на прочную материальную базу. Типография не только не приносила дохода, несмотря на очевидную выгодность этого предприятия, но даже не возмещала расходов. Книгопечатник все более запутывался в долгах и скоро убедился в полной невозможности вести так дело дальше.
В это тяжелое время Иван Федоров получил приглашение от князя Острожского устроить типографию в его имении.
Имя Острожского было знакомо Федорову. Константин Острожский вместе с Григорием Ходкевичем боролся против Люблинской унии в 1569 году. В последние годы о нем все чаще говорили, как о защитнике православия, человеке, ненавидящем иезуитов и борющемся против ополячения. С этой же целью хотел он завести и типографию. Иван Федоров принял предложение. Типографию и книги он оставил сыну и покинул негостеприимный Львов.
События в Юго-Западной Руси за время пребывания там Ивана Федорова нарастали с необычайной быстротой. Со времени Люблинской унии польские паны приобретали все большую власть, оттесняя литовских магнатов. Но особенно усилили они притеснения в Юго-Западной Руси. Пособниками и вдохновителями польских панов и короля Польши оказались иезуиты.
Иезуитский орден, основанный лет за двадцать до описываемых событий, имел своей целью распространение католичества всюду, где это представлялось возможным. При этом открытую проповедь своих взглядов иезуиты считали последним и наименее ценным средством. Они предпочитали более «верные» пути: обман и шарлатанство, лицемерие, шпионаж и, наконец, грубое насилие, как только перевес оказывался на их стороне.
Иезуиты появились в Польше около 1565 года.
Иван Федоров, прибыв в Юго-Западную Русь, мог видеть первых иезуитов. Но они держались тогда еще скромно, не выдавая своих замыслов. Они только втирались в доверие и старались быть ласковыми со всеми.
Мы увидим дальше, какими гнусными средствами достигали они осуществления своих планов. А планы их в Юго-Западной Руси заходили очень далеко. Папа римский и польский король пытались ввести католичество в России, рассчитывая таким путем завладеть страной, которую невозможно было победить силой оружия.
Так, польский король Стефан Баторий, захватив в войне с Россией город Полоцк и не надеясь удержать его долго силой оружия, поспешил призвать на помощь иезуитов. В письме к ним он писал: «Зачем вам ездить в Индию и Японию с пропагандой? Есть ближе земля русская, именно город Полоцк, где народ невежествен в делах божиих…» Виды поляков простирались гораздо дальше одного Полоцка. Они подсылали иезуитов и к Ивану IV. Но в России легко раскусили иезуитские замыслы и их подоплеку. Потерпев здесь неудачу, иезуиты решили, что для успеха в России им нужно начать с Юго-Западной Руси, благо население находится во власти польских панов, его можно силой заставить принять католичество; а тогда через него можно будет начать влиять и на остальной русский народ.
Иезуиты стремились навязать юго-западному населению новую веру именно для того, чтоб ополячить его, целиком подчинить польскому королю и польским панам. Они убеждали польского короля, что католическая вера есть та единственная сила, с помощью которой можно завоевать и держать в покорности царства и народы. И король, конечно, не заставил себя долго убеждать. Он предоставил иезуитам крупнейшие средства и привилегии за их помощь в ополячении южнорусского населения.
Иезуиты не могли скрыть своей ненависти к русскому народу, ко всему русскому. Они высмеивали все его обычаи и обряды, как, например, брак священников.
Иезуит Скарга, восхваляя безбрачие католического духовенства, писал в 1577 году: «Брак сделал в Руси то, что священники омужичились». Но еще большее зло он видел в русском языке: «Еще хуже то, — писал он, — что греки передали славянам свою веру на славянском языке, а не на греческом. Какой же язык славянский? Способен ли он передать богословские и научные понятия? Всему свету известно, что наука преподается лишь на латинском языке, как прежде преподавалась на греческом. Не было в мире ни академий, ни коллегий, где бы науки, например, философию или богословие, излагали на славянском языке…»
И лицемерный Скарга елейно уговаривал: «…Итак, чего ждать тебе, западнорусский народ! Брось греков и москалей, от них не будет добра, и обратись к Риму. И как это обращение будет полезно гражданскому союзу и государственной силе Польши… Что же мешает соединению с нами? Полуязыческая и варварская Москва, которая держит тебя в схизме (то есть в греческой вере)? Но неужели не отвергнешься от этой погибшей своей сестры?» и т. д. и т. п.
Но все лицемерно-сочувственные доводы не дали ожидаемых иезуитами плодов, и они решили, несмотря на всю свою ненависть к русскому языку, повести пропаганду на русском языке, начали издавать свои сочинения на русском языке; это делалось только в надежде на то, что им удастся вскоре вытеснить русскую письменность и ввести латинскую. Впрочем хлопотливой и малоуспешной для них пропаганде они предпочитали гораздо более привычные и легкие пути.
В Польше существовал закон, по которому помещик имел право обратить всех своих крепостных в свою собственную веру. Закон был дан королем в виде уступки помещикам-некатоликам, чьи крепостные находились в особенно унизительном и тяжелом положении, но почти не применялся ими. Иезуиты вытащили этот закон и повернули в свою пользу. Теперь, рассудили они, остается обработать только немногочисленную верхушку южно-русских магнатов, убедить их принять католичество, и тогда волей-неволей всему русскому населению придется последовать за своими господами. Иезуиты ловко и осторожно стали втираться в русские дворянские семьи. Не удалось избавиться от них даже семьям Ходкевича и Острожского.
Наметив дворянскую семью, иезуиты прежде всего обращались к женщинам. Они морочили им головы своими шарлатанскими выходками, прикидывались друзьями дома, давали благожелательные советы, вмешивались в семейные дела, в воспитание детей; знакомые немного с медициной и тщательно скрывая это, они «чудесно» исцеляли больных, ловко создавая себе прижизненную славу святых и чудотворцев. Иезуиты навезли кучу костей всяких «мучеников», массу гипсовых, но не менее от того священных барашков и раздаривали их с отпечатанными на бумажке религиозными стишками. Сами они на первых порах отказывались от всяких подарков, изображали из себя людей, отрешившихся от всего земного, забывших о себе и заботящихся только о ближних.
Добившись доверия от своей жертвы, «иезуитской девотки», как называли себя их поклонницы, иезуиты начинали пользоваться ею, как слепым орудием для влияния на всю семью. Если же намеченная ими жертва не желала подчиниться, они беспощадно преследовали ее. Так они довели до сумасшествия молодую здоровую женщину — близкую родственницу князя Острожского. Склонив на свою сторону ее мать — старую княгиню Беату, невестку Острожского, иезуиты задумали с помощью старухи обратить в католичество и ее дочь Елизавету. Но князь Острожский вступился за любимую племянницу. Она вышла замуж за православного князя Дмитрия Сангушко. Иезуиты и старая княгиня начали ожесточенную травлю Сангушко, оклеветали его и вынудили бежать в Чехию; по дороге его убили, а Елизавету насильно выдали замуж за поляка и ревностного католика графа Гурко. Князь Острожский снова в защиту своей племянницы вступил в борьбу с иезуитами, но Елизавета не вынесла преследований иезуитов и сошла с ума. Острожский взял ее к себе, и несчастная жертва иезуитов прожила у него до самой своей смерти.
Недалеко от нее ушли и поклонницы иезуитов; чтобы привлечь их на свою сторону и подчинить своему безусловному влиянию, иезуиты превращали их в настоящих истеричек и психопаток. Они достигали этого целой системой молитвенных упражнений, сводившихся к утонченному садистскому издевательству над человеческим телом и духом. Так, кроме изнурительных дневных и ночных молитв, иезуиты предписывали своим жертвам погружаться в размышления о загробной жизни, о страшном суде, о муках в различных отделениях ада за всевозможные грехи и, прежде всего, за иноверие. «Размышлять» надо было со всей силой воображения, так, чтобы живо видеть и самому переживать все страсти, уготованные в аду грешникам: и поджаривание на медленном огне, и вырывание ногтей и мяса, и прочее. Но и этого иезуитам было мало. Они заставляли своих жертв подвергать себя благочестивым самобичеваниям, сечь себя до крови. Мучители доводили своих последователей до полного физического и нравственного изнурения. Так создавались психопатки и психопаты, слепые орудия в руках иезуитов.
До чего доходили эти «иезуитские девотки», видно на примере одной из них. Заставив всех своих крестьян креститься у ксендзов, она приказала у малюток, которых крестили по православному обряду, выжигать раскаленным железом клейма на лбу, груди и плечах. Сами иезуиты вынуждены были признать достоверность этого факта.
Иезуиты принялись также за подрастающее поколение. Они открывали школы, истинную цель которых — подготовить из детей послушных проводников своей политики — иезуиты тщательно скрывали. Они изображали дело так, будто заводят школы исключительно с целью дать дворянству возможность обучить и воспитать своих детей. Этому обману поддались многие южнорусские магнаты-некатолики.
Школа была для иезуитов лишь опытным полем, где они испытывали детей, выискивали среди них будущих исполнителей своей воли. Некоторые не выдерживали изнурительных испытаний и упражнений. Так, иезуиты до смерти замучили в своей школе мальчика Станислава Костко, принадлежавшего к богатейшей южнорусской семье, одной из первых, куда иезуиты сумели пробраться. Замучив мальчика, иезуиты объявили его святым и подарили его голову одному из распространителей католичества в Юго-Западной Руси. Одураченная «девотка», потерявшая сына, могла получить удовлетворение в том, что в ее семье завелся собственный святой.
Склонив на свою сторону ряд русских дворянских семейств, иезуиты распоясались. Они требовали, чтобы магнаты силой приводили народ в католичество; от лести и уговоров иезуиты стали переходить к угрозам и насилиям, начали закрывать русские церкви, превращать их в костелы, захватывать монастыри. Участились издевательства над священниками; их ловили на улицах, избивали, выстригали на макушке тонзуру. Затем взялись и за церковные книги, стали подделывать и подправлять их в католическом духе. Все усиленнее стали прибегать и к печатному станку, издавать брошюры в пользу католичества. В таких условиях особенно необходимо стало в борьбе против ополячения обратиться к помощи книгопечатания. С этой целью князь Острожский и пригласил к себе Ивана Федорова, печатника из Москвы.
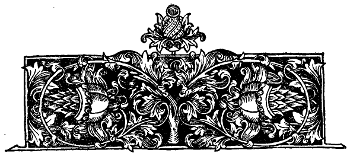
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 2. Почему так хочется убежать из Москвы
Глава 2. Почему так хочется убежать из Москвы Я не устаю приятно удивляться переменам, которые произошли с московскими аэропортами! Тот единственный в жизни раз, когда я в 2003 г. улетал из Домодедово в Хабаровск, запомнился мне бесконечными очередями, космическими ценами
Глава вторая ПОКОРЕНИЕ МОСКВЫ
Глава вторая ПОКОРЕНИЕ МОСКВЫ Подобно большинству провинциалов, Ельцин не любил Москву. Однажды его публично даже обвинят в этом – на приснопамятном октябрьском пленуме, когда догматик из КГБ Виктор Чебриков станет трясти крючковатым пальцем: «Не полюбил, Борис
Глава 16 СОЖЖЕНИЕ МОСКВЫ
Глава 16 СОЖЖЕНИЕ МОСКВЫ Восстание рязанцев явилось искрой, брошенной в пороховой погреб. Почва для взрыва была давно готова. На огромном пространстве от Северщины до Казани на востоке и Вологды на севере города один за другим заявляли о поддержке освободительного
Глава 27 ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ
Глава 27 ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ Земское ополчение добилось победы, сражаясь бок о бок с казацкими таборами. Но едва лишь бои стихли, трения между двумя лагерями возобновились. Благодаря стараниям Минина земские люди не испытывали недостатка в продовольствии и одежде. Кузьма
Глава VIII. Не отдали Москвы
Глава VIII. Не отдали Москвы Вторые сутки командующий разъезжал в районе боевых действий и искал свои войска — такого случая не было, может быть, во всей истории войн. «В ту памятную поездку, — вспоминал находившийся тогда за рулем А. Н. Бучин, — мы объезжали штаб за штабом
Глава четырнадцатая ЛЮБОВНИКИ МОСКВЫ
Глава четырнадцатая ЛЮБОВНИКИ МОСКВЫ Написанный карандашом на листах из школьных тетрадей, амбарных книг и свободных страницах рукописей ранних стихов, этот роман — самое загадочное произведение Платонова. В отличие от «Котлована» и «Чевенгура», впервые
Глава 34. Опасные дни Москвы
Глава 34. Опасные дни Москвы Прежде всего несколько слов о налетах гитлеровцев на Москву. Как известно, первый раз гитлеровцы совершили налет на Москву в ночь с 21 на 22 июля 1941 г., через месяц после начала войны. Тогда было сбито над столицей 17 самолетов фашистов. Я знаю всего
Глава двенадцатая. «РЕШЕНО: ВОН ИЗ МОСКВЫ!»
Глава двенадцатая. «РЕШЕНО: ВОН ИЗ МОСКВЫ!» В Москве Чехов застал сборы на дачу. Ни в Бабкино к Киселевым, ни в Сумы к Линтваревым Чеховы не поехали, хотя их приглашали. Новое место нашел Михаил — недалеко от своей службы, в городке Алексин Тульской губернии. Расписал
Глава 3. Этап из Москвы
Глава 3. Этап из Москвы Как мы встретили войну в Бутырках Война с Германией началась не первого июня, как предсказывали в нашей этапной камере, а с опозданием на двадцать два дня. Войну ждали со дня на день. Поэтому, когда в ночь на 23 июня все вскочили с нар, разбуженные
Глава 17 Трамвай до Москвы
Глава 17 Трамвай до Москвы Перед нами, на другом берегу Волги, раскинулась Старица. Даже издали этот старинный городок свидетельствовал о былом великолепии и роскоши царской России. Над скромными светскими зданиями возвышались великолепные православные храмы. Толстый
Глава пятнадцатая. Крылатый щит Москвы
Глава пятнадцатая. Крылатый щит Москвы Густо залепленный разноцветными заплатами старенький трудяга У-2 благополучно дотянул до Чкаловского аэродрома.Когда я рулил к стоянке, на нижнее крыло самолета вскочил небольшого роста человек в летной форме.— Ты, Петр
Глава 2 Волны Москвы-реки
Глава 2 Волны Москвы-реки Это листок записной книжки; она велась и в Киеве, перемежая подсчеты расходов (постоянно) и заработков (реже), списки книг, сметы трат. В Москве книжки станут насчитываться десятками — блокнотики, блокноты, тетрадочки, альбомчики: расходы, тут же