VI «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
VI
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
По пути из Арзрума Пушкин нашел во Владикавказе последние книжки русских журналов. Ему сейчас же попалась на глаза статья о «Полтазе» в «Вестнике Европы».
«В ней всячески бранили меня и мои стихи», вспоминал впоследствии Пушкин. Статья была подписана «С Патриарших прудов» и принадлежала перу Н. И. Надеждина. Автор весьма отважно отстаивал свой парадоксальный тезис: «Поэзия Пушкина есть просто пародия». Иронически признавая вершиной его творчества «Графа Нулина», критик с большой развязностью утверждал, что именно здесь «пародиальный гений автора является во всем своем арлекинском величии..»
С конца двадцатых годов рядом с «коммерческой» журналистикой начинает слагаться и ранняя разночинная критика Это вызвало осенью 1829 года некоторое объединение пушкинской группы, то-есть небольшого круга наиболее культурных писателей эпохи, сочетающих дарования поэтов и ученых, знатоков античной и новейшей литературы. К этому кружку принадлежали Жуковский, Вяземский, Боратынский, Дельвиг, Плетнев, Гнедич.

Титульный лист «Литературной газеты» (1830–1831).
Это был самый глубокий и самый блестящий слой тогдашней литературы. Неудивительно, что враждебные журналисты пытались обесценить значение этой плеяды ироническим прозвищем «литературной аристократии». Этой группе поэтов и критиков нужен был свой орган для отражения атак Надеждина и Полевых, особенно для борьбы с петербургскими «промышленниками пера» и казенными публицистами — Булгариным и Гречем. Так возникла «Литературная газета».
«Цель сей газеты — знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы Европейской, а в особенности Российской», сообщала программа нового издания.
Активнейшими членами редакции были Пушкин, Вяземский и журналист Орест Сомов Редактором был выделен Дельвиг, литературный вкус которого признавался всеми. Жуковский брал на себя обозрение английских журналов, особые сотрудники были приглашены для отделов естественных наук и «художеств».
Помимо основного ядра, которое составили сотрудники «Северных цветов», в газете печатались Крылов, Языков, Денис Давыдов, Одоевский, Подолинский, Туманский, Катенин, Хомяков. В отделе рецензий любопытно отметить среди разнообразных тем отзыв самого Дельвига о стихотворениях крестьянина Егора Алипанова.
Ряд крупных иностранных имен — Бальзак, Ламартин, Гюго, Шатобриан, Гофман, Тик, Байрон, Вашингтон-Ирвинг, Шарль Нодье, Манцони, Вальтер Скотт — прошел в отзывах или фрагментах перед читателем газеты. Примечательно, что даже малоизвестные на Западе Мериме и Стендаль были представлены в «Литературной газете». Несколько отрывков из «Прогулок по Риму» Бейля-Стендаля сопровождались небольшой редакционной заметкой об этом «остроумном французском писателе». Это едва ли не первое упоминание Стендаля в русской печати.
Пушкин заведывал редакцией «Литературной газеты» в январе 1830 года. Он деятельно участвовал во всех отделах издания. В первых номерах были напечатаны строфы из «Путешествия Онегина» («Прекрасны вы, брега Тавриды..»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «В часы забав иль праздной скуки…», «Когда твои младые лета…», отрывок из «Путешествия в Арзрум» («Военная Грузинская дорога»), отрывок из «Арапа Петра Великого» («Ассамблея при Петре I»), ряд анонимных заметок, анекдотов и статей Пушкина. Его беглые критические очерки казались многим событиями. По поводу его отзыва о переводе «Илиады» Гнедич писал ему: «Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так утешительно и сладко! Это лучше царских перстней…»
В противовес грубой полемике, личным выпадам, перебранке, вызываемой коммерческими интересами петербургских журнальных предпринимателей, «Литературная газета» стремилась создать подлинную художественную критику.
26 декабря 1829 года были написаны стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» с замечательной по своей сжатости и выразительности первоначальной строфой:
Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой —
Но мысль о смерти неизбежной
Всегда близка, всегда со мной.
Последующие строфы дают постепенное развитие этого вступления и заключаются радостным обращением к молодой жизни, приветствием нетленной красоты мира даже «у гробового входа». Трудно назвать во всей мировой лирике, посвященной теме смерти, более оптимистический заключительный аккорд.
В «Литературной газете», где были напечатаны эти «Стансы», Пушкин поместил и свое «Послание к к[нязю] Н. Б. Ю[супову]», впоследствии озаглавленное «К вельможе». Оно вызвало резкие нападки и даже обвинения автора в низкопоклонстве, хотя представляло собой, по позднейшему безошибочному мнению Белинского, «одно из лучших созданий Пушкина». В классической форме послания XVIII века Пушкин дает портрет вельможи на широком культурно-историческом фоне его эпохи. Тонко использованы подлинные черты жизни Юсупова в сочетании с политическими и художественными событиями его времени. Этот собеседник Бомарше, Вольтера и Дидро был посетителем королевского Версаля накануне французской революции Разъезжая по Европе, он всюду живет интересами искусства, собирая для Петербурга коллекции камей, заказывая копии с рафаэлевых лож Ватикана, знакомясь с Грезом, Давидом, Кановой и составляя картинную галлерею из произведений Рембрандта, Теньера, Рубенса, Клода Лоррена. В своем подмосковном Архангельском, устроенном в стиле знаменитых итальянских вилл, Юсупов воздвиг театр, собрал редкую библиотеку и ценнейшую картинную галлерею. Несмотря на свойственные ему пороки его среды, это был все же замечательный представитель русской дворянской культуры XVIII века, достойный пушкинского описания:
…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады…
Но поэт не ограничился статической характеристикой вельможи. Он показал бурную жизнь эпохи, драматическую смену идей и поколений. Шумные забавы французского двора сметает вихрь революции:
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон…
Проповеди Дидро отходят в прошлое, их заглушает «звук новой чудной лиры — Звук лиры Байрона…»
Такова пластическая картина, восхитившая впоследствии первого классика русской критики. В современной журналистике она заслужила Пушкину несколько плоских пасквилей. Редактор «Московского телеграфа» Николай Полевой в прибавлениях к своему журналу изобразил некоего знатного князя Беззубова, приглашающего к себе на обеды сочинителя, польстившего ему стихами о его встречах с Вольтером и Бомарше. По свидетельству самого Пушкина, его «несчастное послание предано было всенародно проклятью…»
Участие в газете не отвлекало Пушкина от его обычных мыслей и настроений. 7 января 1830 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему путешествие во Францию или в Италию, либо отпустить с особым посольством в Китай.
Планы таких поездок, отчасти связанные в этот момент с неудачами личного романа, неизменно сочетались и с культурными интересами поэта. В конце двадцатых годов он знакомится в петербургском обществе с выдающимся знатоком Китая — Иакинфом Бичуриным, личностью весьма своеобразной. Начальник Пекинской духовной миссии, он был сослан за какие-то провинности на Валаам, а по возвращении из ссылки в Петербург стал переводчиком министерства иностранных дел и видным посетителем столичных гостиных. Этот монах-атеист, ставивший Христа не выше Конфуция, привлекал к себе любителей искусств своими драгоценными коллекциями азиатских редкостей и восточных манускриптов. Иакинф Бичурин поднес Пушкину экземпляры своих сочинений «Описание Тибета» и «Сан-Цзы-Цзинь и троесловье» и даже предоставил в его распоряжение свои рукописи, за что Пушкин вскоре выразил ему печатную благодарность в «Истории Пугачева». План Пушкина отправиться в Китай с ученой экспедицией министерства иностранных дел, в состав которой входил Иакинф Бичурин, был, вероятно, внушен поэту этим замечательным китаеведом. К концу декабря 1829 года относится элегический отрывок о готовности поэта бежать от «гордой мучительной девы» в любые страны —
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец…
Но «высочайшая воля» наложила свой неизменный запрет на все зарубежные маршруты Пушкина — в Пекин, Венецию или Париж.
16 сентября 1829 года скончался генерал Раевский, сломленный разгромом декабристов; его родной брат Василий Давыдов и зять Волконский были сосланы в Сибирь, другой зять, Михаил Орлов, исключен со службы, любимая дочь Мария Николаевна последовала по каторжному пути за своим мужем. Глядя на ее портрет, умирающий произнес: «Вот самая замечательная женщина, которую мне пришлось встретить в жизни!..» Вскоре вдова Раевского обратилась к Пушкину с просьбой отстоять перед высокими инстанциями материальные интересы семьи. Поэт написал прекрасное письмо Бенкендорфу, выражая свою надежду на сочувствие воина «к судьбе вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а смерть столь печальна…»
Вокруг «Литературной газеты» разгоралась борьба. Конкурирующий орган — «Северный Меркурий» — вступил в полемику с изданием Дельвига. Журналы Булгарина и Греча — «Сын отечества» и «Северный архив» — ожесточенно напали на руководителей новой газеты, выводя их в пародиях и памфлетах под вымышленными, но довольно прозрачными именами.
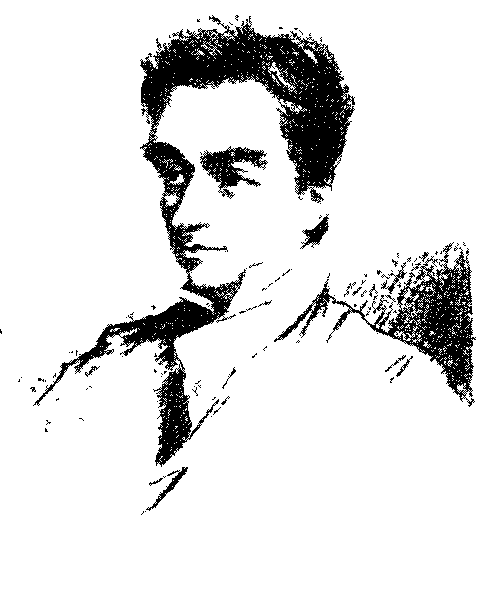
Проспер Мериме (1803–1870).
С портрета Рошара. «…Мериме, острый и оригинальный писатель, автор театра Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных…» (1832)
Полемика с Николаем Полевым разгорелась по поводу его «Истории русского народа», встретившей отрицательную оценку Пушкина на столбцах «Литературной газеты». Не примыкая к резкой журнальной кампании, направленной против книги Полевого, поэт довольно сдержанно критиковал противопоставление автором своего исторического исследования труду Карамзина. Но к литературной стороне новой монографии он отнесся со всей строгостью. Понимая историю, как жанр художественной прозы, и всячески приветствуя воздействие Вальтера Скотта на новейшую школу французских историков, Пушкин отдавал решительное предпочтение «гармоническому перу» Карамзина перед «темным слогом» Полевого, которому совершенно чуждо «искусство писать». Более передовые исторические воззрения этого ученика Тьерри не могли искупить в глазах Пушкина его литературной отсталости («в его сочинении все обезображено, перепутано и затемнено»). В ответ Полевой открыл целый поход на «аристократов» из «Литературной газеты». Возник оживленный обмен полемическими статьями между органом Дельвига, обвинявшим Полевого в якобинской демагогии, и «Московским телеграфом», протестовавшим против полемической ставки своих оппонентов якобы на правительственную бдительность.
Но гораздо ожесточеннее была борьба «Литературной газеты» с «Северной пчелой». Спор разгорелся по поводу устных заявлений Пушкина о заимствовании Булгариным для его «Дмитрия-Самозванца» ряда мест из «Бориса Годунова». С рукописью трагедии сотрудник Бенкендорфа мог ознакомиться в Третьем отделении, где новая драма рецензировалась для Николая I. Когда в «Литературной газете» от 7 марта появился анонимный отзыв о «Дмитрие-Самозванце», хотя и без обвинений в плагиате, но с указанием на польский патриотизм автора, Булгарин, ошибочно решив, что статья принадлежит Пушкину, обрушился на него сокрушительным пасквилем. Он вывел поэта под видом «природного француза, служащего усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; который бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных», и пр. Выпад Булгарина с намеками на «Гавриилиаду», на отношение к правительству, на личную жизнь поэта, с оскорбительной оценкой его творчества глубоко возмутил Пушкина. Он решил ответить со всей резкостью. В «Литературной газете» появилась знаменитая статья о Видоке, полицейском сыщике, отъявленном плуте и грязном доносчике. По ряду намеков (отсутствие отечества, бывшая военная служба, хвастовство дружбой с умершими знаменитостями, полицейское доносительство и пр.) не узнать в этом очерке Булгарина было невозможно. Прозвище Видока отныне прочно утвердилось за ним.
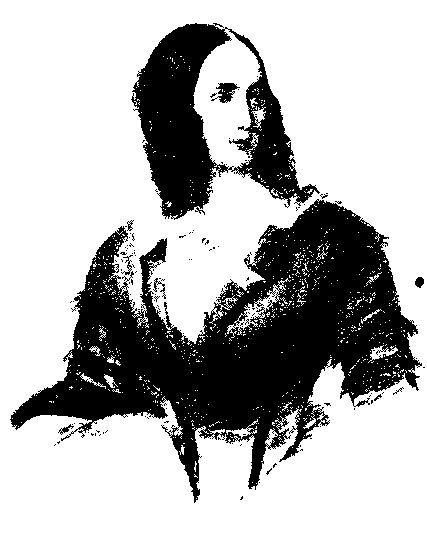
H. Н. Пушкина
Акварельный портрет, автором которого предположительно считается английский художник Гау.

А. С Пушкин.
С портрета Л. Ф. Соколова. 30-е годы (масло).
«Когда мне впервые показали акварель Соколова, я сразу сказал — это единственно настоящий Пушкин» (С. Л. Левицкий)
Булгарин ответил разносом седьмой главы «Евгения Онегина» и полемической статьей, снова направленной против «литературных аристократов» и особенно против Пушкина. «Жаль, что Мольер не живет в наше время! Какая неоцененная черта для комедии «Мещанин во дворянстве» — восклицает Булгарин по поводу сотрудников «Литературной газеты», «заговоривших в своем листке о дворянстве». Следовал анекдот о поэте, происходящем «от мулатки» и возводящем свое происхождение к «негритянскому принцу», который на самом деле был обыкновенным негром, купленным в старину каким-то шкипером за бутылку рома. Особые обвинения Пушкина в недостатке патриотизма вызвало в «Северной пчеле» путешествие поэта в кавказскую действующую армию: «Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин бледный, слабый…» Пушнину приходилось не только полемизировать с литературной критикой, но еще опровергать политические инсинуации.
Полемика снова обращает Пушкина к раздумьям о призвании и судьбе поэта. Нападкам критики («Услышишь суд глупца…») он мужественно и твердо противопоставляет незыблемое право творящего художника «Ты сам свой высший суд». В знаменитом сонете 1830 года независимость поэта от мелкого деспотизма обывательской среды провозглашается так же, как и его свобода от железного гнета «венчанных солдат». Именно им противопоставлен творящий поэт-мыслитель:
Ты царь: живя один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум…
Одиночество — единственное спасение для поэта в среде Романовых, Бенкендорфов, Серафимов, Булгариных; но это одиночество творческое, которое рано или поздно сольет его мысль с великой народной стихией, волю которой он стремится уловить и выразить в своих созданиях. Это чувство звучит в чудесном наброске начала тридцатых годов:
Пой: в часы дорожной скуки
На дороге столбовой
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц бледный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой…
Знаешь песню ты: Лучина?
Одновременно не прекращается общение поэта с великими классиками. Из мировых гениев прошлого в его творческой жизни все больше ощущается присутствие Данте. Пушкин рано узнал флорентийского поэта, читал его в подлиннике уже в южные годы, но к концу двадцатых годов проявляет к нему пристальным интерес. Именем Данте начинается перечень мастеров сонета, о нем благоговейно говорит Сальери. Характерен отрывок 1829 года:
Зорю бьют. Из рук моих
Ветхий Данте выпадает…
Пушкин оставил краткие, но поразительные по глубине оценки «Божественной комедии»: «Единый план Ада есть уже плод высокого гения». Это — «тройственная поэма, в которой все знания, все поверья, все страсти средних веков были воплощены и преданы так сказать осязанию в живописных терцинах».
Этот четкий и строгий размер дантовой поэмы органически сочетался для Пушкина с ее планом («тройственная поэма») и с духом создавшей ее эпохи. В этих тонах написаны и терцины Пушкина, воссоздающие в русской поэзии не только форму, но и глубокий поэтический стиль дантовой трилогии. Терцины «В начале жизни…» замечательно передают общий характер эпохи Возрождения с ее жаждой знаний и культом античности и в частности с ее тонким искусством садов. Три темы — школа, вилла, мифологические боги — развертывают основной замысел этого вступления к незаконченной поэме. Тенденциям средневековья («полные святыни словеса…») противопоставлено восхищение отрока созданиями античного ваяния, особенно Аполлоном[61].
Пушкин с замечательным искусством выдерживает труднейший принцип дантовской формы, согласно которой каждый терцин, как правило, представляет собой замкнутую строфу. Нет переносов, то-есть непосредственного продолжения стиховой фразы в следующем трехстишье. Каждое из них — завершенное целое. Даже сложнейшие задания — изображения и характеристики «двух бесов» — даны и исчерпаны в трех строках:
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

А. Н. Гончаров (1760–1832), дед H. Н. Пушкиной.
С портрета маслом неизвестного художника. «Благословив Наталию Николаевну, благословили вы и меня. Вам обязан я больше, нежели чем жизнью». (1830)
Еще ближе по теме к «Божественной комедии» пушкинские терцины 1832 года «И дале мы пошли…» В обоих опытах русский стих впервые зазвучал, как настоящая итальянская «терца-рима», с торжественной плавностью ее ритмов и заостренной четкостью каждого образа,
Сложно развертывался в 1829–1830 годах роман Пушкина с Гончаровой. По возвращении из Арзрума поэт, казалось, получил разъяснение, что двусмысленный весенний ответ на его предложение следует понимать как отказ. «Сколько терзаний ожидало меня по возвращении, — писал он несколько позже Наталье Ивановне: — ваше молчание, ваше холодное обращение, прием mademoisellу Nathalie столь легкий, столь невнимательный. Я не имел мужества объясниться — я уехал в Петербург убитый, сознавая, что сыграл смешную роль: я был робок первый раз в жизни».
Только к весне положение заметно изменилось: «Один из моих приятелей, приехав в Москву, передает благосклонное слово вашей дочери по моему адресу — и оно возвращает мне жизнь…»
Ободренный, поэт срочно выезжает из Петербурга. «Третьего дня приехал я в Москву, — писал он Вяземскому 14 марта 1830 года, — и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были Наталья Гончарова и княгиня Вера (Вяземская)…» Поэт был встречен приветливо. Не откладывая решительного шага, он уже в начале апреля делает новое предложение, которое на этот раз было принято. «Наденька подала мне холодную, безответную руку», отмечает Пушкин этот тревожный момент в автобиографическом очерке «Участь моя решена…»
Сам он, несмотря на увлечение, был полон сомнений: в согласии Натальи Николаевны он склонен был видеть только «свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия». Томила также неопределенность материально, го состояния, сомнительное политическое положение. По. ездка в Арзрум навлекла на Пушкина новый гнев правительства. В грозном письме Бенкендорф потребовал от имени государя объяснений: «…по чьему позволению предприняли вы сие путешествие? Я же со своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова…» Официальный запрос еле маскировал личное оскорбление.
Тем не менее, в апреле Пушкин извещает родителей и друзей о своем обручении. «Прозаическая сторона брака — вот чего я боюсь для вас, — писала ему из Петербурга его приятельница Хитрова. — Я всегда думала, что гений поддерживает себя полной независимостью и развивается только в беспрерывных бедствиях, я думала, что совершенное, положительное и от постоянства несколько однообразное счастье убивает деятельность, располагает к ожирению и делает скорее добрым малым, чем великим поэтом…» Пушкин просит ее не судить о нем слишком «поэтически».
В мае он выезжает с невестой в имение Гончаровых для представления главе семейства — дедушке Афанасию Николаевичу.
Майоратное гончаровское поместье — Полотняный завод — было расположено в Медынском уезде Калужской губернии. Местность понравилась Пушкину своей живописностью, а усадьба — монументальными строениями. По неровном булыжникам заводской мостовой коляска подкатила к лепным воротам усадьбы Гончаровых, пронеслась под сводом и мимо старинной семейной усыпальницы по свежему дерну двора подъехала к огромному трехэтажному дому. Перед главным фасадом здания раскинулся парк с подстриженными липами, беседками, прудами. Вдоль двора вытянулись заводские постройки, вокруг амбары, ананасные оранжереи, конный завод, манеж, псарни, оленьи загоны. Все свидетельствовало о широком размахе и праздничной жизни богатейших промышленников XVIII века.
Пушкина поместили в резиденции самого дедушки Гончарова — в красном доме, воздвигнутом на обрыве над прудами. Широкие каменные ступени, хрустальные люстры на золотых снопах — все напоминало дворцовое убранство. В гостиной висел портрет основателя гончаровских богатств — калужского посадского Афанасия Абрамовича Гончарова, сумевшего выйти из торговых мещан в потомственные дворяне. Смышленый взгляд, энергичный подбородок; белые букли парика, черный бархатный камзол с кружевными манжетами; в левой руке он держит письмо Петра I, который покровительствовал предприимчивому купцу и сообщал ему из Голландии, что подыскал для его дела «искусного плотинного мастера».
Местные предания восполняли живописную характеристику старинного портретиста. В духе эпохи, Афанасий Гончаров установил на своих заводах железную дисциплину, вызывавшую постоянные побеги фабричных, а в 1752 году и открытое их возмущение, сурово подавленное владельцем. Через два года был обнаружен «злой умысел» взорвать фабрику с помощью горшка с порохом. Афанасий Абрамович твердой рукой подавлял недовольство своих рабочих, а при Екатерине II, лично посетившей Полотняный завод, довел до небывалого расцвета все свои предприятия. К началу восьмидесятых годов XVIII века он владел бесчисленными парусными, бумажными и чугунолитейными заводами в разных губерниях и насчитывал до семидесяти пяти вотчин.
Внук его и тезка Афанасий Николаевич Гончаров, дедушка Натальи Николаевны, не унаследовал хозяйственных дарований своего кряжистого предка. Пушкин увидел перед собой типичного русского барина екатерининского времени, изнеженного в наслаждениях и безделии, известного своим безудержным влечением к роскоши и женщинам, успевшего протратить на свои барские затеи многомиллионное состояние. Крупный богач и расточитель, он подносил великим князьям породистых коней, жил годами в Вене, восхищаясь парадами, придворными маскарадами и торжествами. В своих калужских поместьях он устраивал знаменитые охоты, отправляясь в дальние леса за Медынь, где зверя пугали оркестры роговой музыки, возглавлявшие отряды охотников со сворами. Балы его славились в губернии и в Москве. «Громко жил Афанасий Николаевич», вспоминали старики Полотняного завода.
Дед искренно хотел проявить былую щедрость в отношении любимой внучки, но мог создать только видимость свадебного дара. Он выделил ей в приданое часть нижегородского села Катунки с двумя сотнями крепостных; но имение было заложено в опекунском совете, и на «девицу Наталью» переводился вместе с даром и долг в сто восемьдесят тысяч рублей.
В дополнение к этому сомнительному подарку старик предоставлял в собственность внучке колоссальную бронзовую статую Екатерины II, отлитую в Берлине для украшения парков Полотняного завода. Старик уверял, что торговцы медью предлагали за памятник сорок тысяч. Он повел показать Пушкину многопудовую драгоценность, приобретенную Гончаровыми в память «высочайшего» посещения их заводов и фабрик в 1775 году.
Пушкин увидел гигантскую бронзовую Екатерину в римском панцыре и просторной мантии, спадающей с плеча на невысокую колонну с раскрытой книгой законов. На подножии латинская надпись гласила «Мейер слепил, Наукиш отлил, Мельцер отделал в 1786 году». В приданое Наталья Николаевна получила двести пудов меди, отлитых в пышную скульптуру XVIII века, которую мудрено было превратить в украшение молодого хозяйства и нельзя было расплавить, как изображение «высочайшей особы».
Пушкину пришлось повозиться с этой медной «бабушкой» (как называл ее поэт в своих письмах к невесте). Приехав в Петербург, он провел часть лета в хлопотах о расплавке бронзовой статуи.
В последних числах июля Пушкин узнал от Хитровой о внезапном «возмущении» в Париже. Первые сведения глухо сообщали о бегстве Карла X и о кандидатуре герцога Орлеанского на престол Бурбонов. В последующие дни экстренная дипломатическая почта, а затем и газеты сообщили подробности трехдневной французской революции, вызванной грубым попранием конституционной хартии, приказами короля об отмене свободы печати, избирательных законов и роспуске парламента. Борясь на баррикадах, парижский народ в три дня разбил правительственные войска и снова, как в 1793 году, низложил династию. «С престола пал другой Бурбон», вспоминал через год этот исторический момент Пушкин. Под свежим впечатлением событий он писал из Москвы Хитровой, что они переживают «самую замечательную минуту нашего столетья». Но на общем отношении его к событиям сказались отчасти воззрения политического салона Фикельмонов, где Пушкин получил первые известия об Июльской революции. Ироническое отношение к «королю-буржуа» и к таким его сторонникам, как Талейран, интерес к Шатобриану, заявившему о своем отказе присягать Луи-Филиппу[62] — такова была оценка европейских событий в дипломатическом кругу, из которого поэт получал сведения о революции. Переписка Фикельмонов (позднейшей эпохи) развивает положения о современной Франции, напоминающие высказывания Пушкина в письме к Хитровой от 21 августа и позднейшие свидетельства Вяземского об отношении его друга к перевороту 1830 года. Но как поэт Пушкин первым делом отмечает, что новая революционная песнь «Парижанка» не стоит прежней «Марсельезы». Тем самым определяется его высокая оценка знаменитого республиканского гимна, ставшего выражением и символом европейской буржуазной революции.

Шаtoбpиaн (1768–1848).
С портрета Жиродэ.
В Москве Пушкина ожидали новые заботы — умирал Василий Львович. Старого поэта даже в тяжелом состоянии не оставляла любовь к поэзии. За месяц до смерти он еще был на концерте знаменитой Каталани и отблагодарил ее французским четверостишием. Тогда же он написал послание в стихах своему племяннику — восхищенный отзыв о его последних творениях и теплое поздравление с обручением:
Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер…
Ты остроумие и вкус его имеешь…
Следует просьба скорее напечатать «Годунова» назло всем парнасским пигмеям. Примечательно и последнее пожелание — отдаться жизненному счастью, но при этом «не забывать муз». Филолог XVIII века сказывается в его последнем завете гениальному поэту: «Язык обогащай!» Трогательна французская приписка старого «арзамасца» к его посвящению, очевидно, читанному предварительно племяннику и вызвавшему критические замечания слушателя: «Направляю к тебе мое послание, с поправками, которые я только что внес в него. Сообщи мне, дорогой Александр, доволен ли ты ими? Я хочу, чтоб это послание было достойно такого поэта-чародея, как ты, и одновременно ударяло по глупцам и завистникам». Умирающий «Вот я вас» не сдавался. Недаром его «Эпитафия самому себе» гласила:
Он пел Буянова и не любил Шишкова…
Накануне смерти старика Пушкин застал его в забытьи, но с номером «Литературной газеты», в которой лишь недавно было напечатано одно из его последних стихотворений. «Как скучны статьи Катенина», заметил он племяннику по поводу тяжеловесных «Размышлений и разборов», заполнявших критический отдел дельвигова «Вестника». Так ли, мол, нападала легкая конница «Арзамаса»? Пушкин, видимо, вполне разделял мнение дяди и обессмертил его последний отзыв в своих письмах: «Каково? вот что значит умереть честным воином le cri de guerre ? la bouche»[63]. По преданию, сообщенному Анненковым, утром 20 августа Василий Львович еще смог дотащиться до шкафов своей богатейшей библиотеки, отыскал своего любимого Беранже и через некоторое время, тяжело вздохнув, умер над французским песенником.

Июльская революция 1830 года. Призыв 27 июля.
Литография.
Пушкин принял на себя устройство похорон, разослал от своего имени траурные извещения, возглавлял литературную группу погребальной процессии, в которой участвовали Вяземский, Погодин, Языков, Дмитриев, братья Полевые, князь Шаликов и другие. «С приметной грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди», заметил один из участников кортежа. Поэт был привязан к Василию Львовичу гораздо более, чем к своему отцу, и помнил в нем своего первого наставника на путях в лицей, в «Арзамас» и в русскую поэзию. Это был не только ближайший родственник, но и «дядя на Парнасе», один из тех, кто входил в «сладостный союз поэтов…» Пушкин всегда живо ощущал эту неразрывную связь всех «питомцев муз и вдохновенья». На кладбище Донского монастыря, где похоронили Василия Львовича, он навестил могилу Сумарокова.
«Смерть дяди, — писал в те дни Пушкин, — и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства… На-днях отправляюсь я в Нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной». Речь шла о далекой Кистеневке, расположенной близ родового села Болдина и предоставленной Сергеем Львовичем старшему сыну по случаю его женитьбы. 31 августа Пушкин выехал из Москвы, захватив с собой английских поэтов и несколько тетрадей, заполненных планами, набросками и строфами.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Интермедия: «Газета. ру»/«Вести. ру»
Интермедия: «Газета. ру»/«Вести. ру» В «Газету. ру» меня завербовал Антон Носик В январе 1999 года, сразу после кризиса, он собрал команду журналистов — из Сети и из бумажной журналистики, — чтобы делать первую в Рунете ежедневную газету. Носик был ее главным редактором, а
Завтрашняя газета
Завтрашняя газета Сегодня к нам в гардеробную зашел артист Дымко. Он посмотрел, как я делаю себе из гуммоза нос, и сказал:-а ты зря гримируешься. Выступай без всякого грима. У тебя и так глупое лицо. Может быть, он и нрав. Попробую завтра нос не лепить. (Из тетрадки в клеточку.
А. Штульберг НАША ГАЗЕТА
А. Штульберг НАША ГАЗЕТА Пожелтевшие от времени газетные страницы. И даты января 1933 года. Это первые номера газеты казахстанской милиции «Страж»[18]. «Страж» — это большое достижение, — отмечалось в передовой статье одного из ее первых номеров. — Милицейские массы имеют
«Литературная газета», 30 марта 1963
«Литературная газета», 30 марта 1963 …Евтушенко выступает с позиций определенной философии, которая расходится с тем, чему учит нас партия. Он отказывается встать по одну сторону баррикады, разделяющей два мира, и предпочитает «витать над схваткой» и защищать некую
V «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
V «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» 1 По пути из Арзрума Пушкин нашел во Владикавказе последние книжки русских журналов. Ему сейчас же попалась на глаза статья о «Полтаве» в «Вестнике Европы». «В ней всячески бранили меня и мои стихи», — вспоминал впоследствии Пушкин. Статья была
Глава XXI «Литературная газета»
Глава XXI «Литературная газета» «Литературная газета» и участие в ней Пушкина. — Цель издания. — Эпиграмма на современную критику «Глухой глухого звал к суду…». — Мнение Пушкина о «Юрии Милославском», драматической сцене Фонвизина, «Записках» Самсона и Видока. —
Амосов Николай Михайлович Вечный Амосов: Интервью с Н.Амосовым //Литературная газета. — 1998. — № 46
Амосов Николай Михайлович Вечный Амосов: Интервью с Н.Амосовым //Литературная газета. — 1998. — № 46 Надо ли представлять Николая Амосова? Читателям постарше он хорошо известен. Для молодых скажу: это академик медицины, ученый, исследующий проблемы управления сложными
Газета футуристов
Газета футуристов Сергей Спасский писал:«Это была первая газета, расклеенная на стенах Москвы. Маяковский, Бурлюк и Каменский заполняют её на три четверти. Из стихов Маяковского – «Революция» и впервые напечатанный «Наш марш».Декларации ещё выглядят двойственно. Тут и
Глава четвертая «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
Глава четвертая «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» Психология гроша и миллиона Говоря о людях шестидесятых, «шестидесятниках», некоторые пожимают сейчас плечами: а какова, собственно, их заслуга? Всю правду они все равно не сказали, по-прежнему оставались в рамках дозволенного.Те,
«Литературная газета» (2 февраля 2011; Игорь Панин)
«Литературная газета» (2 февраля 2011; Игорь Панин) – Говорят, ты нетерпим к критике и готов на кулаках разбираться со своими обидчиками. Я сейчас не буду перечислять известные мне подобные конфликты, связанные с твоим именем, суть не в этом. Ты действительно настолько
Газета по утрам
Газета по утрам Иногда покупаю в Союзпечати республиканскую молодёжную газету, там раз в неделю литературная страничка. А всё, что касается литературы, я засасываю, как питон.В этот раз разгорелась дискуссия о Маяковском. Некий молодой человек утверждал, что Маяковский
«ФРИНИНА ГАЗЕТА»
«ФРИНИНА ГАЗЕТА» Летом 1921 года Кочкурову передали, что его разыскивает девушка, с которой он познакомился в Самаре два года назад в доме Федора Куля[15]. 5 июня Николай Кочкуров пишет в Самарканд:Солнечная Фрина,[…] твое письмо мне переслали из деревни. Опоздай оно на пару
«Русская газета»
«Русская газета» «Русская газета» – было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70
Газета
Газета Комплект газеты «Правда» За сорок первый год. Почины и парады: «Дадим!», «Возьмем!», «Вперед!». Ударники, герои, Гул строек по стране… Июнь. Двадцать второе. Ни слова о войне. Уже горит граница, И кровь течет рекой. Газетная страница Еще хранит покой. Уже легли