IV ПОЭМА О ПЕТРЕ
IV
ПОЭМА О ПЕТРЕ
Весь период процесса о «Гавриилиаде» Пушкин провел безвыездно в Петербурге. Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей молодости Пушкин здесь уже почти никого не застал: Николай Тургенев, Михаил Орлов, Чаадаев, Катенин, Пущин, Лунин, Никита Муравьев, Якушкин — все были рассеяны по свету — кто в Москве, кто в деревне, кто в чужих краях, кто в Сибири. Никаких объединений вроде «Арзамаса», «Зеленой лампы» или «Общества 19 года», никаких «партий» в театральных залах. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, — писал Вяземский 18 апреля 1828 года, — общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет». Все стало чинным, однообразным, настороженным, даже частная жизнь, казалось, восприняла общую мундирность правительственного быта с штампованным вензелем Николая I.
После лицея Пушкин щедро расточал свою поэзию в петербургских кружках. Теперь он стал сдержаннее. Столичный общественный круг 1828 года — от сановных следователей до пресмыкающихся журналистов — представляется ему сплошным сборищем ничтожных и низменных искателей, помышляющих лишь о «единой пользе». Этой «черни» противопоставляет себя Пушкин в знаменитом стихотворном диалоге 1828 года. Бездушной и тусклой обывательской среде во всех ее отслоениях — от салонов до редакций — поэт согласен дать единый урок: заявить ей, что художник создан «не для корысти», не для развлечения и потехи рабского и «хладного» мещанства, а для вдохновенного труда. Служение «чистому искусству» приобретало в условиях этой рабьей действительности и отсталых воззрений некоторый характер общественного протеста. Он был одинаково направлен против угодливых требований «Северной пчелы», ожидающей от поэта специфических «восхвалений», и против реакционного учения устарелых риторик, признающих целью художества нравоучение. «Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условье и цель изящной словесности сама собой уничтожилась», писал Пушкин в тридцатых годах. Но в 1828 году он еще борется за высокие творческие права художника, нисколько не отрывая его при этом от задач общего дела и широких человеческих интересов.
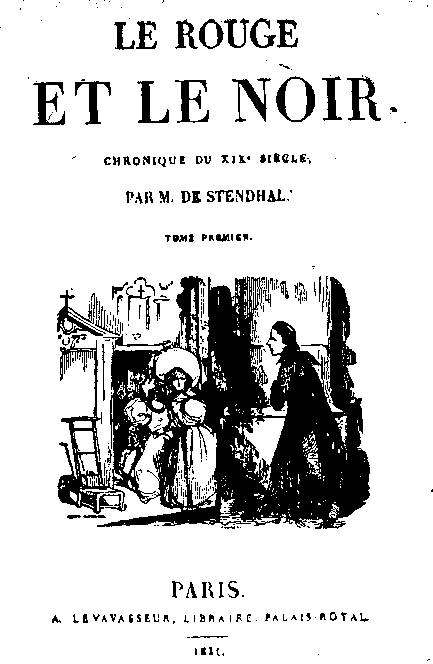
Титульный лист романа Стендаля «Красное и черное».
Экземпляр пушкинской библиотеки.
Заключительные строки стихотворения «Поэт и толпа» («Для звуков сладких и молитв») перекликаются с вариантом позднейшего «Памятника»:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел…
Народ преклоняется перед поэтом за его строгий творческий подвиг, свершенный им для народа и во имя любви к нему. Пушкин не отказывался от этого служения, не освобождал писателя от таких жизненных задач. «Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления, — писал о нем Мицкевич. — Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гёте». Но это убеждение в социальном призвании поэта он выразил со всей полнотой лишь в последнюю эпоху своей жизни.
Из этой столичной «черни» гостиных и кружков Пушкин выделял немногих друзей — в первую очередь Дельвигов[53]. У них бывали Гнедич, Плетнев, М. И. Глинка, литератор Орест Сомов, Анна Петровна Керн, М. Л. Яковлев (лицеист), Сергей Голицын (поэт-любитель и музыкант). По свидетельству Керн, Дельвиги были большими любителями музыки; молодые композиторы выступали здесь со своими новыми произведениями, «а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон бравурный, модный романс или баркароллу». На другой же день после своего возвращения в Петербург, 25 мая 1827 года, Пушкин читал у Дельвигов «Бориса Годунова».
Из старых петербургских знакомых Пушкин продолжал посещать Олениных. Знаток искусств и древностей продолжал свою художественную и коллекционерскую работу. Кабинет его попрежнему напоминал своими эстампами и вазами музей искусств; здесь, как и встарь, собирались поэты и артисты. Но девочка-подросток Анна успела превратиться в двадцатилетнюю красавицу с огромными задумчивыми глазами. «…Но то ли дело — глаза Олениной моей!» писал зачарованный поэт, одно время прочивший себе в жены дочь знаменитого археолога.
Среди новых знакомых Пушкина особенное значение имела Елизавета Михайловна Хитрова, дочь фельдмаршала Кутузова и мать известной красавицы Долли Фикельмон, жены австрийского посла. Дом их представлял в Петербурге политический салон западноевропейского типа, где в то же время ревностно сохранялся культ славного русского прошлого — «доблестные кутузовские традиции». Потеряв первого мужа в Аустерлицком сражении (его подвиг на Праценских высотах описан Толстым в знаменитой главе «Войны и мира» о ранении Андрея Болконского), Елизавета Михайловна вышла замуж за дипломата Хитрова. Прожив несколько лет в Италии, она навсегда сохранила живой интерес к европейской политической и художественной жизни. Парижская хроника, иностранные газеты, новинки западной литературы — со всем этим Пушкин мог знакомиться в доме своей новой почитательницы. Их переписка свидетельствует о прочном дружеском чувстве и несомненном интересе поэта к уму и знаниям этой европейски образованной женщины. Именно она познакомила Пушкина со Стендалем и доставила ему один из лучших романов XIX века — «Красное и черное».
«Умоляю вас прислать мне второй том «Rouge et Noir», я от него в восторге», писал Пушкин в мае 1831 года Хитровой. Стендалевская «Хроника XIX века» вышла с эпиграфом из речей Дантона: «Истина, суровая истина». Романист стремился с беспощадной правдивостью изобразить Францию эпохи Реставрации во всей безотрадности ее реакционного и клерикального режима. «Это живопись общества, созданного иезуитами и эмигрантами», писал современный критик; роман смахивал на социальный памфлет и свидетельствовал о подлинной ненависти автора к королевской монархии и католической конгрегации. Главный герой — Жюльен Сорель, выходец из народа, бунтарь и протестант, ненавистник титулов и богатств, является носителем той энергии, которая создает «великих людей». Он стремится во что бы то пи стало выйти из нищенского состояния и сравняться с миром благоденствующих и господствующих. Монолог Жюльена в тюрьме призывает к восстанию и полному уничтожению общества, прикрывающего преступления ложью. Нет ни бога, ни религии, ни права — есть только «сила льва» и потребность стать им у всех испытывающих голод и холод. Поклонник энергии и сил эпохи Возрождения, Стендаль воскресил в мужественном герое своего романа титанические образы итальянских хроник Чинквеченто. В авторе «Красного и черного» Пушкин должен был почувствовать выученика материалистов XVIII столетия и знатока кровавых нравов старой Италии.
Из театралов 1818 года Пушкин встретился снова с Грибоедовым. 14 марта 1828 года Петербург с необычайной торжественностью, непрерывными пушечными салютами, не смолкавшими весь день, встречал приезд молодого дипломата, посланного Паскевичем в Петербург с текстом Туркманчайского мира. Договор этот, в значительной степени составленный блестящим драматургом, заканчивал весьма выгодно для России персидскую войну. На другой же день Грибоедов был принят Николаем I, награжден чином, алмазным крестом и четырьмя тысячами червонцев. Судьба его казалась многим легендарной: лишь два года тому назад он сидел арестованный под крепким караулом в главном штабе по делу о 14 декабря и был на сильнейшем подозрении у самого царя. А 14 апреля 1828 года он был назначен полномочным посланником российского императора в Персии. Несмотря на служебные хлопоты в связи с высоким назначением, автор «Горе от ума», как поэт и музыкант, широко общался с артистическими кругами столицы.
После десятилетней разлуки «персидский Грибоедов» показался Пушкину сильно изменившимся, он обгорел под южным солнцем, пожелтел от лихорадки, утратил живую веселость взгляда «Я там состарился, — говорил он друзьям о своем пребывании в Тегеране, — не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости» Это был близкий Пушкину герой его поколения, как Чаадаев и Александр Раевский, человек выдающегося ума, с охлажденными чувствами. «Это один из самых умных людей в России, — говорил о нем Пушкин Ксенофонту Полевому. — Любопытно послушать его».
В доме издателя «Отечественных записок» Грибоедов в присутствии Пушкина читал отрывок из своей новой трагедии «Грузинская ночь». Автора «Бориса Годунова» должна была заинтересовать общность их творческих исканий это была романтическая трагедия на основе народных сказаний Грузии, оформленная по законам «отца нашего Шекспира», особенно же его «Макбета» Некоторые слушатели этой последней драмы Грибоедова считали, что, если бы эта вещь «была так окончена, как начата, она составила бы украшение европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина…»
Вскоре Грибоедов услышал авторское чтение «Бориса Годунова». Оно происходило 16 Мая в особняке графини Лаваль, рядом с сенатом. Знаток, русской истории сказался в отзыве драматурга о новой трагедии. «Грибоедов критиковал мое изображение Иова», писал Пушкин Раевскому, признавая правильность возражения и свой «недосмотр в трактовке исторического лица».
Произошло и некоторое сотрудничество Грибоедова с Пушкиным. Оба они общались в то время с молодым музыкантом Глинкой, «одним из первых наших пианистов» (говорили о нем в конце двадцатых годов). По приезде в Петербург Пушкин слушал его импровизацию, подробно описанную Керн: «У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки…» Замечательный музыкант, Грибоедов сообщил Глинке тему одной грузинской песни, которую композитор стал разрабатывать на рояле. Мотив увлек Пушкина; он «нарочно под самую мелодию» написал слова:
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной…
Совместное творчество Грибоедова, Глинки и Пушкина создало один из прекраснейших русских романсов.
Вскоре Грибоедов простился с Пушкиным. Новый пост предвещал министру-резиденту в Персии неминуемую катастрофу. Как первоклассный дипломат, Грибоедов безошибочно предвидел, что персидское правительство жестоко отомстит ему за Туркманчайский договор. «Он был печален и имел странные предчувствия, — записал впоследствии Пушкин. — Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-l?: vous verrez, qu’il faudra jouer des couteaux»[54].
Это был последний разговор двух поэтов, но по случайному совладению обстоятельств не последняя их встреча.
На чтении «Бориса Годунова» у Лаваль присутствовал Мицкевич. Возникшая в Москве дружба с Пушкиным по. лучила теперь заметное развитие и углубление.
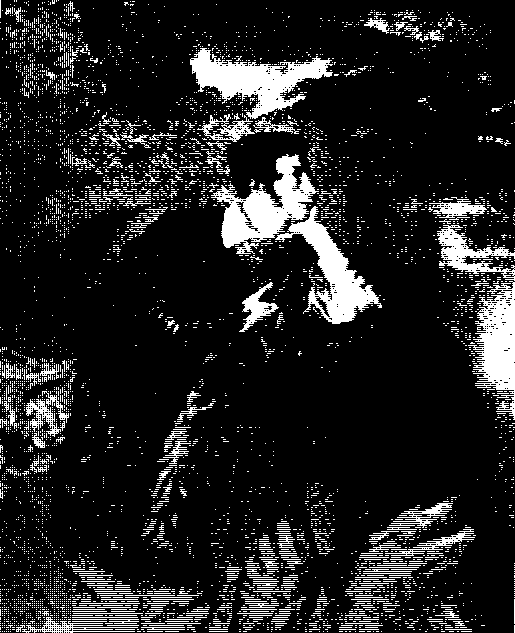
Адам Мицкевич (1798–1855).
С рисунка Ваньковича.
Впоследствии Мицкевич, вспоминая свои беседы с Пушкиным, отметил близость русского поэта к писателям передового Запада. «Что делалось в его душе? — спрашивает Мицкевич о Пушкине конца двадцатых годов. — Зрел ли там, в глубине, тот дух, что живет в творениях Манцони или Пеллико, оплодотворяет размышления Томаса Мура? Может быть, мысль его работала, чтобы воплотить в себя идеи Сен-Симона, Фурье? Не знаем. В его воздушных стихах, в его разговорах обозначались уже следы обоих направлений».
В Демутовом трактире Мицкевич однажды импровизировал Пушкину на большую социальную тему — о будущем соединении всех народов в одну братскую семью. Польский поэт, призывавший на французском языке русских писателей — Пушкина, Вяземского, Плетнева — противопоставить вражде государств дружбу наций, выражал своей поэтической проповедью великую идею международного братства. Импровизация произвела сильнейшее впечатление на слушателей и надолго запомнилась. О ней Пушкин упоминает в своих знаменитых стихах 1834 года:
…Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта…
Беседы их касались и других исторических тем. В стихотворении «Памятник Петра Великого» Мицкевич дал знаменитое описание дождливых сумерек на Сенатской площади, когда два поэта, прикрывшись одним плащом, стояли у Фальконетова монумента:
Сгущалась ночь над Петроградом.
Под острым ветром и дождем
Два юноши стояли рядом,
Одним окутаны плащом
И взявшись за руки. Безвестен
Был первый, с Запада пришлец
Глухая жертва царской мощи
Другой — по странам полуноща
Гремел гармониею песен —
Народа русского певец.
Они недавно подружились,
Но быстро души их сдружились,
Как две альпийские скалы…
В этом стихотворении Мицкевич описывает сокрушительную скачку царского коня к обрыву пропасти: «Но в эти мертвые пространства, — Лишь ветер Запада дохнет, — Свободы солнце всем блеснет — И рухнет водопад тиранства…» Тема Петра в этот необычайный петербургский вечер волновала мысль обоих поэтов. Оба в то время обращались к истории. «Тогда много толковали о местном колорите, — вспоминал впоследствии Мицкевич, — об историческом изучении, о необходимости воссоздавать историю в поэзии».
В России Мицкевич усиленно работал над своей поэмой «Конрад Валленрод». Этот борец за освобождение Литвы от прусского ига рано стал образцом для поэта. Еще находясь в заточении, в келье Базильянского монастыря, превращенного царскими агентами в тюрьму, Мицкевич записал в своем дневнике: «Первого ноября во мне умер мечтатель Густав и родился боец Конрад». Через пять лет, в феврале 1828 года, поэма о Валленроде вышла в свет в Петербурге. Она вызвала всеобщее признание в русских литературных кругах. Пушкин сейчас же поручил изготовить для себя подстрочный перевод поэмы, чтобы «в изъявление своей дружбы к Мицкевичу перевести всего Валленрода». Уже в марте он приступил к работе и перевел все вступление:
Сто лет минуло, как Тевтон
В крови неверных окупался…
Пушкин замечательно передал и сочувствие автора к «литовцам юным», оберегавшим заповедные рощи на правом берегу Немана, и вражду поэта к немецким крестоносцам. Но он не смог «подчинить себя тяжелой работе переводчика» и остановился на вступлении.
Самый жанр исторической поэмы в романтическом стиле, блестяще разработанный Мицкевичем, впервые обращает и Пушкина к этому роду. В 1828 году он приступает к разработке замысла, давно уже привлекавшего его, именно к этому времени относятся первые наброски «Полтавы». Тема «Конрада Валленрода» отчасти отразилась на трактовке образа Мазепы — «изменника Петра перед его победою, предателя Карла после его поражения». Пушкин однажды «объяснял Мицкевичу план своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желаньем передать ему свои идеи старался показать что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица».
К этому образу уже обращались любимые европейские поэты Пушкина: Вольтер в «Истории Карла XII» и Байрон в поэме «Мазепа». Их традицию обновил в 1824 году Рылеев, изобразив знаменитого гетмана, в противовес официальной трактовке его личности, в виде народного героя и отважного предводителя в «борьбе свободы с самовластием». Пушкин не согласился с этой концепцией: он возражал против тенденции некоторых изобразителей Мазепы «сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого».
Побежденному мятежнику Пушкин противопоставляет подлинного строителя новой государственности — Петра. Это соответствовало преклонению декабристских кругов перед личностью реформатора. «Петр, слава русского имени», писал Николай Тургенев. «Россия обязана вечной благодарностью Петру I». «Мы прославляем патриотизм Брута, но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву отечеству».
Такая оценка вполне соответствовала представлению Пушкина о Петре. Он обратился к поэме для прославления «героя Полтавы», уже очерченного в набросках романа о Ганнибале.
Историческая тема для своего воплощения требовала у Пушкина любовной фабулы. Верный формуле Вальтера Скотта, он строил художественную историю на развертывании похождения двух влюбленных в условиях бурной политической эпохи. Так подошел он и к теме Мазепы и Карла. Обольщение гетманом дочери Кочубея представилось Пушкину «разительной чертой» и «страшным обстоятельством». От семейной драмы композиция поэмы ведет к политическим конфликтам: от сватовства Мазепы, отказа родителей и похищения Марии к мести оскорбленного отца, доносу Петру, пытке и казни Искры и Кочубея. Смутный бендерский замысел поэмы о гетмане начал теперь слагаться в романическую композицию. Владея нитью сюжета, Пушкин приступил к своей «петровской» поэме. Через две-три недели «Полтава» была написана.
Но романическая тема, столь глубоко разработанная В южных поэмах Пушкина и в «Онегине», не получила в «Полтаве» углубленного развития[55]. Она носит здесь явно служебный характер, призванная только связать и объединить самоценные для поэта исторические образы и картины для придания им необходимой композиционной цельности. Перефразируя известный афоризм Дюма, можно было бы сказать, что роман Марии и Мазепы является для Пушкина тем гвоздем, на который он вешает свою историческую баталию. Весь смысл и ценность сюжета для него — в петровской эпохе, в политической борьбе Швеции, Украины и России, в образах Петра, Карла, Мазепы — в Полтаве, Бендерах и будущем Петербурге «Медного всадника», уже прозреваемом в эпилоге поэмы 1828 года. Пушкин в «Полтаве» прежде всего — поэт-историк. Драматизм и живописность даны здесь в конфликте государств, армий, наций. Героем поэмы является не Мазепа и Мария, даже не Петр и не Полтава, как плацдарм для исторического боя, а целая эпоха великих преобразований —
Та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
В этом центральный замысел и патетика поэмы. Пушкин, как исторический живописец, в ней необычайно вырастает сравнительно с «Русланом» и «Бахчисарайским фонтаном». Это крупный этап на пути эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям тридцатых годов. Гений Пушкина-историка также «мужал» и вырастал из пленявшей его еще недавно формы байронической поэмы. Поэт словно торопится отойти от романической фабула, чтобы полным голосом заговорить там, где в сюжет его вступает история, подлинная вдохновительница его замысла.
Стих его сразу достигает необыкновенной энергии и выразительности, как только большая государственная тема, оттесняя любовную фабулу, начинает вести его поэму.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны.
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Фигуры исторических деятелей писаны смелой и сочной кистью. Петр I дан последовательно — в утро сражения, в полдень перед боем и вечером в шатре. Три сжатых зарисовки незабываемыми чертами фиксируют во весь рост историческую фигуру. Изображение намеренно выдержано в стиле придворного портрета XVIII века с его торжественностью, героичностью, хвалебностью и апофеозом, но замечательный мастер исторической живописи сквозь все атрибуты парадного стиля дает ощущение живой фигуры, дышащей энергией и силой.
Так же выразительны облики Карла XII, Мазепы, Кочубея, Палея, Орлика, резко выделяющие характерные и крупные черты исторических лиц.
Обращаясь к теме петровской эпохи, Пушкин замечательно выдерживает ее в стиле искусства того времени е его декоративной торжественностью, победной орнаментикой, грузной пышностью триумфальных арок и общим художественным принципом тяжеловесных форм, брошенных в стремительный круговорот. Пейзаж в «Полтаве» заметно отличается от картин Тавриды и Бессарабии в южных поэмах Пушкина. Художник кровопролитной эпохи Северной войны любил оживлять холмы и до лы воинственными деталями сражений. Война диктовала живописцу петровской эпохи темы для государственных эмблем и требовала от искусства воинствующих аллегорий и ратных сцен. Этому стилю соответствуют в «Полтаве» звенящие гудом сражений строфы о бранном звоне литавр и кликах —
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки…
Полного расцвета этот стиль достигает в превосходной картине Полтавского боя, выдержанной в манере старинной батальной живописи. Это особый военный жанр, парадный, синтетический, намеренно театральный и при этом гравюрно точный во всех деталях. Это героический спектакль сражения с аксессуарами знамен, орудий, дымящихся жерл и катящихся ядер, среди смыкающихся ратей и гарцующих полководцев с протянутыми саблями и фельдмаршальскими жезлами в руках. Это сама сущность искусства эпохи Карла и Петра — массивность и движение. У Пушкина «тяжкой тучей» срываются «отряды конницы летучей», «шары чугунные повсюду — Меж ними прыгают, разят, — Прах роют и в крови шипят». Динамика и тяжеловесность господствуют в описании Полтавского боя.
Старинные литераторы отмечали в своих записках, что в XVIII веке поэзия тянулась за живописью, и такие авторы, как Державин и Дмитриев, увлекались передачей в поэзии картин и красок. Сражение со шведами в «Полтаве» также выдержано в традиции старинных баталистов[56]…
И в соответствии с этим, порывая с элегическим стилем романтической поэмы, Пушкин обращается к старинным хвалебным одам на взятие крепостей или прославление победоносных полководцев, намеренно вводя в свои описания ломоносовские формулы.
Все это дает поразительное ощущение эпохи в ее конкретных проявлениях и формах. В «Полтаве» Пушкин изображает сражение, как большое и торжественное зрелище, протекающее по точному плану знаменитых полководцев. Полтавский бой начинается «звучным гласом Петра», и, развернувшись во всех эволюциях, он завершается заздравным кубком, поднятым в царском шатре за «славных пленников». Это почти празднество. Победоносный Марс выступает в блеске своих трофеев. Госпиталей не видно. Есть героическая симфония войны и триумфальная арка герою Полтавы. И в соответствии со всей великолепной фреской торжественно и мощно звучат стихи о «гражданстве северной державы», поднимая романтическую поэму до масштабов большой эпопеи в рельефном и монументальном стиле русского барокко[57].
К моменту написания «Полтавы» Пушкин получил неожиданную весть из дальней Сибири от Марии Волконской. Еще в январе 1828 года, узнав о смерти ее двухлетнего мальчика, оставленного у родственников в Петербурге, поэт послал в Читинский острог свою «Эпитафию младенцу Волконскому» — сердечный привет друга сибирскому каторжнику и его героической спутнице.
До поэта дошел теперь отрывок женского письма: «В моем положении никогда не знаешь, доставишь ли удовольствие, напоминая о себе старым знакомым. Но все же напомните обо мне Александру Сергеевичу. Прошу вас передать ему выражение моей благодарности за эпитафию Николино; умение утешить скорбь матери лучшее доказательство его таланта и сердечной чуткости».
Несколько строк, в которых чувствовалось сдержанное волнение, вызвали ответную творческую реакцию. Поэт решил посвятить свое новое создание «Полтаву» — Марии Волконской 27 октября было написано посвящение к поэме.
Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Это одна из прекраснейших страниц пушкинской лирики по глубине затаенного в ней чувства. В краткой элегии отражены этапы необычных отношений — далекий Крым (непризнанная любовь), прощание в Москве («последний звук твоих речей») и, наконец, «Сибири хладная пустыня…»
Посвящение «Полтавы» было написано 27 октября в имении Алексея Вульфа Малинниках Тверской губернии, куда Пушкин выехал из Петербурга по окончании своей поэмы. Здесь его внимание привлекла скромная и милая русская девушка — Маша Борисова. Мимолетная встреча оставила заметный след в творческой памяти поэта и отпечатлелась впоследствии в образе Маши Мироновой в «Капитанской дочке» (в черновых планах к роману невеста Гринева носит имя Марии Борисовой).
Пушкин слегка увлекся этой сиротой, жившей в семье тверских Вульфов, дружившей с такой же смиренной девушкой-поповной» Катей Смирновой «Доношу вам, что, Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, — писал Пушкин 27 октября 1828 года А. Н. Вульфу из Малинников, — и что я намерен на днях в нее влюбиться». Полушутливое намерение было, видимо, приведено в исполнение, так как вскоре Алексей Вульф отмечал в своем дневнике. «Машенька Борисова, прошлого года мною совсем почти незамеченная, теперь заслужила моё внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу». Но в настоящую славу Пушкин ввел ее только через восемь лет, увековечив образ этой привлекательной провинциальной девушки в своем знаменитом историческом романе.
Сохранилось живое свидетельство и о впечатлении, какое Пушкин производил на этих «уездных барышень». В то время, как Ксенофонт Полевой нашел Пушкина в 1828 году «по наружности истощенным и увядшим», с резкими морщинами на лице, «поповна» Катя Смирнова выносит совершенно иное впечатление: «Пушкин был очень красив; рот у него был прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание… Показался он мне иностранцем, танцует, ходит как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает; весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках…» Это один из лучших мемуарных портретов Пушкина, простодушно зачерченный его сельской знакомкой 1828 года.

Елизавета Ушакова (1810–1872).
С акварели Вивьена (1833). Владелица «ушаковского альбома» с рисунками Пушкина.
Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была…
(1829)
Разъезды по северным уездам вводят в поэзию Пушкина новую тему — большую русскую дорогу. В конце двадцатых годов, а затем и в тридцатые годы, в его лирике, новелле, романе начинал звучать мотив примитивного путешествия на почтовых и перекладных по размытым трактам, вдоль полосатых верст, шлагбаумов с инвалидами и станционных домиков с их забитыми смотрителями. Этой докучной теме «дорожных жалоб» придает неожиданный драматизм главная угроза зимних поездок — метели. С исключительной силой раскрыты тоска и тревога путника, захваченного снежной бурей, в знаменитых «Бесах» (1829 г), где мотив народных поверий, простодушно высказанный ямщиком («в поле бес нас водит видно»), вырастает в жуткую звуковую и зрительную картину зимней вьюги, сказочно одушевленной диким хороводом бесовских орд. Это один из гениальнейших опытов Пушкина в плане переработки фольклорной фантастики, развернутой здесь на привычном фоне зимнего пейзажа северных равнин.
В начале декабря Пушкин уже был в Москве. Недолгое пребывание в ней оказалось на этот раз переломным в его «изменчивой судьбе» и определило все дальнейшее направление его жизни.
Вскоре после приезда на одном из балов Пушкин увидел девушку замечательной красоты. Это была шестнадцатилетняя Наталья Гончарова, которую только что начали вывозить в свет. Классическая правильность ее черт и глубокая задумчивость взгляда производили на всех неотразимое впечатление; в ней вскоре стали отмечать «страдальческое выражение лба» и особый характер «красоты романтической». Такая внешность всегда увлекала Пушкина (как это явствует из его стихов, посвященных Керн и Олениной: «гений чистой красоты», «ангел Рафаэля» и пр.) Но в Гончаровой этот тип достигал высшей выразительности. Трогательная элегичность выражения придавала ей сходство с итальянскими мадоннами (так названа она в знаменитом сонете, ей посвященном). «Голова у меня закружилась», писал впоследствии Пушкин, вспоминая этот декабрьский вечер 1828 года.
«Страдальческое выражение лба» не было случайной деталью этого точеного облика. Красавица-девушка росла в тяжелой обстановке. Огромное состояние калужских купцов и заводчиков Гончаровых было вконец промотано дедушкой Афанасием Николаевичем. Это ставило всю семью в трудное и ложное положение. Отец прелестной Натали, Николай Афанасьевич Гончаров, с ранних лет страдавший меланхолией, впоследствии заболел острой формой умопомешательства с буйными припадками и неистовыми криками по ночам. До шести лет Наталья Николаевна росла у дедушки на Полотняных заводах, а затем попала в тяжелую обстановку московского родительского дома, где детей приходилось подчас удалять в мезонин с железными дверями, чтобы обезопасить от диких припадков отца. Мать семьи, Наталья Ивановна, отличалась в молодости замечательной красотой (судя по сохранившейся миниатюре) и даже отвоевала у императрицы Елизаветы Алексеевны ее возлюбленного Охотникова; с годами она стала невыносимым деспотом и наводила своим взбалмошным характером трепет на всю семью. По фамильным преданиям, «в самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых». Характеру младшей это сообщило черты замкнутости и робости, рано подмеченные Пушкиным; но, судя по ее сохранившимся письмам (более позднего периода), она проявляла большую сердечность к близким, много душевного тепла и внимания к ним. Эти документы семейной переписки опровергают традиционное мнение о Наталье Николаевне, как о пустой и бездушной женщине, и объясняют тот искренний тон привязанности и теплой дружбы, которым неизменно проникнуты все письма поэта к жене.
Познакомившись с Гончаровыми, Пушкин начал бывать в их доме, где молодое поколение относилось к знаменитому автору с живейшим интересом, а одна из дочерей, восемнадцатилетняя Александра, по преданию, знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Но бедная девушка была некрасива и не могла претендовать на успех у поэта. Мать семьи нисколько не разделяла восхищения своих дочерей Пушкиным: в качестве соперницы Елизаветы Алексеевны она относилась с благоговением к личности Александра I, историю которого Пушкин в те годы собирался писать «пером Курбского», то-есть в резко памфлетическом тоне. Насквозь проникнутая ханжеством, вечно окруженная монахинями и странницами, помешанная на церковной обрядности, она не выносила вольнодумных речей и скептических острот своею будущего зятя. Что же касается младшей дочери, то она была чрезвычайно застенчива, «скромна до болезненности», «тиха и робка». Успех у знаменитого писателя (по позднейшему свидетельству ее дочери) подействовал на нее подавляюще. «Я надеюсь приобрести ее расположение со временем, но во мне нет ничего, чем бы я мог ей нравиться», таково было мнение самого Пушкина.
Но и его отношение к шестнадцатилетней девушке было полно застенчивости, робости и благоговейного восхищения. Он, как художник, преклонялся перед такой совершенной красотой в жизни, воспринимал ее, как явление из мира искусства. Недаром его первое посвящение невесте отрывается такой характерной «артистической» строфой:
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
На первых порах Пушкин полон нерешительности, весь погружен в созерцание, мечтает навсегда остаться зрителем «одной картины…»
Тем не менее, в конце апреля 1829 года он просит Толстого-Американца (с которым помирился к тому времени) быть его сватом у неприветливой и строгой Натальи Ивановны. 1 мая Толстой сообщает ему дипломатическую резолюцию матери-Гончаровой, оставляющую вопрос вполне открытым. «Этот ответ не есть отказ, — писал ей в тот же день Пушкин. — Вы позволяете мне надеяться». Но ответ все же не был согласием. Пушкин счел необходимым поступить так, как это принято при отказе: в тот же день он выехал из Москвы в далекую Грузию, где уже второй год шла война России с Турцией.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Палеонтологическая поэма
Палеонтологическая поэма Долгожданная встреча с женой, с сыном — уже тринадцатилетним подростком. Проявка фотографий, рассказы о путешествии по Сухоне, о городке Тотьме, о знакомых местонахождениях на реках Шарженьге и Ветлуге, о новых находках у деревни Притыкино и на
О Петре Губере и его книге
О Петре Губере и его книге «Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях, — обычная поза биографов. Чтобы понять его, нужно к нему подходить не с благоговейным трепетом поклонника, а с не смущающейся смелостью
Глава девятая Россия при Петре II
Глава девятая Россия при Петре II Отсутствие специальных исследований, освещающих историю России в царствование Петра II (если не считать безнадежно устаревшей монографии К. Арсеньева, опубликованной в 1839 году), неудивительно. В это трехлетнее царствование не произошло
Поэма Ахмадулиной
Поэма Ахмадулиной Вскоре после высылки Сахарова ко мне во дворе подошла Белла Ахмадулина с вопросом: «Что делать?» Что она лично может сделать в этом случае? Я никогда не был и не хотел быть агитатором и не стал ее ни к чему призывать. Она спросила: может быть, ей поехать в
О Петре Тодоровском
О Петре Тодоровском С Петей Зяма познакомился очень просто. Тодоровский решил ставить фильм по сценарию Александра Володина под названием «Загадочный индус» (картина потом получила название «Фокусник»). Выбрав Зяму на роль сатирика (ту, что потом сыграл Владимир Басов),
«Поэма без героя»
«Поэма без героя» Анна Андреевна Ахматова:Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 года), а конница лавой неслась по мостовой, то ли… когда
Поэма «Пугачев»
Поэма «Пугачев» Возвратившись из Туркестана, С. Есенин продолжал работать над поэмой «Пугачев», которую в июне прочитал в «Стойле Пегаса». Пришлось не только зачитать текст поэмы, но и изложить присутствующим режиссерам, артистам и публике свою точку зрения на
Поэма в рукописи
Поэма в рукописи Н. В. Гоголь – С. Т. Аксакову Рим, 28 дек. 1840 г.…Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых Душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее
1. Поэма «Хлеб»
1. Поэма «Хлеб» Этот год был насыщен поездками, выступлениями, творческими переживаниями. Алексей Иванович ждал приближения сорокалетия, как чего-то мистического. Он говорил друзьям, что с сорока лет прекратит сочинять песни и займется только поэмами. И вот этот возраст
Первая поэма
Первая поэма Весной 1915 года из Москвы в Петроград приехал Сергей Есенин. Он разыскал Александра Блока, пришёл к нему и прочёл свои стихи, которые были встречены с восторгом. Блок познакомил талантливого стихотворца с молодыми петроградскими поэтами. Был среди них и
Вторая поэма
Вторая поэма Кроме чертёжных занятий осенью 1915 года у Маяковского было ещё одно чрезвычайно важное дело – он сочинял стихи, посвящённые даме его сердца. Они сначала так и назывались – «Стихи ей». Лили Брик рассказывала, что писались они…«… медленно, каждое
Кирилл Пирогов. «Никто никогда не мог понять Петре Наумовиче…»
Кирилл Пирогов. «Никто никогда не мог понять Петре Наумовиче…» …Странно вспоминать сейчас… Есть ощущение, что все продолжается, а получается, что становится прошлым, прошедшим, невозвратным… А ведь это не так– оно же на самом деле есть! Все эти годы во мне перманентно
Новая поэма
Новая поэма 1920 год биографы Маяковского описывают по-разному. Виктор Шкловский, например, уделил внимание довольно мелкому бытовому событию – бритью, для которого Владимир Владимирович брал бритву «жилет» у соседей:«Идёт, позвонит, побреется и вернёт.Но бритвы