Глава 1 Детство
Глава 1
Детство

В 1428 году дон Якопо Казанова, родившийся в Сарагосе, столице Арагона, и служивший секретарем короля дона Альфонсо, выкрал из монастыря донью Анну Палафокс в тот самый день, когда дала она обет пострижения. Они бежали в Рим, где после года, проведенного в тюрьме, была освобождена она от обетов и получила благословение на брак от Мартина III, что свершилось по настоянию дона Джованни Казановы, магистра святого престола. Все дети, родившиеся в этом браке, умерли в младенчестве. Все, кроме дона Джованни, что в 1475 году женился на Элеоноре Альбини, от коей имел сына по имени Марк-Антонио.
В 1481 году дон Джованни был вынужден покинуть Рим, оттого что убил офицера королевской армии. С женой и сыном бежал он в Комо, а оттуда отправился искать счастья по белу свету. Умер он в 1493 году, во время путешествия с Христофором Колумбом.
Марк-Антонио стал хорошим поэтом, он писал стихи в духе Марциала[3] и был секретарем кардинала Помпео Колонны. Сатира на Джулио де Медичи, разбросанная всюду в его стихах, вынудила его покинуть Рим. Вернувшись в Комо, женился он на Абондии Реццонике.

Джулио де Медичи, став папой Климентом VI, простил его и позволил им вернуться в Рим, где после взятия и разграбления города имперскими войсками[4] в 1526 году Марк-Антонио умер от чумы. В противном случае умер бы он от нищеты, ибо солдаты Карла V забрали у него все, чем он владел.
<…>
Через три месяца после его смерти вдова родила Джакопо Казанову, что дожил до старости и умер во Франции в чине полковника армии Фарнезе, воевавшей против Генриха, короля наваррского, а затем французского. У него был сын, живший в Парме, что в 1680 году взял в жены Терезу Конти, от коей имел сына Джакопо, женившегося в году 1680-м на Анне Роли. Сей Джакопо имел двоих сыновей, старший из которых, Дж. Батиста, уехал из Пармы в 1712 году, и что с ним сталось – неведомо. Младший, Гаэтано Джузеппе Джакопо, также покинул родительское гнездо в 1715 году в возрасте девятнадцати лет.
Это все, что я нашел в архивах моего отца. От матери я узнал следующее: Гаэтано Джузеппе Джакопо покинул семью, увлекшись прелестями актрисы по имени Фраголетта, что играла роли субреток. Влюбленный, не имея средств к существованию, он решился зарабатывать на жизнь собственными силами. Он посвятил себя танцу и уже пять лет спустя играл в театре, отличаясь скорее добрым нравом, чем талантом.
То ли по легкомыслию, то ли из-за ревности он оставил Фраголетту и отправился в Венецию в труппе комедиантов, что стали играть на сцене театра Сан-Самуэле. Напротив его дома жил сапожник по имени Джеронимо Фарусси с женой Марсией и единственной дочерью Занеттой, шестнадцати лет от роду и красоты немыслимой. Молодой актер влюбился в сию девицу, сумел добиться взаимности и уговорил бежать с ним. Будучи актером, он не мог надеяться на согласие ни матери ее Марсии, ни, тем более, отца Джеронимо, что испытывал к молодому актеру чувство неприязни. Молодые влюбленные, прихватив необходимые документы и двоих свидетелей, предстали перед епископом Венеции, что благословил их союз. Марсия, мать девушки, разразилась криками и слезами, а отец вскоре умер от горя. Я родился от этого брака по истечении девяти месяцев, 2 апреля года 1725-го.
Через год моя мать вверила меня своей; та простила ее, потребовав сначала, чтобы отец пообещал никогда не допускать ее на сцену. Именно это обещание обычно все комедианты дают дочерям буржуа, с которыми вступают в брак, и которое они никогда не выполняют, ибо и сами жены не очень заботятся о соблюдении этих обещаний. Моя мать была весьма рада, что стала актрисой, ибо в противном случае, когда девятью годами позже она овдовела, оставшись с шестерыми детьми на руках, ей недостало бы средств, чтобы нас вырастить.

Итак, мне был лишь год, когда родители оставили меня в Венеции, отправившись в Лондон играть в театре. В этом блестящем городе мать впервые вышла на сцену и там же в 1727 году родила моего брата Франческо, ставшего впоследствии известным художником-баталистом; с 1783 года жил он в Вене, занимаясь там своим ремеслом.
Родители вернулись в Венецию в конце 1728 года, и мать, поелику уж стала актрисой, так ею и осталась. В 1730 году родился мой брат Джанни, что прожил в Дрездене на службе у курфюрста в должности директора Академии живописи. Там же он и умер в конце 1795 года. В течение следующих трех лет она родила двоих дочерей: одна умерла в младенчестве, а другая вышла замуж в Дрездене, где живет и поныне[5]. У меня был другой брат, родившийся после смерти отца; тот стал священником и умер в Риме пятнадцать лет назад.
Вернемся же к началу моего сознательного существования. Я не помню решительно ничего, что было со мной до начала августа 1733 года: мне тогда было восемь лет и четыре месяца. Вот первое воспоминание в моей жизни. Я стою в углу комнаты, прижавшись головой к стене, и смотрю на кровь, хлещущую из носа на пол. Ко мне подбегает Марсия, горячо любящая меня бабушка, обмывает мне лицо холодной водой, тайком от всех усаживает меня в гондолу, и мы плывем в Мурано. Это весьма населенный остров в получасе езды от Венеции.
Выйдя из гондолы, мы входим в какую-то бедную лачугу, где на убогом ложе сидит некая старуха. На руках у нее черная кошка, а в ногах вертятся еще пять или шесть других. Это была колдунья.
Бабка моя и та старуха завели долгую беседу, предметом которой, по всему видать, был я. Говорили они на аквилейском просторечии[6], и все кончилось тем, что колдунья, получив от бабушки серебряный дукат, открыла большой сундук и посадила меня туда, без конца повторяя, что бояться не надо. Одного этого предупреждения вполне хватило бы, чтобы нагнать на меня страх, если бы я хоть что-нибудь соображал. Но я уже настолько отупел, что преспокойно устроился в уголке сундука, прижимая платок ко все еще кровоточащему носу, и остался совершенно безучастен к поднявшемуся снаружи грохоту: я слышал попеременно хохот, плач, пение, крики и удары по крышке сундука – мне было все равно. Наконец меня вытащили, кровотечение остановилось. И вот странная эта женщина целует меня, раздевает, укладывает на кровать, возжигает куренья, пропитывает дымом простыню, в которую меня закутывает, и бормочет заклинания. Затем, сняв с меня простыню, дает мне проглотить пять очень приятных на вкус пилюль. Потом она натирает мне виски и затылок ароматной мазью и одевает. Она говорит мне, что кровотечения мои мало-помалу прекратятся, ежели только никому не буду рассказывать о том, как излечился, но коли я проговорюсь кому-либо о ее священнодействиях, из меня вытечет вся кровь, и я умру. После таковых наставлений она предуведомила меня, что следующей ночью ко мне придет одна прекрасная дама, от которой зависит мое благополучное выздоровление. Ее ночное посещение нужно также хранить в тайне. С этим мы и возвратились домой.

Едва очутившись в постели, я тут же заснул, напрочь забыв об обещанном приятном визите. Но, проснувшись через несколько часов, я увидел – или вообразил, что вижу, – ослепительную женщину, спускавшуюся через дымоход. На ней были великолепные одежды, а корона на голове была усеяна каменьями, сверкавшими, как показалось мне, огненными искрами. Медленно приблизилась она к моей кровати и присела в моих ногах. Приговаривая какие-то слова, извлекла она из складок своего платья какие-то маленькие коробочки и высыпала их содержимое мне на голову. Потом она долго говорила мне что-то, я не понял ни слова. Наконец, нежно поцеловав меня, она исчезла тем же путем, каковым явилась. И я снова погрузился в сон.

Наутро бабушка, едва войдя в мою комнату, стала говорить о молчании, кое мне надлежит хранить. Она предрекала мне смерть, коли я осмелюсь заговорить с кем-нибудь об этом ночном визите. Бабушка была единственной женщиной, коей я безгранично верил и чьи приказания слепо исполнял. Едва лишь произнесла она сей приговор, ночное видение снова вспомнилось мне, но я отложил его в самых тайных уголках моего едва пробудившегося сознания. Впрочем, я и не стремился никому об этом рассказывать. Во-первых, потому, что не видел в том ничего примечательного, а во-вторых, и рассказывать-то было некому: болезнь сделала меня мрачным и необщительным, все меня только жалели и не воспринимали всерьез: считалось, что я не жилец на этом свете. Что же касается отца и матери, то они никогда и не говорили со мной.
Рассказ Казановы производит впечатление широкой быстро текущей реки, которая неудержимо влечет воображение, хоть раз отдавшееся ее волнам… Среди этих быстрых, сжатых, крепко сцепленных одна с другой строк некогда перевести дыхание.
П. П. Муратов. «Образы Италии»
После поездки в Мурано и ночного визита феи кровотечения уменьшались день ото дня, и так же быстро развивалась память. Меньше чем за месяц я выучился читать. Было бы нелепо приписывать мое выздоровление сим чудесам; однако я полагаю также, что неверно было бы вовсе отрицать их действие. Что до явления волшебной феи, я всегда полагал его сновидением, если только не нарочно устроенным маскарадом. Правда и то, что у аптекарей не от всех тяжелых болезней есть лекарства. Каждый день какое-нибудь открытие показывает нам всю величину нашего неведения. Думаю, что именно по сей причине трудно сыскать на свете образованного человека, чей разум был бы полностью свободен от суеверий. Конечно, на белом свете нет и никогда не было никаких волшебников, но их сверхъестественные силы и чудеса и поныне существуют для тех, кого ухитрились они убедить в своем существовании. <…>
Второе мое воспоминание, о котором хочу рассказать, произошло со мной через три месяца после поездки на Мурано, за шесть недель до смерти отца. Я расскажу о нем читателю, чтобы дать представление о том, как развивался мой характер.
Как-то раз, где-то в середине ноября, я сидел с братом Франческо, моложе меня на два года, в комнате отца, внимательно наблюдая за его занятиями оптикой.
Заметив на столе большой круглый кристалл, сверкающий всеми своими гранями, я был очарован; поднеся его к глазам, увидел я все предметы увеличенными. Улучив момент, когда на меня никто не смотрел, я положил его в карман.
Три или четыре минуты спустя отец встал, чтобы взять кристалл, и, не найдя его, сказал, что его забрал один из нас. Мой брат заверил его, что ему про то ничего не ведомо, и я, хоть и сознавал свою вину, сказал то же самое. Он пригрозил нас обыскать и выпороть лжеца. Сделав вид, что по всем углам ищу кристалл, я ловко сунул его в карман брата. И сразу пожалел об этом: мне следовало бы сделать вид, что я его нашел, но дурное дело было уже сделано. Отец, устав от наших бесплодных поисков, обыскивает нас, находит кристалл в кармане невинного брата и налагает на него обещанное наказание. Три или четыре года спустя я имел глупость похвалиться брату, что проделал такую штуку. Он никогда мне этого не простил и впредь не упускал случая отомстить.
На общей исповеди, сообщив духовнику об этом преступлении со всеми подробностями, я обогатился знаниями, что доставило мне удовольствие. Духовником был иезуит. Он сказал мне, что, поелику зовут меня Джакомо, этим действием я подтвердил смысл своего имени, ибо Иаков по-древнееврейски означает следующий по пятам[7]. <…>
Для нас его книга драгоценна, ибо пробуждает в нас то «сочувствие», которое является целью всякого художественного произведения. Эту жизнь и судьбу мы переживаем со всем цветом и всей звучностью, вложенными в рассказ старого авантюриста. Во всех его приключениях нет ничего необыкновенного, кроме необыкновенности питавшего его внутреннего жара. По существу же все просто и человечно у Казановы, все лежит в кругу наших мыслей и чувств. И в истории его жизни мы часто узнаем страницы своей истории, вечной истории человеческой жизни.
П. П. Муратов. «Образы Италии»
Через шесть недель после этой истории моего отца сразил абсцесс среднего уха, что за восемь дней свел его в могилу. Врач Замбелли, после того как прописал пациенту закрепляющее снадобье, вознамерился исправить свою ошибку с помощью бобровой струи[8], что и свело отца в могилу: он умер в конвульсиях. Абсцесс прорвался через ухо через минуту после его смерти; врач удалился после убийства, как если бы не имел ничего с этим общего. Отец был в расцвете лет: ему было тридцать шесть. Он умер, оплакиваемый всеми и, прежде всего, благородным сословием, которое воздавало ему похвалы как в отношении его нрава, так и познаний в механике. За два дня до смерти он захотел видеть всех нас около своей постели и в присутствии своей жены и господ Гримани, венецианских нобилей, призвал их быть нашими покровителями[9].

После того, как он дал нам свое благословение, он заставил нашу мать, заливавшуюся слезами, обещать ему, что она не направит никого из детей в театр, куда он бы сам никогда не пришел, если бы его не заставила несчастная страсть. Она поклялась ему в этом, и три патриция гарантировали ему нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли ей исполнить свое обещание[10].
Моя мать, будучи на шестом месяце, была освобождена от игры на сцене вплоть до Пасхи. Молодая и красивая, она отказывала в своей руке всем претендентам. Не теряя мужества, она считала себя способной нас вырастить. Мать полагала своим долгом заботиться прежде всего обо мне – не столько из-за предпочтения, сколько из-за моей болезни: никто не знал, что со мною делать. Я был очень слаб, у меня не было аппетита, я был не в состоянии что-либо делать и выглядел просто тупицей. Врачи обсуждали между собою причину моей болезни. Он теряет, говорили они, по два фунта крови в неделю, а ее не может быть больше шестнадцати-восемнадцати. Откуда же может происходить кроветворение в таком изобилии? Один из них говорил, что весь мой хилус[11] превращается в кровь; другой был того мнения, что каждый раз, вдыхая воздух, мне в легкие поступает толика крови, и что именно по сей причине я всегда держу рот открытым. Вот что узнал я через шесть лет от г-на Баффо, большого друга моего отца.
Он проконсультировался в Падуе с известным врачом Мако, тот высказал свое мнение в письменном виде. Это письмо, что хранится у меня по сей день, сообщает, что наша кровь являет собой эластичную жидкость, что может сжиматься и растягиваться в своей плотности, а никак не в количестве, и что мои кровотечения могут проистекать только из-за разжижения крови. Она разжижается естественным образом для облегчения циркуляции. Он сказал, что меня бы уже не было в живых, если бы природа, которая не желает умирать, не помогла себе сама. Он пришел к выводу, что причина этого разжижения может быть найдена только в воздухе, коим я дышу, надо изменить его, или быть готовыми меня потерять. По его мнению, плотность моей крови была причиной тупости, что проявлялась на моем лице.
Именно благодаря г-ну Баффо, доброму моему гению, которому, собственно, я и обязан жизнью, решено было поместить меня в пансион в Падуе. Он умер двадцать лет спустя, последним из древней патрицианской семьи, но его стихи, хотя и скабрезные[12], обессмертили его имя. Венецианские государственные инквизиторы своим духом благочестия поспособствовали его славе. Преследуя его рукописные книги, они придали им цену: должно быть, они думали, что spreta exolescunt[13].
Как только был вынесен вердикт профессора Мако, аббат Гримани озаботился поисками хорошего пансиона в Падуе. Ему помогал один его знакомый, химик, живший в этом городе. Звали его Оттавиани, и был он также антикваром. Через несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, мы отправились на пассажирском корабле «Буркьелло» в Падую по Бренте. Мы сели на корабль за два часа до полуночи, после ужина. «Буркьелло» представлял собой небольшой плавучий дом. В нем имелась зала с двумя кабинетами с каждого конца и жилье для обслуги на носу и корме; это такая площадка длиной с империал, застекленная окнами со ставнями; мы плыли восемь часов. Сопровождали меня, кроме моей матери, аббат Гримани и г-н Баффо. Мать взяла меня спать с собой в зале, а два друга спали в кабинете.

Утром мать встала и открыла окно, что было напротив кровати; яркие лучи восходящего солнца заставили меня открыть глаза. Кровать была низкой, и земли было не видно. Я видел через это окно только верхушки деревьев, растущих по краям реки. Корабль плыл вперед, но движение его было столь плавным, что я не ощущал его; то, что деревья так быстро исчезают из вида, вызвало мое удивление. «Ах, дорогая моя мама, – закричал я, – что это такое? Деревья идут!»
В этот момент входят оба господина и, увидев удивление у меня на лице, интересуются, что меня так взволновало. Почему, сказал я им, деревья идут? Они стали смеяться, а моя мать, вздохнув, ответила мне жалостливым тоном: «Это корабль идет, а не деревья. Одевайся скорее».
Своим зарождающимся, ничем не обремененным сознанием я сразу понял причину явления. Так значит, возможно, сказал я им, что солнце тоже не движется, а это мы движемся с запада на восток. Тут моя добрая матушка восклицает, что это глупости, г-н Гримани сожалеет о моей тупости, а я потрясен, взволнован и вот-вот заплачу. Но г-н Баффо приводит меня в чувство: он бросается ко мне и, нежно меня целуя, говорит: «Ты прав, дитя мое, Солнце неподвижно, никогда не бойся рассуждать последовательно, и пусть их смеются».
Казанова всегда стоит на переднем плане, он главный персонаж и герой, полностью освещенный…
Герман Кестен. «Казанова»
Мать спросила, не сошел ли он с ума, давая мне подобные уроки; но философ, не удостоив ее ответом, продолжил втолковывать мне теорию[14] просто и доступно. Это было первое настоящее удовольствие, что ощутил я в жизни. Без г-на Баффо этого раза было бы достаточно, чтобы уменьшить мои способности к рассуждению: отсюда проистекло бы малодушие легковерия. Недалекость двух других, безусловно, притупила бы у меня остроту этого свойства ума, и не знаю, преуспел ли бы я в жизни, но зато знаю, что лишь этой способности обязан я всем счастьем, коим наслаждаюсь, пребывая наедине с самим собой.
Рано утром мы приехали в Падую и отправились к Оттавиани; жена его принялась осыпать меня ласками. Я увидел пятерых или шестерых детей: одной дочери, Марии, было восемь лет, другой, Розе, прекрасной как ангел, – семь. <…> Оттавиани тотчас же отвел нас в дом, где находился пансион, в коем мне предстояло жить.
Это было в пятидесяти шагах от его дома, близ Санта-Мария д’Аванс, в приходе Сан Микеле, у старой славонки[15], что снимала второй этаж у г-жи Миды, жены полковника-славонца. Ей предъявили мой дорожный сундучок, оставив реестр его содержимого. Засим отсчитали шесть цехинов авансом, за шесть месяцев моего пансиона. На сию ничтожную сумму должна была она кормить меня, содержать в чистоте и учить наукам. На ее слова, что этого недостаточно, никто не обратил внимания. Меня поцеловали, велели слушаться ее во всем и оставили. Так от меня избавились.
<…> После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци, которому славонка обещалась платить сорок су в месяц. Это одиннадцатая часть цехина. Было решено начать мое обучение с письма, и учитель поместил меня вместе с детьми пяти и шести лет, которые сразу принялись надо мной насмехаться. <…>
Как и следовало ожидать, ужин был куда хуже обеда. К своему удивлению, я узнал, что жаловаться на это запрещено. Меня уложили в постель, и целую ночь всем известные насекомые не давали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы, шнырявшие по чердаку и взбиравшиеся ко мне на кровать, наводили на меня ужас, что леденил мне кровь. Вот когда я стал делаться восприимчивым к несчастьям и начал учиться терпеливо переносить страдания. Насекомые, кусавшие меня, внушали меньше страха, чем крысы, и этот самый страх в свою очередь делал меня менее чувствительным к укусам насекомых. Так моя душа старалась использовать те невзгоды, которые терпело мое тело. Служанка же оставалась глухой ко всем моим жалобным крикам.
Едва забрезжил день, я сполз со своего скверного ложа и поведал ей о всех карах господних, что я перенес, и попросил новую сорочку: моя вся была в мерзких клопиных следах. Она ответила, что белье меняют по воскресеньям, и громко расхохоталась, когда я пригрозил пожаловаться на нее хозяйке. Впервые в жизни плакал я от горя и злости на издевавшихся надо мной однокашников. Они были в том же положении, что и я, но они к этому привыкли. Что тут скажешь. <…>
Мой школьный учитель обратил на меня особенное внимание. Он посадил меня за свой стол, и, чтобы показать, что я ценю это внимание, я приложил к учению все свои силы. К концу месяца я писал так хорошо, что он принялся со мной за грамматику.

Новый образ жизни, постоянно мучивший меня голод и, главное, воздух Падуи быстро вернули мне здоровье, которого у меня сроду не было, но это самое здоровье еще сильнее заставляло меня страдать от поистине собачьего голода. Я рос как грибы после дождя, по девять часов спал беспробудным сном, и единственными моими сновидениями были такие: я сижу за огромным столом и утоляю свой немыслимый аппетит. Сладкие сны гораздо хуже, чем дурные.

…Однажды доктор Гоцци пригласил меня к себе кабинет и спросил, как бы я отнесся к его предложению оставить пансион славонки и перейти к нему. Видя, что я пришел в восторг от такого предложения, он сказал мне написать письмо в трех копиях и одно отправил аббату Гримани, второе – моему другу г-ну Баффо, а третье – моей доброй бабушке. <…> Описав в этих письмах все перенесенные мною муки, я обещал умереть, если меня не вырвут из рук славонки и не отдадут моему учителю, который согласен меня принять за два цехина в месяц. <…>
…Семья доктора Гоцци состояла из четырех человек; его матери, безмерно его уважавшей, так как, будучи простой крестьянкой, она считала себя недостойной иметь сына-священника, да к тому же еще и доктора. Она была стара, уродлива и сварлива. Его отец, сапожник, трудился весь день, ни с кем в доме не разговаривал, даже за столом. Общительным он становился только по праздникам, что проводил в кабачке с приятелями, и, возвращаясь домой за полночь, любил декламировать Тассо. <…>
У доктора Гоцци была сестра тринадцати лет, по имени Беттина: красивая, живая и большая охотница читать романы. Отец и мать ворчали на нее за привычку торчать у окна, а доктор – за ее чрезмерное увлечение чтением. Эта девочка сразу понравилась мне, не знаю почему. Именно она исподволь зажгла в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии стала главной в моей жизни.
Через полгода после моего появления в этом доме доктор остался без учеников: заметив, что все свои силы он отдает обучению меня одного, они попросту сбежали. Это натолкнуло его на мысль создать учебное заведение, но на его создание ушло почти два года, и это время доктор употребил на то, чтобы передать мне все, что он знал. По правде говоря, знал он немного, однако этого хватило на то, чтобы научить меня азам наук. Кроме того, он обучил меня игре на скрипке, что помогло мне выбраться впоследствии из одного запутанного дела. <…> Этот человек, не будучи сам философом, все же дал мне представление о логике перипатетиков[16] и космогонии, в которой он придерживался устаревшей системы Птолемея. Нравственности доктор Гоцци был безупречной, а что до религиозных воззрений, то хоть он и не был ханжой, все же отличался большой строгостью.

В Великий Пост 1736 года моя мать написала ему, что намеревается ехать в Петербург и хотела бы повидать меня перед отъездом; она спрашивала, не мог бы он привезти меня на три или четыре дня в Венецию. Над этим приглашением доктору пришлось поразмышлять: он никогда не бывал в Венеции, не был ни с кем там знаком, а выглядеть в чем-либо несведущим не любил. И все же мы сели на тот же «Буркелло», на коем прибыл я из Венеции; все семейство проводило нас к пристани, и мы покинули Падую.
Мать моя встретила доктора с самой аристократической непринужденностью, но поелику она была красива как Божий день, мой добрый учитель чрезвычайно робел и, разговаривая с нею, не осмеливался поднять на нее глаза. Заметив это, она во что бы то ни стало решила подшутить над ним. Что же до меня, то я вызвал живейший интерес всей компании: все помнили меня едва ли не дурачком, и вдруг такая перемена за два года! Доктор наслаждался, слушая, как все наперебой хвалят его, приписывая эту заслугу ему одному.
За ужином доктор оказался рядом с моей матушкой и вел себя крайне неловко. Он не произнес бы, наверное, ни одного слова, если бы некий англичанин, человек просвещенный, не обратился к нему на латыни. Доктор смиренно ответствовал, что не знает английского, и, разумеется, вызвал взрыв всеобщего хохота. Г-н Баффо пришел ему на помощь, заметив, что англичане читают латинские слова, сообразуясь с законами английского языка. Я осмелел и сказал, что англичане так же ошибаются, читая по-латыни, как ошибались бы мы, читая английские слова, как по-латыни. Англичанин, восхищенный моей сообразительностью, тут же написал одно древнее двустишие и протянул мне:
Dicite, grammatici, cur maskula nomina cunnus,
Et cur femineum mentula nomen habet?[17]
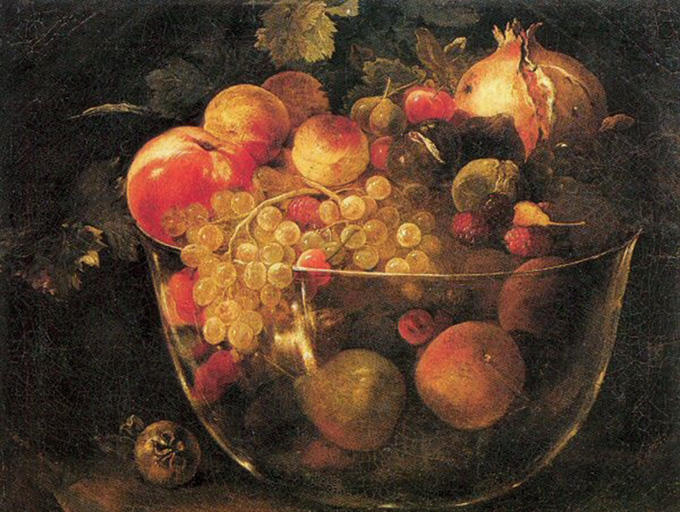
Прочитав его, я сказал, что это точно латынь. Нам это понятно, сказала матушка, но ведь надобно же это растолковать. Я возразил, что вместо толкования предпочел бы ответить на вопрос, и, поразмыслив немного, написал еще строку: «Disce quod adominon omina semis habet»[18]. Это был мой первый подвиг на литературном поприще, и могу сказать, что в ту же минуту, когда раздались аплодисменты и я почувствовал себя наверху блаженства, в мою душу упало первое зерно поэтического честолюбия. Англичанин, пораженный таким ответом одиннадцатилетнего мальчишки, обнял меня и подарил свои часы.
Заинтригованная матушка моя спросила г-на Гримани, о чем стихи, тот знал не более ее, и тогда г-н Баффо на ухо прошептал ей оба перевода. Пораженная моими познаниями, она достала золотые часы и поднесла их моему учителю; тот не знал, как выразить ей свою благодарность, и выглядел довольно комично. Вдобавок матушка, выражая ему полную свою признательность, подставила для поцелуя щеку, ожидая обычных принятых в обществе ничего не значащих поцелуев, но бедняга так растерялся, что готов был скорее умереть. Наклонив голову, он попятился назад, и его оставили в покое до самого вечера.
Он смог излить свою душу только тогда, когда мы остались одни в отведенной нам комнате. Жаль, сказал он, что нельзя будет опубликовать в Падуе ни двустишия, ни моего ответа.
– Отчего же?
– Да оттого, что это мерзости; правда, гениальные. Давай спать, и хватит об этом. Ответ твой удивителен: ведь тебе незнаком предмет обсуждения, и ты не умел писать стихов.
Что касается предмета обсуждения, то я его знал, хотя и теоретически, так как успел уже тайком прочесть строго-настрого запрещенного мне Мерсиуса[19] (именно поэтому и прочел), а вот моему умению ответить стихами доктор удивлялся вполне резонно: сам он, хоть и обучил меня просодии, не мог сочинить ни одного стиха. Аксиома «Nemo dat quod non habet»[20] не всегда верна.
Если не считать некоторых ошибок (чаще всего в датировках), все, что рассказывает Казанова, правда. Вот это-то, наверно, и есть самое потрясающее.
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»
Четыре дня спустя, прощаясь со мной, мать дала мне сверток для Беттины, а аббат Гримани вручил мне четыре цехина, чтобы я купил себе книги. Через неделю мать уехала в Петербург.
Мы вернулись в Падую, и еще в течение четырех или пяти месяцев доктор только и говорил что о моей матушке, расхваливая ее на все лады. Беттина же, получившая от нее в подарок пять локтей черного люстрина и двенадцать пар перчаток, столь расположилась ко мне, что взяла на себя заботу о моих волосах, вследствие чего уже через полгода я перестал носить парик. Каждое утро она приходила причесать меня и частенько еще до того, как я вставал с постели: она говорила, что ей некогда ждать, пока я оденусь, и принималась за мой туалет. Она мыла мне лицо, шею, грудь; я злился на себя самого, потому как детские невинные ласки ее не оставляли меня равнодушным. Я был на три года моложе и потому думал, что она никак не может любить меня по-настоящему, и оттого огорчался безмерно. Когда, присев на мою кровать и повторяя, что я все время толстею, она старалась убедиться в этом собственноручно, я не противился, чтобы не показать, в какое волнение она меня приводит. Когда, гладя меня, она восхищалась моей нежной кожей, я отшатывался, делая вид, что боюсь щекотки, и злился на самого себя, что не могу ответить ей тем же, радуясь, что она не догадывается о растущем во мне желании. Когда же, наконец, я был одет, она дарила мне нежнейший поцелуй, шепча: «Милое мое дитя»; а я, хоть и умирал от желания, все же пока не смел последовать ее примеру.

Со временем, однако, я набрался боевого опыта и на ее насмешки над моей застенчивостью отвечал все удачнее и все больше смелел, но всякий раз останавливался, как только охватывала меня охота двинуться дальше: тогда я поворачивал голову в сторону, словно ища какую-то вещь, и Беттина уходила. Оставшись один, я приходил в отчаяние оттого, что не могу слушаться зова натуры, а вот Беттина может делать со мной все, что ей заблагорассудится, и без малейших последствий; и всякий раз я обещал себе в дальнейшем изменить свое поведение.

В начале осени доктор принял трех новых пансионеров; один из них, Кордиани, – малый лет пятнадцати, как показалось мне, меньше чем за месяц довольно сблизился с Беттиной.
Это открытие заставило меня испытать чувство, дотоле мне неведомое, и которое проанализировал я лишь несколько лет спустя. Это была не ревность, не злоба, а, скорее, какое-то благородное презрение, от которого я не мог отделаться, ибо Кордиани не имел предо мной никаких преимуществ: он был сыном простого крестьянина, невежествен, груб, неотесан, – мое зарождающееся самолюбие говорило мне, что я достоин гораздо большего, чем он. Чувство гордости, смешанное с презрением, обратилось и на Беттину, в которую я был влюблен, сам того не сознавая. По моему поведению она поняла, что что-то неладно: я отталкивал ее руки, когда по утрам она приходила меня причесать, не давал ей целовать себя. Раздосадованная всем этим, она спросила меня однажды о причинах изменения моего поведения и, не получив ответа, хитро прищурившись, сказала, что я ревную ее к Кордиани. Этот упрек показался мне унизительной клеветой; я ответил, что они с Кордиани вполне достойны друг друга. Беттина удалилась с улыбкой на устах, но в голове ее зародился план мести; для приведения его в исполнение надо было вызвать во мне еще большую ревность, чем окончательно влюбить меня в себя. Вот как она принялась за дело.
Однажды утром она явилась к моей постели с парой белых чулок, которые мне связала. Причесав меня, она заявила, что самолично хочет их мне одеть, чтобы увидеть, впору ли они, и связать потом другую пару. Доктора в этот момент не было: он ушел на службу. Натягивая мне чулок, она заявила, что не помешало бы помыть мне ноги, и тут же приступила к делу, не ожидая разрешения. Наверное, мне было неловко показать ей, что я стыжусь, и я позволил ей действовать, никак не предвидя последствий. В своей заботе о чистоте Беттина проявила такое рвение и зашла так далеко, что ее любопытство причинило мне столь острое, до сих пор не изведанное наслаждение, что я не мог укротить его, и оно вырвалось на волю. Успокоившись, я, считая себя виновным, счел должным попросить у Беттины прощения. Она этого никак не ожидала и, поразмыслив немного, великодушно сказала, что в этом вина ее, а не моя, но что больше такого не повторится. Тут она ушла, оставив меня наедине с моими размышлениями.
Они были горьки. Мне казалось, что я опозорен, что я обманул доверие всей семьи, нарушил священные законы гостеприимства, что, совершив столь тяжкий грех, я обязан жениться на Беттине – и то, если она захочет взять в мужья такого не достойного ее негодяя.
После таковых размышлений меня охватила неодолимая грусть, которая росла изо дня в день. Причиной тому было то, что Беттина прекратила приходить ко мне по утрам. В течение первой недели таковая сдержанность казалась мне вполне благоразумной, и постепенно моя печаль приняла бы характер истинной любви, если бы поведение Беттины с Кордиани не отравляло мою душу ядом ревности, хотя, разумеется, я был далек от мысли, что она способна совершить с Кордиани то же, что совершила со мной.
А то, что произошло со мной, шептали мне мои мысли, случилось по ее воле, и теперь ее удерживает от встреч со мною только раскаяние. Самолюбие мое было польщено: значит, она меня любит. И под наплывом чувств я решил ободрить Беттину, написав ей письмо.
Письмо мое было кратким, но достаточным, чтобы успокоить ее как в том случае, если она чувствует свою вину, так и в случае, если она подозревает меня в чувствах, оскорбляющих ее самолюбие. Письмо сие казалось мне шедевром: теперь она станет меня обожать и предпочтет меня Кордиани: как можно после такого письма колебаться в выборе между ним и мной! Через полчаса после того, как Беттина получила мое послание, она ответила на него устно, сказав, что следующим утром, как и прежде, навестит меня. Я ждал ее, но напрасно. Я впал в ярость, но каково же было мое удивление, когда чуть позже, за обедом, она спросила меня, не соглашусь ли я отправиться с нею вместе к нашему соседу доктору Оливо на бал, что состоится через пять или шесть дней, куда Беттина собиралась взять меня, переодев девочкой. Поелику все присутствующие одобрили этот план, я согласился. Я усмотрел здесь прекрасную возможность объясниться с Беттиной, но обстоятельства, увы, сложились так, что дело приняло трагикомический оборот.

Неожиданно тяжело заболел один родственник доктора, живший в деревне. Чувствуя близкую кончину, призвал он к смертному одру и доктора, и его родителей. До того бала было еще далеко, и мое нетерпение подсказало мне, что надо воспользоваться благоприятным случаем. Улучив минутку, я сообщил Беттине, что ночью оставлю дверь моей комнаты, выходящую в коридор, открытой и буду ее ждать. Она сказала, что придет, как только все в доме улягутся. Сама она спала на первом этаже в комнатке, отделенной легкой перегородкой от спальни отца. Доктора не было, я спал один в большой зале, а трое других пансионера – в отдельной комнате. Я был счастлив, что все так удачно складывается.
Описание ситуаций подобного рода в романах кажется преувеличением. На самом деле это не так, и то, что рассказывает нам Ариосто об ожидающем Альцину Руджеро, есть точная картина с натуры.
Без особой тревоги я ожидал до полуночи. Но вот прошел час, другой, третий, четвертый, а она так и не появилась в моих дверях; кровь моя вскипела, меня обуял гнев. За окном шел снег, падая на землю большими хлопьями, но мучил меня не холод, а слепая ярость. За час до рассвета, не в силах больше бороться с нетерпением, я решился спуститься тихонько, босиком, чтобы не разбудить собаку, вниз по лестнице, откуда рукой подать до комнаты Беттины. Если она вышла из комнаты, дверь должна быть открытой. Осторожно я приближаюсь к двери – она заперта изнутри. Я решил, что Беттина спит и просто не смогла проснуться. Я хотел было постучать, но побоялся разбудить собаку. В отчаянии присел я на ступеньки, но долго сидеть там было нельзя: вот-вот рассветет, встанет прислуга и, обнаружив меня, решит, что я спятил. Надо было возвращаться к себе. Я поднимаюсь, но в то же самое мгновенье в комнате Беттины раздается шум. Уверенность, что я сейчас увижу ее, возвращает мне силы, я подбегаю к двери, она распахивается и… вместо Беттины мне навстречу вылетает Кордиани. Он с силой бьет меня ногой в живот, и я валюсь на пол. Кордиани стремительно исчезает за дверью зала, где он спал со своими друзьями, и запирается там.
Я вскакиваю и кидаюсь к двери Беттины, горя жаждой мести: ничто не могло спасти ее от моего праведного гнева. Но дверь была заперта, я яростно ударил по ней ногой, но тут проснулась собака и подняла такой лай, что я опрометью бросился наверх, заперся в своей комнате и рухнул на постель, пытаясь привести немного в порядок свои силы – и нравственные, и физические.
Обманутый, побитый, униженный счастливым триумфатором Кордиани, часа три я провел, обдумывая самые черные планы мести <…>, как вдруг у моей двери раздался хриплый голос матери Беттины: она просила меня спуститься, ее дочь умирает. Обеспокоенный тем, что она умрет, не испытав перед этим моей страшной мести, я поспешил вниз. Беттина лежала на отцовской кровати и корчилась в ужасных судорогах, все семейство стояло вокруг. Тело ее, лишь наполовину прикрытое одеждами, извивалось и вырывалось из рук, пытавшихся ее удержать. Вспоминая события этой ночи, я не знал, что и думать. По прошествии часа Беттина успокоилась и заснула. <…>
Жизнь XVIII века изображена в мемуарах Казановы с единственной в своем роде яркостью и полнотой.
П. П. Муратов. «Образы Италии»
На следующий день наш урок был прерван матерью доктора: она заявила, что знает, какого рода болезнь поразила ее дочь: на нее навели порчу, и ей ведомо имя той, что сделала это.
– Может быть, это и так, матушка, но здесь нельзя ошибиться. Кто эта колдунья?
– Наша старая служанка, и я только что в этом убедилась.
– Каким же образом?
– Я поставила у дверей моей комнаты две метлы, крест-накрест; чтобы войти в комнату, надо было этот крест разнять. Едва его увидев, она попятилась и вошла в мою комнату через другую дверь. Не будь она ведьмой, разве она побоялась бы притронуться к кресту?
– Это не так уж очевидно, матушка. Позовите-ка ее ко мне.
Служанка вошла, и доктор спросил ее:
– Почему ты сегодня утром вошла в комнату не в ту дверь, через которую ты входишь обычно?
– Мне невдомек, о чем вы спрашиваете?
– Ты видела на двери крест Святого Андрея?
– Что это еще за крест?
– Не прикидывайся дурочкой, – вмешалась мать доктора. – Где ты ночевала в прошлый четверг?
– У племянницы, у нее были роды.
– Ничего подобного. Ты летала на шабаш. Ты ведьма и околдовала мою дочку.
Услышав таковое обвинение, служанка плюнула ей в лицо, мать схватила палку, доктор хотел было удержать мать, но побежал вслед за служанкой, которая летела вниз по ступенькам, ругаясь и крича, призывая на помощь соседей. В конце концов, он нагнал ее и дал ей денег, чтобы она успокоилась. Доктор счел, что его положение священника обязывает применить обряд экзорцизма, чтобы убедиться, действительно ли его сестра одержима дьяволом.
Немыслимые эти таинства завладели полностью моим вниманием. Все эти люди казались мне сумасшедшими или круглыми дураками. Я не мог без смеха представить себе дьяволов в теле Беттины. <…>
Мать ушла из дому и через час вернулась с самым знаменитым в Падуе заклинателем. Это был уродливый капуцин по имени отец Просперо да Боволента.

Едва он показался на пороге, Беттина, громко хохоча, принялась выкрикивать в его адрес ужасные оскорбления, которым все присутствующие порадовались, ибо один лишь дьявол способен на таковые поношения по отношению к капуцину. Последний, услышав, что его называют дураком и вонючим мошенником, принялся охаживать Беттину огромным распятием, приговаривая, что он колотит дьявола. Он остановился лишь тогда, когда увидел, что она схватила ночную вазу, явно намереваясь метнуть ее в голову монаха, – я бы многое отдал, чтобы увидеть это.
«Если тот, кто тебе все это наговорил, – дьявол, – крикнула Беттина, – обзови его так же, осел ты этакий! А если слова эти – мои, то ты, тупица, должен меня уважать, и пошел вон!» Я увидел, как покраснел мой бедный доктор.
Но капуцин, вооруженный с головы до пят, принялся читать страшные формулы экзорцизма, после чего приказал лукавому назвать свое имя.
– Меня зовут Беттина.
– Нет, так зовут некую крещеную девицу.
– Ты, значит, считаешь, что у сатаны должно быть мужское имя? Знай же, ты, невежественный капуцин, что сатана – это ангел, а ангелы не имеют никакого пола. Но, раз уже ты веришь, что моими устами с тобой говорит дьявол, обещай мне отвечать правду, и я обещаю тебе уступить твоим заклинаниям.
– Обещаю.
– Тогда ответь, ты считаешь себя ученее меня?
– Нет, но я считаю себя укрепленным могуществом Святой Троицы и моим саном.
– Если ты такой могущественный, попробуй помешать мне сказать всю правду о тебе. Ты горд своей бородой, ты расчесываешь ее раз по десять на дню, захочешь ли ты убавить ее наполовину, чтобы заставить меня покинуть это тело? Отрежь бороду – и, клянусь, я выйду.
– Князь тьмы, я удваиваю тебе наказание!
– Плевала я на тебя!
За этими словами Беттина так расхохоталась, что я не удержался и прыснул со смеху. Капуцин, заметив меня, сказал доктору, что мне недостает веры и потому меня надо удалить. Я был вынужден подчиниться, но еще успел получить удовольствие, видя, как капуцин протягивает Беттине руку для поцелуя, а она смачно на нее плюет.
Так это непостижимое, столь одаренное создание посрамило капуцина, что, впрочем, никого не удивило, поелику всем было ясно, что за нее говорил дьявол. А я так и не понял, что за надобность была у нее устраивать все это.
После обеда, в течение которого капуцин наговорил сотню глупостей, он вернулся в комнату одержимой, чтобы дать ей благословение, но та запустила в него стаканом, наполненным черным снадобьем, данным ей аптекарем. <…> Перед уходом отец Просперо объявил доктору, что девица безусловно одержима дьяволом и что нужно сыскать другого заклинателя, поелику Бог не дал ему силы освободить ее.
После его ухода Беттина провела шесть часов совершенно спокойно и радостно удивила нас появлением за вечерним столом. Она уверила родителей и брата, что чувствует себя отлично, а затем обратилась ко мне и напомнила, что назавтра бал, а потому с утра она придет ко мне, чтобы причесать меня под девочку. Я поблагодарил и ответил, что она слишком больна и ей надо беречься. Вскоре она отправилась спать, а мы остались за столом еще некоторое время и говорили только о ней.
Придя к себе, я обнаружил под своим ночным колпаком записку следующего содержания: «Или Вы, одевшись девочкой, отправитесь со мной на бал, или я Вам устрою такой спектакль, что Вы пожалеете».

Дождавшись, пока доктор уснет, я приготовил ей ответ: «Я не пойду на бал, так как я решил избегать всякой возможности остаться с Вами наедине. Что же касается спектакля, которым Вы мне грозите, то, зная Ваши дарования, не сомневаюсь, что Вы сдержите слово. Но я прошу Вас пощадить мое сердце, ибо я люблю Вас, как любил бы сестру. Я простил Вас, дорогая Беттина, и хочу все забыть». <…>
Ум этой девушки заслужил мое уважение: я не мог больше ее презирать. <…> Так же, как она любила меня впоследствии без всяких ухищрений, так и я нежно любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который предрассудки предписывали хранить до брака. Но какого печального брака! Двумя годами позже Беттину выдали замуж за башмачника Пигоццо, отвратительного мошенника, с которым жила она в нужде и была несчастлива; доктор, ее брат, был принужден принять заботы о ней на себя. Еще через пятнадцать лет, избранный архиереем в Сан-Джорджо Делавалеа, добрый доктор взял ее с собой, и, когда много лет спустя я приехал повидать его после долгой разлуки, я встретил там Беттину – дряхлую, больную, умирающую. Она испустила дух у меня на глазах в 1776 году, на следующий день после моего приезда к ним. <…>
Примерно в это же время моя матушка вернулась из Петербурга, где императрице Анне Иоанновне итальянская комедия пришлась не по вкусу. Через полгода она вызвала меня в Венецию повидаться перед отъездом в Дрезден. Она получила пожизненный ангажемент при дворе курфюрста Саксонского Августа III, короля Польши. <…>

После этого я провел еще год в Падуе, изучая право, доктором которого я стал в шестнадцать лет[21]. По гражданскому праву у меня была тема «de testamentis»[22], а по каноническому – «Utrum hebrei possint construere novas Synagogas»[23].
Мне хотелось обучаться медицине, к ней я чувствовал неодолимую тягу, но меня не слушали: хотели, чтобы я занимался юриспруденцией, а к ней я испытывал непреодолимое отвращение. Вполне естественно, что я не стал ни юристом, ни врачом. Возможно, этим объясняется моя привычка никогда не прибегать к услугам адвокатов при отстаивании своих законных претензий перед правосудием и не звать врача, когда я заболевал. Семейств, разоренных законниками, куда больше тех, кому они помогли, а принявшие смерть из рук врачей бесчисленны в сравнении с теми, кого они вылечили. Разве это не доказательство того, что мир был бы гораздо счастливее как без тех, так и без других?
На лекции университетских профессоров нельзя было ходить в сопровождении, и я впервые стал появляться на людях один. Это было удивительное ощущение: до сих пор я никогда не чувствовал себя свободным, и, желая вполне насладиться неожиданной волей, я немедля завел дурные знакомства среди студентов, кои были отъявленными шалопаями, бабниками, игроками, завсегдатаями притонов, выпивохами, гуляками, обманщиками, развратителями порядочных девушек, словом, ни один из них не был обременен добродетелями. В обществе подобных людей начал я узнавать мир, изучать великую книгу жизни.
Он чувствует, что его истинная профессия – не иметь никакой профессии, слегка коснуться всех ремесел и наук и снова, подобно актеру, менять костюмы и роли. Зачем же прочно устраиваться: ведь он не хочет что нибудь иметь и хранить, кем-то прослыть или чем-то владеть, ибо он хочет прожить не одну жизнь, а вместить в своем существовании сотню жизней, – этого требует его бешеная страстность.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 4. Детство
Глава 4. Детство Я родился 31 января 1952 года с селе Бейшеке Кировского района Таласской области Киргизской ССР. Семья наша насчитывала 14 ртов, включая двух бабушек и трех племянников при двух работающих родителях. Отец в ту пору был директором средней школы. Мама в этой же
Глава I ДЕТСТВО
Глава I ДЕТСТВО Писателями не становятся – рождаются. Сам Пришвин, правда, при этом оговаривал: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня».[8]В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг
Глава 1 ДЕТСТВО
Глава 1 ДЕТСТВО Писателями не становятся — ими рождаются. Сам Пришвин, правда, делал оговорку: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня.» В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг —
Глава 2 Детство
Глава 2 Детство АРТУР ИГНАТИУС КОНАН ДОЙЛ родился в Эдинбурге, в доме номер и по улице Пикарди-Плейс 22 мая 1859 года. Через два дня его крестили в католическом соборе Святой Марии, тут же по соседству. Крестной матерью была его двоюродная бабушка Кэтрин Дойл, монахиня из
Глава 2 Детство
Глава 2 Детство Я родился 2 июля 1945 года. И был четвёртым сыном моих родителей. Насколько я знаю, были братья старше меня на 12 лет, на 8 лет (Боря) и на 4 года. Что стало с двумя старшими моими братьями, я не знаю. Предполагаю, что они погибли в блокаду. Мама категорически
Глава 1 ДЕТСТВО
Глава 1 ДЕТСТВО Зима в тот год удалась снежной, морозы стояли суровые: птицы на лету замерзали. А в избе натоплено, душно… Раннее утро. Свет чуть брезжит через занавешенные, подслеповатые окна… Новорожденный покричал и успокоился. Мать его, Мария Михайловна, пребывает в
Глава VI ДЕТСТВО
Глава VI ДЕТСТВО Воспоминания раннего детства иногда бывают очень яркими, и не столько окружающая обстановка, люди, сколько чувства — любовь, ненависть — у детей принимают огромные размеры и остаются в памяти на всю жизнь.И, как ни странно, теперь, когда прожита сложная и
Глава I. Детство
Глава I. Детство Семья. – “Старый капельмейстер”. – Отец. – Первые занятия музыкой. – Пфейфер. – Эден. – Нефе. – Вступление в жизньЛюдвиг ван Бетховен – нидерландец по происхождению – родился в г. Бонне (на Рейне) и был крещен 17 декабря 1770 года; день рождения его
ГЛАВА I. ДЕТСТВО
ГЛАВА I. ДЕТСТВО Первая мысль, которая возникает при знакомстве с материалами о Фредди Меркьюри: поразительно, что у такого великого человека такие убогие биографии. В них нет даже намека на профессиональную работу с информацией. Вернее, в них вообще нет информации, как
Глава 1 Детство
Глава 1 Детство Чем ярче детские воспоминания, тем мощнее творческая потенция. А. Тарковский 1Андрею Тарковскому повезло с наследственностью. Повезло, если принять как итог те семь с половиной фильмов, которые он успел внести в сокровищницу мирового кино, и не вспоминать
Глава 3. Детство
Глава 3. Детство Дороги в Стеньшино и сегодня проселочные. Зимой — по хрустящему насту, а летом, в сушь, прокатиться по ним одно наслаждение: кругом, на много верст, ровная как стол степь, только крохотными островками кое-где виднеются рощицы и побеленные хатки сел. А весной,
Глава I. Детство
Глава I. Детство В один из весенних вечеров 1727 года домик мистера Гаррика был сильно освещен. Маленький городок уже спал, и тем страннее было видеть движение и суету в скромном жилище небогатого капитан-лейтенанта. В «большой» комнате, обыкновенно закрытой и темной,
Глава I. Детство
Глава I. Детство Семья. – «Старый капельмейстер». – Отец. – Первые занятия музыкой. – Пфейфер. – Эден. – Нефе. – Вступление в жизньЛюдвиг ван Бетховен – нидерландец по происхождению – родился в городе Бонне (на Рейне) и был крещен 17 декабря 1770 года; день рождения его