Ампир — ямб Москвы
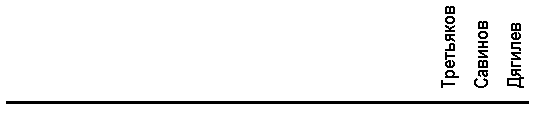
Ампир — ямб Москвы
Отец мой любил Серова. Серовский лирический рисунок, сдержанность и деликатность были близки его характеру. Он вкладывал свои сбережения, конечно соразмерно окладу инженера, в монографии русской живописи.
Профессией и делом жизни отца моего было проектирование гидростанций, внутренней страстью — любовь к русской истории и искусству.
Мальчик «из хорошей семьи», сын врача, внук священника, он, начитавшись романтических книжек, вступил в партию и шестнадцати лет во время гражданской войны в течение полугода был секретарем райкома маленького городишки Киржача. Городок был тихий, никого не расстреливали. В партии было шесть мальчишек и двое взрослых. Но белые бы пришли — повесили. О таких школьниках писал Пастернак:
Те, что в партии, смотрят орлами.
Это в старших. А мы: безнаказанно греку дерзим.
Ставим парты к стене, на уроках играем в парламент
И витаем в мечтах в нелегальном районе Грузин.
Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали наган на парту. Потом отец ушел из политики, поехал учиться в Питер, кончил Политехнический. Дальше геологические изыскания. Проектирование гидростанций. Крупные гидростанции, «Стройки коммунизма», проектировала и строила организация НКВД во главе с генералом Жуком. Отцовский институт, штатский, проектировал станции поменьше. Но я помню, как мы ездили с ним в Грузию на Ингури-ГЭС. Помню, как отец опасался конкуренции могущественного Жука.
Мама моя кончила два курса филфака и Брюсовские курсы, она привила мне вкус к Северянину, Ахматовой, Звягинцевой, Кузмину. Детство прошло среди ее мусагетовских растрепанных томов поэзии и отцовских технических справочников Хютте.
Отец ввел мое детство в мир Врубеля, Рериха, Юона, в мир старых мастеров, кнебелевские монографии которых собирал, брал с собой на волжские стройки. Меня он стыдил за приблатненный жаргон. Он любил осенние сумерки Чехова, Чайковского, Левитана.
Стройный, смуглый, шутливый, по-мужски сдержанный, отец таил под современной энергичностью ту застенчивую интеллигентность, которая складывалась в тиши российской провинции и в нынешнем ритме жизни почти утрачена.
Рябушкин, Рерих, Левитан были домовыми нашей квартиры. Да и чье детство не завораживала Третьяковка? Чье сердце не томил гаснущий, умирающий жемчуг Врубеля?! Художник не продавал демону душу, он лишь прикоснулся к мировому центру тоски, и дух его не выдержал, сломался.
Шедевры хранят в себе гигантскую энергию сотворивших их подвижников, помноженную на века. Недавно, заболев, я чуть было не загнулся. Сыпались советы. Предлагали срочно больницу, тибетскую медицину, экстрасенсов. Академик Лихачев сказал: «Надо несколько раз сердцем прочитать „Слово о полку Игореве“».
Их черты мы видим в Третьякове. Казалось бы, чего проще — художник написал, купец купил. Он же организовывал шедевры, соучаствовал в их создании. Возьмем в архиве галереи его письмо Достоевскому от 31 марта 1872 года. Почерк каллиграфически крупен, обстоятелен, с нажимом, заглавные буковицы завиты в овальные виньетки. Страница письма похожа на простынку парикмахера после стрижки, всю усыпанную кудрявыми кольцами темных локонов. Это почти графика, выдающая решительность и благоговение перед адресатом: «Милостивый государь Федор Михайлович… Я собираю в свою коллекцию „русской живописи“ портреты наших писателей, имею уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Лажечникова, Тургенева, Островского, Писемского и др… уже заказаны: Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и др. Позвольте и Ваш портрет иметь (масляными красками)… Я выберу художника, который не будет мучить Вас, т. е. сделает портрет очень скоро и хорошо».
Он заказал портрет Перову. Перов пишет для галереи и Тургенева. Третьяков недоволен изображением. Пробует заказать заново Гуну. Через год обращается к Репину, жившему тогда в Париже. В галерее хранится ответ Репина с усмехающимися порыжевшими завитками мелкого почерка: «Чтоб сделать Вам удовольствие… я начал портрет с Ивана Сергеевича, большой портрет постараюсь для Вас, в надежде, что Вы прибавите мне сверх 500 рублей за него». Но и Репин не удовлетворяет собирателя. Он пытается уговорить Крамского… Через пять лет опять пишет Репину: «Поимейте в виду, что он, несмотря на смуглость, производит впечатление светлое».
30 марта 1879 года он снова сетует Репину: «А Вы опять переменили фон у Тургенева, а был хорош…» Тургенев умер. Так и не получил Третьяков желанного портрета.
А Толстой? Через Фета, стихи которого знал наизусть наш подвижник, он пробует уговорить Толстого на портрет. Граф непреклонен. Через четыре года, в 1873 году, подсылает к нему Крамского…
И все это не наживы ради — Третьяков передает галерею в дар Москве. «Галерея помещается в жертвуемом доме и должна быть открыта на вечное время для бесплатного обозрения всеми желающими не менее четырех дней в неделю в течение всего года», — гласит его заявление в городскую думу.
Александр III, узнав об этом, крякнул: «Московский купец опередил государя» — и через пять лет открыл Русский музей.
Человек с высоким задумчивым челом, вытянутым иконописно-северным лицом, удлиненной бородой, с непропорционально длинными ногами, Третьяков ежедневно по-прорабски вставал в шесть утра, трудился над своим льноткацким мануфактурным производством, стоял за конторкой до конца рабочего дня и лишь после всего на санях с медвежьей полостью застенчиво объезжал мастерские художников. Часто сам занимался реставрацией.
Я еще раз шкурой почувствовал, какую накопленную энергию излучает «Слово», вековой экстрасенс культуры. Та же энергия исходит от Дионисия и Коненкова. Позднее в Третьяковке поселился Малявин, голубой Шагал и томный Сомов. А сколько еще мается в запасниках, не пробив себе жилплощади в великой коммуналке русской живописи?
Замечали ли вы, что стены обиты древесиной, впитывающей сырость близлежащей Москвы-реки? Замечали ли вы осушители, из которых ежедневно выносят по нескольку ведер воды? Знаете ли вы, что они взяты напрокат в обход статьи расходов? Поклонились ли вы служительницам, застывшим на стульях? Ежедневно четыреста человеческих жизней незаметно и самоотверженно посвящены этой замоскворецкой святыне.
Люди, хранители памяти, живые, невосстановимые шедевры, нуждаются в не меньшей бережности, чем картины. Когда-то я получил письмо из Таллина с улицы Ярве от вдовы Северянина — Веры Борисовны Коренди. Она написала мне впервые давно, после публикации моего стихотворения о рукописях поэта. Муза последних лет поэта, которой он посвятил предсмертные стихи, она в страшных лишениях была опорой ему.
Письмо ее горько. «Долгие годы мы не переписывались с Вами. Грозные и трагические события прошумели над моею головой…» Она пишет о постигшей ее страшной недавней потере, о смерти дочери, об одиночестве, о том, как трудно ей живется, что двое внуков у нее на руках. Завершается письмо припиской: «Простите за печальное письмо — хочется хоть с кем-нибудь поделиться. P. S. Кончаю мемуары о Северянине. 26 января 1984 г.» Хочется, чтобы смятенная душа ее успокоилась, чтобы люди окружили бережностью память поэта.
Шампанские ритмы Северянина никак не ассоциируются с унынием. Искристость и ирония Северянина обретает сегодня новую плоть. Вот его патриотические военные стихи:
И я ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин…
Я поведу вас в бой, не я, конечно, лично.
Великий в песнях — в битвах мал.
Но если надо, что ж — отлично!
Коня! Шампанского! Кинжал!
В нашем кругу термин «единственный» стал потешной присказкой.
Как заботливо пеклись жители поселка Тойла и соседствующий завод о домике Фелиссы Крут, где он столько жил и творил! Дом этот стал естественным музеем поэта. А Таллин? А Луга? Как-то они поведут себя в другом государстве?
Память подвижников, ушедших создателей, проступала сквозь Замоскворечье моего детства.
Звенели трамваи. Гудели золотые пчелы в дремотных цветущих липах на вечерней Большой Ордынке.
Какой-то чудак завел четыре улья на балконе, и мы подсматривали, как он, вооружась дымодувом, накинув, подобно бедуину, сетку на голову, вынимал из разъяренных ульев сочащиеся соты городского липового меда. Пчелы собирали сквозь бензин золотые взятки с истории.
Ордынка была обсажена голландскими липами в 1899 году. С той поры деревья разрослись, повидали многое.
Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы, —
написал об их аллеях великий поэт, живший напротив Третьяковки.
Начиналась Ордынка филиалом Малого театра. Там я в школьные годы пересмотрел почти всего Островского — Третьяковку русской речи. Замоскворечье является нутром Москвы даже в большей степени, чем Арбат. Своей размашистостью, живописностью, стихийностью, азиатчиной перемешанное с Европой, даже сейчас, покалеченное, преступно разоренное оно влияет на другие районы города, сообщая им московский дух.
Театр Островского продолжался за стенами театра. Внуки и дети его персонажей, его языковой стихии, бродили по улицам, заполняли булочные и трамваи. В нашем классе на задней парте затаился невзрачно одетый малец по кличке Чайка с цыганскими глазами навыкат. Его семья когда-то владела всеми деревянными доходными домами на Шипке. Родители многих трудились в Первой Образцовой, бывшей Сытинской типографии. В ней переплетчиком работал Есенин. До сих пор на стене у корректоров висит его белокурое фото той давней поры.
Жили мы на Большой Серпуховке, в надстройке над корпусом, принадлежавшим бывшему заводу Михельсона.
Написать бы дневник домов!
В пуховых тополях утопала наша бедовой памяти школа.
Спившиеся директора в ней менялись, как тренеры безнадежной команды. Чуя свою погибель, они крутили любовь с заведующей нашим методкабинетом, роковой брюнеткой, казавшейся мне замоскворецкой Незнакомкой. Она утирала слезы, куталась в дареное каракулевое манто и проходила свидетельницей по процессам о растратах.
Я думаю, почему из такой бесхозной с виду школы вышли яркие физики, военачальники, режиссеры, деятели космоса, такие личности сложились? Так в трудных «небогатых» семьях складываются сильные характеры. Трудными бывают не только дети, но и родители. Спасибо тебе, трудная, незабвенная святая школа! Мы любили тебя. Твои учителя — подвижники.
Вздрагивали и подпрыгивали трамваи от подложенных нами на рельсы капсюлей и автоматных патронов. Иногда вагоновожатый тормозил, и весь вагон гонялся за виновниками. Сейчас, вспоминая наши детские злодейства, содрогаешься — ведь мы могли кого-нибудь ранить. Когда Борис из соседнего подъезда воровал из бочки карбид, он зажег спичку, бочка взорвалась, и ему кованой крышкой оторвало щеку.
В шестом классе мне купили шубу.
До этого я несколько лет ходил в школу в латаном-перелатаном пальтишке с надставленными рукавами, которое постепенно, по мере моего роста, превратилось в курточку, и хлястик приближался к лопаткам. Одежда тогда не смущала никого. Я дружил с Есиповым, скрипачом нашего класса, носившим защитный старенький ватничек и новенький скрипичный футляр. Другим моим приятелем был Волыдя, сын завмага, высоченный лоб в кожаной шубе, с налетом наглецы в глазах — я любил его. Он водился со старшими с Зацепа, у него случались деньжата.
В магазине продавец сказал матери: «Не обидите — найду» — и вынес шубу — она сидела на мне колом, была на вырост, стеганая, тяжелая, с собачьим колющим воротником.
На третий день я задержался в классе после уроков, и с вешалки у меня украли шубу.
Утром я трусил в школу по морозу в старенькой своей кацавейке, поддуваемой ветерком свободы и невезухи. На Стремянном я догнал Волыдю. Тот был в пыжике. От него пахло водкой.
Я рассказал про пропажу. Он слушал, и вдруг по шмыгнувшей смущенной его улыбочке я понял, что он знает все. Он знал все задолго до моего рассказа.
Я, ежась, побежал вперед. «А я-то думал, чего это ты опять в подергаечке своей?!» — доносился мне в спину нарочито высокий голосок товарища.
Замоскворечье давало мне уроки.
Сейчас я ищу Стремянный, и вот странно, не могу его найти. Вход в него с Серпуховки застроен, затянулся, как заросшее устье. Стремянный назван по расположенному когда-то здесь двору стремянного конюха Букина. На первом плане Москвы 1739 года он обозначался как единственный восточный приток Серпуховки. Надо же! И вот он сейчас исчез, как пересохшая речушка. Столько веков его память хранила — и нате! — исчез.
На углу Полянки, занятый какой-то конторой, полыхал шедевр нарышкинского барокко — «красная церковь Григория Неокесарийского при Полянке». Красной она звалась не только из-за алого фона с белыми деталями на ней. В ней присутствовала кровь людского страдания.
Для меня она всегда была храмом Андрея.
Андрей Савинов, духовник тишайшего Алексея Михайловича, служил ранее в деревянной церкви, стоявшей на этом месте. Именно он обвенчал царя с красавицей Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Это была не просто свадьба. Царь женился на воспитаннице А. Матвеева, носительнице мировоззрения новой России, образованной, норовистой, которая потом родит ему Петра. Милославские лютовали. Савинов стал задушевным другом царя. И конечно, уговорил того построить каменный храм.
О вкусе и характере Андрея Савинова мы можем судить по размашистой цветастости постройки. В ней не было молитвенной отрешенности новгородских и псковских созданий. За этим стоит философия. Савинов был озарен земными соблазнами. Он бражничал с царем. Мы читаем в «Дворцовых разрядах» от 21 октября 1674 года: «…да у кушанья же был у Великого Государя духовник Великого Государя Андрей Саввиновичъ. И его Вел. Государя тешили, и в органы играли, а играл в органы Немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли. Государь жаловал своего духовника и бояръ вотками, ренским и романеею и всякими разными питиями, и пожаловалъ ихъ своею государевою милостию: напоилъ ихъ всехъ пьяныхъ».
За столом Андрей приятельствовал с Симеоном Полоцким, воспевавшим в орнаментальных виршах новый дворец.
А какие сочные, образные имена строителей храма, выбранных наших подвижников! Храм построен крепостным крестьянином Карпом Губой под наблюдением каменных дел подмастерья Ивана Кузнечика. Прямо Гоголь какой-то!
Как в большинстве строений XVII века, это бесстолпное пятиглавие на четверике. Архитектура лукавит, темнит, придуряется, скоморошничает. Сложена она из знаменитого подмосковного мячковского камня, по имени деревни возле Быкова, где была каменоломня. Яркая, светская, бесшабашно дерзкая, это лучшая из всех московских церквей XVII века. Есть в ней гармония и одновременно какая-то душевная тяжесть, словно в ней таится тревога, предчувствие страдания за красоту.
И еще один, может быть главный, смысл таила эта красная архитектура. Венчание царя было важнейшим событием в жизни Андрея Савинова. Прораб духа становился прорабом истории.
Видная всей округе, новая красота была отлично заметна из-за Москвы-реки, из Кремля. Она возвышалась над стрелецким Замоскворечьем — восхищала и отвращала. Она провозглашала торжество Нарышкиных и всенародно ославила Милославских.
И вольно или неосознанно сквозь ее нарядный силуэт проступал образ статной августейшей красавицы, молодой невесты России, в огненном наряде с белой оторочкой и зеленой накидкой на плечах, увиденной влюбленным взором создателя.
Как колокольня алая,
пылая шубкой яро,
Нарышкина Наталья
стоит на тротуаре.
В той шубке неприталеной
ты вышла за ворота,
как будто ждешь кого-то?
В чужом бензинном городе
глядишь в толпу рассеянно,
слетают
наземь
голуби,
как шелуха от семечек.
Я понял тайну зодчего,
портрет его нахальный,
и, опустивши очи,
шепчу тебе: «Наталья…»
Добром все это не могло кончиться. Открыть свое детище в 1679 году Савинову не удалось. Едва царь укатил в свое любимое Преображенское на «комедиальные действа» и соколиную охоту, где три тысячи соколов и двести тысяч голубей отвлекали его в небо от городских забот, как вольный духовник был арестован патриархом Иоакимом. «Яким, Яким!» — стыдил сего патриарха Аввакум. Андрей Савинов был посажен на цепь.
Виной ему вменялся блуд, влияние на царя и то, что он «церковь себе воздвеже без патриаршего благословения». Вернувшийся царь не сумел спасти любимца, лишь поставил двадцать стрельцов сторожить, чтобы его не кокнули. Впоследствии Андрей был лишен сана и умер на Севере, сосланный в Кожеозерский монастырь.
До сих пор, как замерзшие слезы, туманятся в тоске по нему изумрудные изразцы на Полянке.
Мастер изразцов этих, мастер Степан Полубес, понятно, был товарищем и сотрапезником нашего подвижника. О его художествах свидетельствует темпераментное буйство фриза — это знаменитый «павлиний глаз», где основа изразца — синий глубокий фон. Полубесовские изразцы украшали и Таганскую церковь на Гончарах. Если вы спуститесь с площади Гагарина к Москве-реке, на вас с отчаянной печалью глянет тот же «павлиний глаз» — правда, на терракотовом поле — с надвратной звонницы Андреевского монастыря.
Создание — всегда подсознательный портрет создателя. Изразцы — мета Замоскворечья. Они поблескивают и на алом тереме Третьяковки, спроектированном в 1901–1902 годах. Алый цвет подсказан Васнецову каменной нарышкинской шубкой, хорошо видной тогда от Третьяковки, не заслоненной еще многоэтажными корпусами. Это он ей чертог соорудил.
Зеленый с золотом фриз, как змей, обвивает фасад чарующим русским модерном. Фасад, как сафьяновый футляр, накрывает оба флигеля и лестницу между ними. В те дни терем утопал в саду, заросшем сиренью, китайскими яблонями, грушей, белым и алым шиповником. Темная зелень сирени подчеркивала алый цвет фасада.
Мемориально-гранитный дом напротив Третьяковки, построенный в 30-х годах архитектором Николаевым, описан поэтом Пастернаком, сыном художника, чья картина «Письмо с родины» принадлежит галерее. На деньги, полученные за нее от Третьякова, художник сыграл свадьбу, женившись на пианистке. Так от брака, благословленного Третьяковым, родился великий поэт. Во время войны, дежуря на крыше этого дома, он защищал округу от зажигалок.
Дом высился, как каланча.
В него по лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.
Когда он читал мне эти стихи на скверике перед домом и дом, смущенно насупясь, слушал, первая строка в первоначальном варианте звучала: «Рояль на лямках волоча…» «Ля-ля», — звенела, словно клавиши, заключенная в ней музыка, звенела замоскворецким ямбом.
Когда я предложил властям установить мемориальную доску на доме, где жил великий поэт, мне ответили: «Что же, весь фасад залепить? Досками портить?»
Облупленный, как яичная скорлупа, дом 21 по Большой Ордынке, построенный Казаковым и учеником его Осипом Ивановичем Бове, успокаивал мое детство обаянием московского ампира. Это самый близкий мне, доверительный стиль — уютные колонны и желтизна фасада, так идущая к снегу. Обычно особняки эти деревянные, лишь оштукатуренные, что дает им интимность и теплоту. Ими застраивалась Москва после пожара 1812 года. Ампир был занесен в Россию из Франции, но, потеряв свою помпезность, обрел уютное изящество. Петр Кропоткин называет барские особняки Сен-Жерменским предместьем Москвы.
Ни один особняк в те годы не обходился без участия Бове, всех он опоэтизировал своим любимым стилем, вот уж поистине прораб духа — весь город застроил! Когда на втором курсе я отмывал метопу с Манежа Бове, меня поразило, что и это великое его сооружение деревянное.
Позднее мы проходили прорабскую практику. Увы, я, как и многие, относился к ней халтурно. Меня более увлекала практика по обмеру ампирной усадьбы Никольского-Урюпина.
Ампир — это ямб Москвы. Точно так же этот надменный французский размер, занесенный в наши снега, обрусел, потерял свой металл, стал задушевным, самым русским из поэтических размеров.
Искусство составления выставок — особая страсть нашего столетия, духовная икебана XX века. Может быть, в миг термоядерной угрозы человечество как бы инстинктивно вспоминает все то, что может погибнуть? Экспонаты взывают к защите.
Париж — непревзойденный мастер выставок. Не случайно не «Гранд-опера», а стеклянный желудок выставочного комплекса Бобур стал культурным центром, духовным чревом Парижа. По его наружным прозрачным кишкам эскалаторов подымается пестрая зрительская толпа. Художественные выставки стали народной необходимостью.
Зайдем в вибрирующий свет павильонов «Электры». Доброе старое электричество, извлеченное греками из янтаря и хранимое Зевсом в туче, нынче вызывает ностальгию, как раньше вызвала бы ностальгию выставка «Свеча в искусстве». В залах мерцает магическая атмосфера старых лабораторий, здесь «Герника» Пикассо с его лампочкой, и саркастический электрический стул Энди Уорхола, и иллюминированные силуэты городов. Я долго стоял перед «Фонтаном, падающим вверх» современного дизайнера Цая. Пульсация воды и мигающего света, этих двух враждебных стихий, действует гипнотически. Художник использует струящуюся материю — воду и световую энергию так же, как другие используют мрамор и полотно. Мальчикоподобный Цай мечтал о новом Ренессансе, слиянии наук и искусства. Увы, в основе Ренессанса лежала идея разумности мира.
В двух шагах от этой выставки, в доме с окнами на Эйфелеву башню, макушка которой нынче подсвечена лучом лазера, я навестил патриарха французской поэзии Анри Мишо, отшельника, нелюдима, путешественника в наркотические глубины подсознания. Каждый раз вечер, проведенный с Мишо, становится самым значительным событием. Его бритый пергаментный череп с пушистыми ушами и бесцветные цепкие глазки излучают бессонную энергию. Он как бы замер во времени, законсервирован.
Жена его, изящная китаянка, счастлива. Когда он пишет словом, он нелюдим, замкнут. Когда пишет кистью — общителен, солнечен, распахнут миру. На его картинах испаряются странные фигуры, похожие на буквы, тревожащая душу смесь людской толпы и толпы слов.
Он, пожалуй, единственный из поэтов, кому удалось передать свой многолетний опыт с наркотиками, и химическими, и натуральными, в реальный художественный образ.
Внешне своим острым пергаментным и детским лицом он похож на Сергея Лифаря — сподвижника Дягилева. Его моложаво-древнее лицо как бы навек окаменело маской, снятой с молодости нашего века. А после на ночном бульваре сухая одинокая фигура Анри Мишо, поэта в кожаной ушанке, плотно завязанной под подбородком, казалась пилотом иных цивилизаций. И сигнальный луч лазера на башне, бабушке нашего столетия, приобретал особый смысл.
После обсуждения на совете Третьяковки я шел коридорами, свернул налево и остолбенел. За углом, прислонившись к стене, стоял Дягилев.
Он стоял, заложив руки в карманы, вполоборота, чтобы была видна парижская линия брюк-бананов, словно смоделированных Карденом. Он лупился на посетителей.
Он называл себя живописцем без картин, писателем без собраний, музыкантов без композиций. Нестеров писал о нем: «Дягилев — явление чисто русское, хотя и чрезвычайное. Спокон веков в отечестве нашем не переводились Дягилевы».
Пермский денди Серебряного века, лорнированный дядька нашего искусства, какую дьявольскую энергию таил он в себе! Обольститель, безумный игрок, сладострастник нюха. Он основал «Мир искусства»; заломив цилиндр, вывел на орбиту Стравинского и Прокофьева. Он заказывал произведения не только им, но и Равелю, и Дебюсси, понукал, диктовал, направлял, вылетал в трубу, отбрехивался от гнусных газетных писак, искал новое, он первый привел в театр Пикассо, не говоря уже о декорациях Бенуа и Рериха. На заре века дягилевские сезоны околдовали Париж нашей творческой энергией. Когда Нижинский сказал, что он своим танцем хочет выразить теорию кубистов, интервьюер смекнул сразу, что это дягилевская штучка.
Дягилева, Дягилева не хватает нам всем сейчас!
Читатель узнал, конечно, портрет, который я описываю. Он принадлежит Русскому музею. Дягилев, прораб духа в новом элегантном костюме-тройке, стоит там на фоне няни, как Есенина пишут на фоне березы. «Не матерью, но тульскою крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен», — писал Владислав Ходасевич, другой петербуржец. Бакст, создавший портрет, понял это.
В горнице рукописного архива Третьяковки Наталья Львовна Приймак оставляет меня наедине с драгоценными письмами Дягилева к Баксту. Они еще не опубликованы. На почтовой бумаге витиеватые грифы отелей — чаще это «Вестминстер» на улице Мира в Париже. Переписка на русском и французском. Летящие чернила выдают характер нетерпеливый, капризный. Вот Дягилев страстно переправляет в обещанной тысяче франков единицу на тройку. В письмах он торопит декорации к «Борису», к «Розе». Он умоляет, грозит. Подписывается то нежно «Сережа», то, досадуя, официально — фамилией. Обращается то «Левушка», то «дорогой друг», то «любезный друг Бакст». Бакст не приезжает.
Вспоминаю, как солнце опускалось в плетеный силуэт Эйфелевой башни, словно мяч в баскетбольную корзину при замедленной съемке. Назойливо лезет рифма: «Бакст подвел — Баскетбол»…
В Париже иду по ночной площади имени Дягилева, названной так почему-то не у нас, а в Париже.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
10. Наш «ампир»
10. Наш «ампир» По вечерам я посещал Гитлера раз или два в неделю. Около полуночи, после просмотра последнего фильма, он иногда выражал желание посмотреть мои чертежи и детально изучал их часов до двух-трех ночи. Остальным гости либо коротали время за бокалом вина, либо
Москвы от Лосеффа
Москвы от Лосеффа 1 апреля средаИз самолета прошли по обычным переходам, по дороге смешались с еще одной прилетевшей толпой и оказались в помещении перед будками паспортного контроля. Здесь почти все вокруг сразу закурили и стали говорить в сотовые телефоны. Из дюжины
Оборона Москвы
Оборона Москвы Со взятием Киева дорога на юг для немцев открыта. 30 сентября германское командование начинает операцию «Тайфун» — войска вермахта должны осуществить бросок из Смоленска прямо в Москву. «Красная звезда» бьет тревогу: «Само существование Советского
Вдали от Москвы
Вдали от Москвы Первые письма Чехова из Ялты были грустные. 20 сентября он пишет: "Погода в Ялте совсем летняя, квартира у меня очень хорошая, но живется скучно, по той причине, вероятно, что уже наскучило скитаться по белу свету". 21 сентября: "Здоровье мое и хорошо, и дурно.
ИЗ МОСКВЫ В ВАШИНГТОН
ИЗ МОСКВЫ В ВАШИНГТОН Проблемы послевоенного устройства. Организация Объединенных Наций приближается к пятому десятилетию своего существования. Ее членами являются около 160 государств мира. Она играет важную роль в международной жизни. Но осенью 1944 года, когда
Приманка Москвы
Приманка Москвы Большевики не скупятся на деньги и не жалеют ни времени, ни труда, чтобы заманить в свои сети тех, кто представляет для них интерес. Приняв решение выманить своего врага, атамана Тютюнника, из страны, в которой тот жил и работал, и доставить его в Москву,
Инструкции Москвы
Инструкции Москвы Итак, 15 марта 1962 года я прибыл в Вашингтон в качестве советского посла. Накануне отъезда я зашел к Громыко для получения инструкций. Он тепло попрощался и сказал, что никаких особых наказов не собирается мне давать: „Мы с Вами в течение последних двух лет
5. Штурм Москвы
5. Штурм Москвы Презентацию магнитоальбома «Наугад» решено было осуществить в Москве, в которой группа не выступала уже два года. Акция состоялась в ДК Горбунова 19 и 20 декабря. К этому моменту состав «Наутилуса» увеличился на двух музыкантов — виолончелиста Петра
От Башкирии до Москвы
От Башкирии до Москвы 1. Концертные будни В феврале 1944 ансамбль с новой программой двинулся в скотоводческую Башкирию. Видит ли гастролирующий артист новые города и веси, удовлетворяет ли в себе чувство познания окружающего мира? Нет, он бежит, он торопится с выступления
2. Стихия Москвы
2. Стихия Москвы Узнав, что Алеша вернулся, на Ново-Басманную стали приходить его друзья по довоенному ЦДЛу. Поэты Семен Гудзенко, Павел Шубин, Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Александр Межиров, Ярослав Смеляков — кого только не было там из молодых литераторов
У стен Москвы
У стен Москвы Непосредственная и серьезная угроза столице стала особенно чувствоваться в начале октября. На улицах и в предместьях спешно строили огневые точки, сооружали противотанковые укрепления. Государственный Комитет Обороны принял постановление о частичной
СЦЕНАРИЙ ИЗ МОСКВЫ
СЦЕНАРИЙ ИЗ МОСКВЫ Коротая время до встречи с посетителем, предупредившем о своем визите по телефону, Павел Борисович Луспекаев развлекался тем, что наигрывал на магнитную ленту видавшего виды бобинного магнитофона «Москва» звукофильм по мотивам киносценария, который
Далеко от Москвы
Далеко от Москвы Вам сегодня, дорогие товарищи, придется провести весь вечер вместе со мной. Необходимо, чтобы вы знали, кто я, что я и какие у меня цели и задачи. Тогда во время самого концерта у нас с вами уже не будет никаких вопросов и недоумений…Фамилия моя, как вам,
Посол Москвы
Посол Москвы Когда мне исполнилось десять лет, дед позвал меня в свой большой полутёмный кабинет, сверху донизу заставленный книгами и, указывая на какую-то большую папку, лежавшую на столе, сказал:—?Смотри сюда, Анатолий, ты уже не ребёнок и однажды станешь старшим в
ПИСЬМО 1-Е ГО МОСКВЫ
ПИСЬМО 1-Е ГО МОСКВЫ Благодарю тебя, мой милый, добрый брат, за письмо и особенно за стихи. Они доставили всем нам величайшее удовольствие. Вот стихи:В день Иова многострадального Шестого мая ты, сестра, Отправилась до града дальнего, В путь правды, чести и добра; Но мысль об