ГЛАВА ВТОРАЯ КО АУН САН
ГЛАВА ВТОРАЯ
КО АУН САН
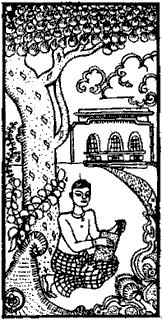
1
Поезд долго тащился по глубокой выемке, и только крыши домов, выглядывавшие из-за ее края, говорили о том, что начался Рангун. Неожиданно выемка кончилась, и показались три белые башни нового вокзала. Вокзал был построен англичанином, который хотел соединить несовместимое — бирманское народное зодчество и тяжелый викторианский стиль. Над большим кирпичным зданием он выложил из камня многошатровые башни, типичные для деревянного бирманского дворца.
Пассажиры тесно набитого вагона зашевелились, распихивая по мешкам и шанским сумкам кружки, тарелки, недоеденных кур и расстеленные на полках юбки — лоунджи. Мирный быт вагона, созданный пассажирами за два дня пути, в пять минут исчез в сумках и мешках. Только бумажки и порванные банановые листья, в которые был завернут купленный на полустанках рис, остались памятью о десятках людей, на два дня соединивших свою судьбу с обтрепанным рыжим вагоном третьего класса.
Аун Сан задержался в вагоне. Толкаясь в дверях, его попутчики вышли уже на перрон и смешались с толпой встречающих. Аун Сана никто не ждал, никто не встречал. Как только он покинет вагон, начнется новая жизнь, жизнь, в которой он будет предоставлен только себе, жизнь, связанная с большими и туманными надеждами и планами, жизнь, в которой его ждут незнакомые еще друзья, встречи, радости, разочарования и, может, любовь.
— Мальчик, выходи, — сказал незаметно появившийся в вагоне тамил — уборщик.
— Иду, сейчас иду.
— Ты, может, не знаешь, куда идти тебе?
— Нет, у меня есть адрес.
Уборщик был стар. Почти черные узловатые ноги, казалось, состояли только из жил. Кусок когда-то белой материи был обвязан у него вокруг пояса. Видно, не всем хорошо живется в богатом городе Рангуне.
А тамил, глядя вслед бирманскому парнишке с мешком за плечами, думал о том, сколько на своем веку перевидал он деревенских ребят, приезжающих за счастьем в столицу, медливших покинуть вагон, страшащихся немного города, с которым связано столько надежд. Ведь чаще всего эти надежды не осуществляются. Может, через полгода он снова увидит этого парнишку с тем же, только похудевшим и истершимся мешком за плечами. Парень займет место в уголке поезда «Рангун — Пром», или «Рангун — Мандалай», потерпев поражение в борьбе с большим городом. Так ведь часто случается.
Обширная, плохо замощенная площадь перед вокзалом, с кирпичной протестантской церковью на пригорке над ней, с грязными улицами, разбегающимися в разные стороны, была ярко освещена солнцем. Оно купалось в лужах от недавнего ливня, и над лужами поднимался едва заметный пар и смешивался с жаркими пахучими испарениями банановых корок, мочи, пота, сандаловой пудры, жареных орехов, бензина и лапшового супа.
Шумный жаркий мир площади ошеломил Аун Сана. Он сжимал в кулаке адрес университета. Он сделал несколько шагов по площади, поскользнулся на кровяном бетельном плевке и остановился в растерянности рядом с блестящим автомобилем. Из окна автомобиля высунулась рука шофера в белой перчатке и бесцеремонно отодвинула Аун Сана.
— Встал, деревня. Не видишь, комиссара полиции жду…
К Аун Сану подъехал рикша.
— Куда ехать?
— До университета сколько?
— Четыре анны.
В Натмауке четыре анны — большие деньги. На них можно прожить целый день.
— А пешком далеко?
Засмеялись и рикша и шофер в белых перчатках.
— К вечеру дойдешь.
Аун Сан не знал, верить им или нет. Он бы пошел пешком — даже интересно посмотреть на город. Но грызло опасение, что опоздает в университет и его не примут. Может быть, они уже набрали, сколько им нужно студентов, и придется возвращаться в Натмаук. Нет, только не это.
Аун Сан влез в коляску рикши и положил на колени мешок.
Рикша привстал на педалях велосипеда, коляска скрипнула, и началось путешествие к университету.
Правда, самого Рангуна, центра его, Аун Сан не увидел. Они ехали от вокзала к окраинам. Обогнули церковь, проехали короткий переулок, и вдруг в конце широкой улицы над крышей ехавшего навстречу трамвая Аун Сан увидел великолепный, могучий конус пагоды Шведагон. Золотая стометровая пагода, казалось, плыла по сизому фону облаков, и львы — чинте у ее лестницы сурово просматривали всю улицу.
Рикша отпустил руль велосипеда и сложил ладони вместе, В знак почтения Аун Сан последовал его примеру.
Другой такой пагоды нет не только в Бирме, но и во всем мире. Никто не знает, сколько ей лет, никто не знает имен ее строителей. Возвышается она над Рангуном и над всей Бирмой. Отсюда начинался Рангун, отсюда, считают бирманцы, начиналась история Бирмы. Буддисты верят, что внутри пагоды, в сокровищнице, схоронены восемь волос самого Будды.
Дорога обогнула холм с пагодой.
— Видишь вмятину? — спросил рикша, показывая на углубление у дороги. — Здесь маха-зинда упал.
— А кто это?
— Не знаешь? — Рикша явно обрадовался поводу рассказать пассажиру интересную историю. — В Рангуне каждый мальчишка знает. Будешь в Шведагоне, погляди на маха-зинду. Это колокол так называется. Очень большой колокол. Священный. Два человека друг на друга встанут — не достать до верхушки. В Англии, конечно, такого нет. Вот и захотели англичане его увезти к себе. Ну что будешь делать? У них солдаты. Старики, скажу тебе, плакали, когда англичане колокол стаскивали по лестнице. Сто лошадей они в платформу впрягли, пока до реки тащили. Вот там, где я тебе показал, колокол упал — не хотел, значит, уезжать. Но англичане его снова на платформу положили. На реке уже пароходы стояли, чтобы везти его дальше. Ну, погрузили, отчалили… Нет, неужели ты в самом деле не слышал?
— Да нет, рассказывай дальше.
Рикша приостановил велосипед, достал шерут — бирманскую сигару, угостил Аун Сана, вторую закурил сам. Поехали дальше.
— Так вот, — продолжал он. — Отвалил пароход от пристани. Тысячи людей на берегу стояли. Все смотрели и не верили, что колокол все-таки согласится уехать из Бирмы. И правда, только пароход дошел до середины реки, как видим — колокол начинает съезжать к одному борту. Англичане засуетились, стараются удержать. А пароход от тяжести набок клонится. Колокол пошел рвать цепи, которыми его привязали. Разорвал, нырнул в реку и был таков. Только вода столбом поднялась.
Заговорившись, рикша въехал в стаю бродячих рыжих собак. Собаки с визгом бросились врассыпную. Дорога пошла в гору. Снова стал виден исчезнувший было за крышами домов и вершинами пальм конус Шведагона.
— Так вот. Вода столбом поднялась, и нет колокола. Англичане, конечно, забегали. Неприятно ведь — на глазах всего Рангуна такой позор. Не захотел колокол в Англию ехать, и ничего они поделать не смогли. Ну и войск они тогда понагнали! Да и не только войск — всех кули из порта привезли, водолазов достали. Три дня бились — все хотели колокол со дна поднять. А он с каждым разом все глубже и глубже в тину уходит. Все ходили смотреть, как англичане с колоколом воюют. И я ходил. Но колокол не поддался. Нет, не поддался.
Рикша говорил о колоколе, как о живом существе, и Аун Сан представил себе оживший колокол, который рвет цепи и ныряет в реку, только чтобы не покидать Бирму.
— Ну, чего же замолчал? Увезли они его все-таки?
— Не торопи, брат. Все в свое время. Значит, отступились англичане. Тогда приходит к губернатору один поунджи — монах, вернее много людей пришло, но товорит за всех один: «Обещаете, что колокол теперь не возьмете?» Губернатор отвечает, что чего же обещать, если его достать нельзя. «А мы, — поунджи говорит; — его достанем». А губернатор говорит: «У вас это не получится. Если, — говорит, — мои солдаты не смогли, то никто не сможет». — «А ты разреши, — поунджи отвечает, — нам, бирманцам, его из реки вытащить. Только тогда, — поунджи говорит, — пусть англичане его снова не увозят»: Ну, губернатор усмехнулся и согласился. Чего же ему не согласиться, если он в себе уверен? Пришли тогда к реке пять тысяч человек. А может, и больше. Самые большие мастера на реку выехали на плотах и лодках. Зацепили колокол и вытянули на берег. Все вместе тянули. Колокол ведь хотел вернуться в Шведагон. И не сопротивлялся. Так его через весь город обратно провезли, от тины и грязи очистили, и вот стоит теперь.
Рикша затянулся шерутом и, явно сожалея, что такая интересная история закончилась, добавил:
— А как такой позор губернатор пережил — ну просто не знаю. Жена его, наверно, ругала. А может, и совсем ушла. И пароходы, и солдаты, и водолазы, а колокол не захотел уехать и не уехал. Вот так-то!
По сторонам дороги росли могучие деревья, смыкаясь кронами над мостовой. Рикша выехал на широкую площадь, окруженную тростниковыми хижинами. Казалось, Аун Сан снова вернулся в Натмаук. Посреди площади был поросший травой круг, и на нем сидели, лежали, стояли молодые ребята. Некоторые читали книги, некоторые просто, разговаривали. Направо от площади уходила зеленая улица.
— Вот и Камают, так площадь называется. Тут уже все студенты. Направо — университет. Тебе куда? В приемную комиссию?
— Да.
— Я так и подумал, не первого везу.
Проехали по аллее мимо большого серого здания.
У следующего остановились.
— Ну счастливо тебе учиться, — сказал рикша. — Может, увидимся.
2
Секретарь приемной комиссии Рангунского университета обратил внимание на приехавшего из провинции паренька, в аттестате которого было сказано; «Особо отмечаются успехи Маун Аун Сана в математике, языке пали и английском языке».
Секретарь отложил перо и внимательно посмотрел на будущего студента. Перед ним стоял худой, угловатый юноша, даже скорее подросток, на вид ему было лет пятнадцать, не больше. Скуластый, большеглазый, темнокожий, резко очерченные губы и прямые, непослушные волосы, остриженные длиннее, чем носили в Рангуне. Юноша был одет в стираную белую рубашку и домотканые лоунджи. («Мог бы приодеться получше для приемной комиссии», — мелькнула мысль у секретаря.)
— На какие лекции в университете хотите записаться? — спросил секретарь.
— На английскую литературу, современную историю и политические науки.
— Не лучше ли вам подать на математику? У вас к ней склонности, а безработных литераторов и политиков в Бирме уже достаточно.
Секретарь улыбнулся и придержал улыбку на лице чуть подольше, чем хотелось, — ждал ответной. Но ее не последовало.
— Я не буду безработным политиком, — ответил Аун Сан.
Секретарь отметил про себя, что он говорил на правильном английском языке. Только произношение хромало. Ужасное произношение.
Слава богу, что хоть так говорит. И сказал более официальным голосом:
— Потом будете раскаиваться. Экзамены начинаются послезавтра, получите ключ от комнаты общежития… Следующий.
Аун Сан шел по тенистой аллее к общежитию. Все его имущество умещалось в мешке, который он нес на плече. Он всматривался в лица встречных. Вот идут трое, в шуршащих шелковых лоунджи, с кожаными портфелями в руках. Английские фразы, которыми они перекидываются, точны и правильны. Этим не надо беспокоиться о работе. А вот идет парень, одетый попроще, читает книгу на ходу. «С ним я познакомлюсь», — думает Аун Сан. Как велик университет! Вот уже минут десять идет Аун Сан по дорожкам, а все новые здания выглядывают из-за манговых деревьев, все новые аллеи пересекают его путь. Ба Вин говорил, что здесь около пяти тысяч студентов. Они даже издают свой журнал и имеют совет, который решает студенческие проблемы.
Комната в общежитии невелика. Четыре шага в длину, четыре в ширину, окно, кровать с москитной сеткой, стул и столик, который, видно, верно служил его предшественникам. Он исписан формулами и закапан чернилами. Аун Сан присел на кровать, скрипнули пружины. Вот так начинается новая жизнь.
Кем он будет? Писателем. Конечно, писателем, в этом нет никакого сомнения. Еще в енанджаунской школе говорили, что у него есть талант. Может быть. Когда он прочитал свои стихи Ma Ни Ни из их класса, та не поверила, что он мог их написать. Сказала, что списал из журнала. Когда это было? Уже год прошел. Но он будет писать романы. О том, как живут нефтяники в Енанджауне, о своем деде — он давно хочет написать роман о своем деде. Только издадут ли такой роман? Но если не сейчас, то после освобождения Бирмы. Ведь не может быть, чтобы англичане остались здесь навсегда…
В проем двери заглянул незнакомый парень.
— Вы будете жить здесь?
— Да.
— Я ваш сосед. Слышу, кто-то новый приехал. Откуда?
— Из Натмаука.
— Почти соседи. Я из Прома. Вы обедали? Ну тогда пойдемте вместе, я покажу, где столовая.
3
Весь первый год в университете Аун Сан много занимался, много читал и почти не участвовал в общественной жизни университета. С первых же дней он понял, насколько велика разница в знаниях между выпускником енанджаунской национальной школы и теми студентами, что учились в католической школе или в рангунском колледже Святого Павла. Он был для них серой деревенщиной, хотя читал-то он не меньше их. И все-таки пробелов в его образовании оказалось столько, что приходилось сидеть ночами, чтобы ни в чем не отставать от других студентов на курсе. И он не отставал. Пускай они смеются над его английским произношением, слов он знает больше их, а произношение — он старался говорить только по-английски каждый день, читал вслух Диккенса, Киплинга. Комната его в общежитии завалена книгами. Вот уж кого хорошо знали в библиотеке и в книжных лавках.
И когда ребята из общежития видели, что Ко Аун Сан опять на обед не берег ничего, кроме риса, только пожимали плечами — сумасшедший какой-то. С деньгами было плохо. Все, что присылали из дому, уходило на книги и еду. Он так и проходил весь первый год в той рубашке, которую привез из дому. Хорошо еше, что заезжал Ба Вин и отдал ему свою.
Аун Сан медленно сходился с людьми. Он как-то оставался в стороне от вечеринок и приключений. Ведь ему приходилось беречь каждый пья, чтобы не остаться без обеда. Он просиживал над книгами до рассвета и клевал носом днем, он не хотел ни выступать в студенческом театре, ни участвовать в ночном набеге на общежитие девушек, ни играть в футбольной команде университета. Все это не способствовало известности Аун Сана в университете. Да и его манера держаться не располагала к себе людей. Был он резок, грубоват, то становился не в меру разговорчивым, то замолкал надолго в самое неподходящее время. За год о университете он еще больше похудел, потемнел и казался мальчишкой, случайно затесавшимся в стены этого солидного заведения.
Правда, нельзя сказать, что у него совсем не было друзей. Но это в основном были такие же, как он, приехавшие из провинции ребята, стесняющиеся своей немодной одежды. Почти все они не кончали английских школ, а вышли из национальных и не скрывали презрения к изящным образованным юношам в шелковых лоунджи, которым отцы — адвокаты и чиновники уже заранее обеспечили теплые места в «обществе».
Обычно Аун Сан и его новые друзья собирались у кого-нибудь в комнате и там до хрипоты спорили о политике, о том, за кем будущее, за молодыми революционерами или за стариками из Совета ассоциаций, спорили, прав ли был Сая Сан, когда короновал себя. С горячностью восемнадцатилетних они хотели немедленного восстания, готовы были отдать жизнь за Бирму — только еще не знали, с чего начать, как идти.
Однажды к компании Аун Сана присоединился за столом Ко Мья Сейн, впоследствии друг Аун Сана и писатель. Вот как он вспоминает свои впечатления от Аун Сана: «С первого взгляда он казался угловатым, грубоватым в поведении и сильно увлеченным политикой — тогда уже все рассматривал с политической точки зрения. Он был небольшого роста, худым, с квадратными плечами и квадратной челюстью. Одет он был в домотканую одежду, говорил громко короткими, обрезанными предложениями, переходя то на английский, то на бирманский. И поражал своей откровенностью. Ходил он быстро, откинув назад туловище и наклонив голову, размахивая сложенным зонтом. Когда говорил, то подчеркивал свои слова, разрубая воздух ладонью. Но смех его был громок, весел и заразителен. Много курил, причем не делал различия между бирманскими и английскими сигаретами, но никогда не пил. Он любил вкусно поесть, но ему очень редко удавалось позволить себе такое. Очень любил ходить в кино, но не на все картины, а на те, что имели социальное содержание. Например, понравились ему «Золя», «Хуарец» и «Доносчик».
К концу второго курса Аун Сан совсем забросил литературу. Это не значило, что он стал хуже учиться, — уже за первый год по всем предметам он догнал своих сверстников и запаса знаний хватало на все требовании преподавателей. Но с каждым днем учебе оставалось все меньше времени. Число его друзей уже не ограничивалось полдюжиной однокурсников и земляков. Он познакомился с Ко Тейн Пе, молодым писателем, который вечерами переводил на бирманский работы Маркса и писал горячие статьи в журналах — под псевдонимом, конечно. Встретился с Ко Джо Неином, Ко Ну, Рашидом — студентами, которые уже тогда подумывали о том, чтобы взять в свои руки студенческий совет университета и избавиться от сынков адвокатов, которые превратили его в клуб наподобие Пегу-клуба или Гольф-клуба — для избранных.
Выборы и совет предстояли осенью, а каникулы перед третьим — курсом Аун Сан провел дома, в Натмауке. Каникулы в Бирме не совпадают с каникулами в Европе, потому что весна там — самое жаркое время года, и каникулы занимают апрель, май и нюнь, так что возвращаются в университет студенты в июле, когда дожди охладят воздух.
Дома мало что изменилось. Так же отец просиживал целые дни над священными книгами, мать тянула хозяйство, сестры ждали женихов.
Родной город показался тихим, слишком тихим и сонным. Сверстники, с которыми играл и, чтобы завоевать их уважение, ходил со свечой на кладбище, разъехались кто куда. Казалось, жизнь остановилась много лет назад.
Аун Сан пожил неделю дома, перечитывая свои старые, самые первые книги, отсыпаясь и отъедаясь. Мать ничего не жалела для того, чтобы поставить Аун Сана снова на ноги — она была уверена, что он на грани голодной смерти. Потом он поехал в деревню, к двоюродной сестре, и там снова оказался в гуще событий. В деревне было трудно, голодно, тяжело, но постороннему наблюдателю могло бы показаться, что там царят патриархальные, почти семейные отношения — вроде бы ничего не изменилось за последние годы; так же выводят по утрам буйволов и волов из ворот крестьяне, на тех же полосках пашут, пересаживают рис и косят его. Но полоски уже были не собственные — они или попали в заклад к ростовщику, или вообще перешли в руки помещика и теперь крестьянин отдавал за них половину урожая. Не было семьи, не увязшей в долгах. Крестьяне помнили Сая Сана и не верили, что его казнили, — ждали, когда придет снова, с армией галонов и освободит их.
В деревне Аун Сан произнес одну из своих первых политических речей. Он говорил о грядущих переменах и о том, что в Рангуне есть люди, которые готовятся к борьбе за свободу Бирмы. Крестьяне спрашивали его о такинах — о них уже слышали в деревне. Кто они?
Аун Сан мог рассказать о такинах многое. Ведь он в Рангуне встречался с ними, с некоторыми даже познакомился.
Такинами называли себя члены организации «Добама», что значит «Мы бирманцы». Говорят, что обращение «такин» возникло следующим образом. В начале тридцатых годов один студент, член молодой «Добама», был в деревне. Там он услышал, как крестьяне обращаются к английскому чиновнику со словом «такин» — господин. «Почему, — подумал он, — господами в нашей стране называют чужеземцев? Настоящие господа в Бирме — сами бирманцы». Приехав в Рангун, он рассказал об этом товарищам. С тех пор члены «Добама» стали величать друг друга такинами. Слово быстро прижилось и вскоре даже вытеснило «Добама». Так, первая революционная партия Бирмы вошла в историю под названием партии такинов.
Движение такинов зародилось в Рангунском университете, и, выйдя из его стен, такины не потеряли полностью связей со своими младшими товарищами. Первые такины были лет на пять-шесть старше Аун Сана, и к тому времени, когда он вступил на путь политической борьбы, они уже пережили первый, организационный период своей деятельности и «пошли в народ». Такины начали ездить по деревням, устраивать митинги, хотя поначалу из соображений конспирации обставляли свою деятельность как культурное движение.
4
Аун Сан опоздал на два дня к началу занятий. Общежитие было пусто. Аун Сан вывалил на стол домашнюю снедь, что дала мать, и тут в комнату ворвался Ко Мья Сейн.
— Третий день ждем тебя. Послезавтра общее собрание. Тебе с Ко Ну выступать. Пора начинать. Я говорил с ребятами с факультета наук — нас поддержат.
Ко Мья Сейн увидал сказочные запасы съестного, сваленные на столе.
— Да ты стал богачом!
— Зови ребят. Ешьте. Все равно испортится. Мать знала, что я не буду есть в одиночестве, приготовила на всех.
А потом было общее собрание. Первым выступил Ко Ну. Он хорошо знал английский, умел говорить складно и убедительно. Его слушали внимательно, аплодировали. Выступил Аун Сан. Этого парня студенты еще не знали. Аун Сан начал говорить не о том, что ожидали от него услышать, не о нуждах студентов.
Аун Сан говорил о Ба Mo, о том самом Ба Mo, который выдвинулся во время процесса Сая Сана и сделал быструю карьеру. Сначала он выступал за бойкот созданного англичанами Законодательного совета, а потом, когда почувствовал, что ему выгоднее держаться за этот совет, круто изменил позиции и темными махинациями добился, чтобы его самого туда выбрали. И не только избрали, но и сделали министром просвещения. Аун Сан критиковал, да еще как, нового министра — живого места на нем не оставил. Речь его настолько шла вразрез со всеми предыдущими речами, что сидевший на собрании английский надзиратель печатными буквами записал имя оратора в записную книжку и дважды подчеркнул его. Но прерывать студента надзиратель не стал. Он недолюбливал Ба Mo, не доверял ему и потому в нарушение университетских правил позволил Аун Сану продолжать речь.
К этому времени англичане выделили Бирму в «самостоятельную» колонию. У нее теперь был свой парламент и совет министров, которые во всем подчинялись английскому губернатору. Но министры получали приличное жалованье, воровали, брали взятки и при всем этом занимали выгодное положение в иерархии колониального общества. Ба Mo выступал за англичан, надеясь со временем добраться до поста премьер-министра колонии. Правда, сами англичане посматривали на него с опаской. Нельзя сказать, что он был для них достаточно надежной кандидатурой. Каждому в Бирме было ясно, что, изменись обстановка, Ба Mo с такой же убежденностью начнет нападать на англичан. И не потому, что в самом деле хотел добиться независимости для Бирмы, а потому, что был согласен только на такую независимость (или зависимость), при которой он, Ба Mo, будет стоять во главе Бирмы.
Несмотря на остроту темы, первая речь Аун Сана провалилась. Он впервые выступал по-английски перед большой аудиторией, и его подвело это проклятое английское произношение. Друзья его понимали — они привыкли, а вот незнакомые студенты откровенно смеялись над неправильно произнесенными словами. Но Аун Сан продолжал говорить. Пусть смеются. Но надо обязательно кончить. Смех становился все громче. Теперь, заразившись общим весельем, к адвокатским сыновьям присоединились и свои ребята, даже друзья. Аун Сан все говорил и говорил. Последние слова его пропали в общем хохоте. Он резко повернулся и сбежал с возвышения.
Тейн Пе нашел его на пустой аллее. Аун Сан увидел его и сказал:
— И все-таки я договорил до конца. Мне нельзя было не кончить. Тогда бы мне уже никогда здесь не выступить. А я еще буду говорить перед ними. И они не будут смеяться. Иди обратно на собрание. А то там наших мало.
Аун Сан зачастил к английскому профессору Роудсу. Старик преподавал английский язык, и интерес любого студента к нему воспринимал как личный комплимент. Как-то Аун Сан возвращался от профессора с приятелем и спросил:
— Ты все понимаешь, что профессор говорит?
— В общем да, но детали иногда выпадают.
— То же и со мной. Все-таки до чего мы еще не образованны! Нам надо почаще разговаривать с англичанами, чтобы никто не мог придраться к нашему английскому. Сейчас все у нас по-английски. И газеты, и журналы, и выступления. Знаешь, все-таки мы одолеем язык.
В том же году Аун Сан, Ну, Чжо Нейн, Тейн Пе и Рашид выступили единым фронтом, выставив свои кандидатуры в студенческий совет. Это было через несколько месяцев после первой речи Аун Сана, и к тому времени он не только выступал несколько раз, но и добился тот, чтобы его слушали без улыбок. Недостатки произношения искупались содержанием речей. Теперь это был уже не никому не известный паренек в домотканых лоунджи, а «наш Аун Сан», самый непримиримый из студенческих ораторов.
Всех кандидатов, Аун Сана в том числе, выбрали в совет.
На первом же заседании совета Аун Сан стал редактором студенческого журнала «Овей». Отныне он отвечает за всю пропаганду совета.
Еще до выборов студенты связались со штабом партии такинов в Рангуне. Партия такинов была единственной организацией, с которой, по их мысли, стоило сотрудничать. Пока еще такины были немногочисленны, но они отличались от других политиков тем, что их нельзя было купить, переманить на сторону правительства и заставить замолчать.
Когда Аун Сан был дома, на каникулах, он узнал, что в Енанджауне готовится первая конференция такинов. Выбран Енанджаун для этой цели был не случайно. Такины надежнее чувствовали себя среди нефтяников, среди патриотически настроенной енанджаунской интеллигенции. Группа молодежи, к которой принадлежал брат Аун Сана, Ба Вин, тоже примкнула к такинам.
Тогда же Аун Сан впервые встретился с организаторами такинского движения, и связь эта окрепла в университете.
Интересно, что, несмотря на арест такинских лидеров, несмотря на запрещение деятельности такинов, английские чиновники не смогли ни тогда, ни впоследствии понять все значение их, всю опасность, которую несут для их господства молодые революционеры. Полицейские чиновники считали, что организация «Добама», другими словами партия такинов, не имеет никакого влияния в массах, ибо бирманцам не свойственно увлечение марксистскими теориями. Источником смуты являются индийские марксисты, и если пресечь связи с бенгальскими революционерами, то без поддержки извне такины захиреют и станут одной из мелких безопасных партий.
Такие рассуждения такинам были даже выгодны. И то, что переход студенческого совета в руки последователей такинов не привлек особого внимания ни университетского начальства, ни полиции, позволило такинам целый год работать почти беспрепятственно.
Что же отличало такинов от других партий и организаций, привлекало людей на их сторону, позволило развиться и вырасти партии до таких масштабов, что она поставила под угрозу господство англичан в Бирме?
Такины выступили с лозунгом: «Бирма — наша страна, бирманский язык — наш язык. Будем же любить свою страну, уважать свой язык». Или, как писали тогда: «Надо начать борьбу против рабского образа мышления». И еще одним из внешних проявлений такинского движения было активное участие в кампаниях «покупай бирманское, возрождай бирманское».
Такины тех дней носили только домотканую одежду, деревянную обувь и даже курили только бирманские сигары.
Не надо думать на основании всего этого, что руководители такинов и вошедший впоследствии в их партию Аун Сан были узкими националистами, ненавидевшими все европейское. Во время войны, выступая на первом выпуске национальной офицерской школы, Аун Сан говорил: «Что такое национализм? Любовь к своей стране и ненависть к другим нациям? Нет. Вы не имеете права ненавидеть другую нацию, потому что любите свою. Если кто бы то ни был, изнутри или извне, подрывает интересы нашей нации, мы лолжны дать ему отпор… Но если вы воспринимаете национализм как ненависть к какой бы то ни было нации, вы абсолютно не правы».
Такины не ограничивались чисто просветительскими задачами. Движение такинов было, как говорил Аун Сан, «великим социальным уравнителем». Ни один из руководителей Генерального совета бирманских ассоциаций, ни один из бирманских политиков не отваживались открыто заявить о своей борьбе за равноправие, за интересы бирманских тружеников. Такины это сделали. Они боролись против классовых, национальных, расовых и других привилегий.
Помогло на первых порах такинам и то, что на их сторону сразу и бесповоротно встал Кодо Хмайн, бирманский писатель, основатель современной бирманской литературы, человек, которого знает любой бирманец. «Тики» Кодо Хмайна (поэмы в прозе) заучивались наизусть. Кодо Хмайн заявил о своей поддержке такинов, больше того, вступил в их партию и возглавил наиболее революционное ее крыло. Он говорил о старых партиях: «Эти организации возглавлялись старомодными людьми, и я считал их недостаточно твердыми, чтобы бороться против империализма. Молодежь была надежной — и я присоединился к молодежи и студентам».
5
После избрания редактором студенческого журнала «Овей», — что значит «Крик павлина» (павлин — птица, которая пользуется особым уважением в Бирме, павлин был даже гербом королевской Бирмы), Аун Сан занялся, наконец, литературной деятельностью. Правда, это была не та литература, о которой он мечтал в школе, но статьи, что Аун Сан печатал в «Овее», прогрессивной газете «Новая Бирма» и в журнале «Мир книг», были частью политической деятельности Аун Сана, частью борьбы за свободу.
Теперь почти не сохранилось ни номеров «Овея», ни газет предвоенных лет. Никто специально не берег их, а те, что берегли, растеряли во время войны. Поэтому трудно восстановить содержание аунсановских статей тех лет. Известно, что они покрывали собой весьма широкий круг тем. И везде Аун Сан оставался самим собой — откровенно и резко писал о том, что волновало тогда студентов, что стояло на повестке дни такинов. Нет никакого сомнения, что студенческий совет университета был не только тесно связан в то время с «Добама», но и фактически подчинялся решениям такинов, был отделением партии в университете.
А к концу учебного года, в январе 1936-го, когда жара начинает набирать силу, когда по вечерам прохладно и с озера Инья набегает на аллеи университета ночной бриз, свежий и ласковый, когда студенты начинают уже подумывать о недалеких экзаменах, случилась неприятность с председателем студенческого совета Ко Ну. Неприятность была, если можно так сказать, предвиденная. По решению совета Ко Ну выступил с критикой мистера Слосса. Тот был ректором университета и славился своим высокомерным отношением к студентам, пренебрежением к бирманцам и всему бирманскому. Выступление было направлено не только против Слосса, но и против порядков, которые он олицетворял, против колониального духа, пронизывающего всю жизнь университета.
Университетское начальство несколько дней обсуждало вопрос, что делать с Ко Ну. Он давно уже мозолил глаза администрации, потому что администрация не без оснований подозревала, что председатель совета находится в университете не столько для учебы, сколько для антиправительственной деятельности. Ведь Ко Ну уже раз окончил университет — в 1929 году — и после этого несколько лет работал учителем в национальной школе. Он был связан с такинами, и, когда вернулся в университет и поступил в аспирантуру, его куда легче было найти в помещении совета, нежели в библиотеке или аудитории. Но придраться к нему с учебной точки зрения было трудно. Обязательного посещения лекций тогда не существовало, а срезать на экзаменах его не удавалось.
И тут подвернулся замечательный случай разделаться с ним, а заодно обезглавить слишком активный и слишком популярный студенческий совет.
Исключение задержалось только потому, что англичане хотели увериться, что крупных выступлений за этим не последует. Опросили факультетских доносчиков, просмотрели личные дела студенческих лидеров и решили, что сам Ко Ну скорее всего не будет подстрекать студентов к общему выступлению. Он был сторонником легальных, спокойных методов борьбы, без взрывов, а кроме того, был верующим буддистом. Оставались два опасных говоруна — Аун Сан и Тейн Пе. Но оба еще мальчишки и, очевидно, не пользуются такой популярностью, чтобы поднять студентов на открытые выступления.
И в начале февраля Ко Ну исключили из университета. Получив приказ об исключении, Ко Ну решил не поднимать шума. Приближались экзамены, и демонстрации, чреватые дальнейшими исключениями и репрессиями, могли помешать учебе его товарищей. А важнее всего сейчас, считал он, стать образованными. Но его товарищи были полностью не согласны со своим председателем. Учеба — это, конечно, хорошо и очень нужно, говорили они. Но какая учеба? Которую навязывают английские профессора? Так ведь это и есть навязывание рабского склада ума, с чем борются так яростно такины. И второе. Уже полгода как выбран новый совет, и за все это время он не проявил себя ни единым крупным выступлением и таким, чтобы эхо его прокатилось по всей стране. Если сейчас есть возможность использовать исключение Ко Ну как предлог для политической борьбы, возможность эту терять нельзя.
Тогда, на совете, так и не пришли к окончательному решению, но отчет о его заседании попал к ректору, и Слосс остался очень недоволен выступлением Ко Аун Сана.
А тот был верен себе. В февральском номере журнала «Овей» студенты увидели неподписанную статью «Цербер на свободе». Хоть в ней и не упоминалось ничьих имен, каждому было ясно, что описан в ней один из руководителей университета, англичанин, помощник ректора Слосса.
Многие студенты знали, что статью написал Ньо Мья, один из членов редколлегии журнала, близкий к студенческому совету. Да и он сам, не отличавшийся излишней молчаливостью, не скрывал своего авторства. Знали автора и в ректорате. Но не он их там интересовал. Статья послужила предлогом разделаться со вторым лидером, с Аун Саном.
Аун Сана вызвали к Слоссу. Тот, не предложив ему сесть, потребовал, чтобы Аун Сан, как редактор журнала, сообщил имя автора статьи на предмет исключения этого автора из университета. Слосс знал, что Аун Сан автора статьи не выдаст. А Аун Сан, со своей стороны, отлично понимал, что англичане знают все о Ньо Мья.
— Не скажете, кто автор?
— Нет. Если статья не подписана, значит автор пожелал остаться неизвестным, и и не имею права раскрывать его имя.
— Но вы понимаете, что, опубликовав эту статью, вы грубо нарушили университетские правила.
— А разве хоть один из фактов статьи не подтвердился?
— Не вам, Аун Сан, и не здесь судить о поступках и характере ваших наставников. И пока вы находитесь в стенах университета его величества, потрудитесь уважать их.
— Простите, но такого человека мы уважать не можем. Если он не только не уважает нас, бирманских студентов, но и развращает наших девушек, пользуясь их подчиненным положением, если он прогнил настолько, насколько прогнила вся ваша университетская система, мы не можем терпеть больше, чтобы такой человек нас учил.
— Аун Сан, вы понимаете, что я буду вынужден исключить вас из университета как ответственного за антиправительственное выступление? Да, именно антиправительственное. И, возможно, вы попадете в тюрьму как бунтовщик. Вы понимаете, какой удар это будет для ваших родителей? Вы останетесь неучем и вернетесь в свою деревню.
Аун Сан ничего не ответил. Он стоял, наклонив голову, широко расставив ноги, маленькийз, вихрастый, упрямый.
— Идите. Считайте, что вы уже не студент.
Аун Сан вышел на заполненный солнечным светом двор, зажмурился после полутьмы коридоров и ректорского кабинета, с приспущенными в жару шторами. Открыл глаза — стоит в центре толпы студентов. Тут и Ньо Мья, с которым столько приходилось ругаться из-за его несдержанности, анархистских наклонностей, и умный, спокойный Тейн Пе, и Ко Ну, которого исключили из университета, но не смогли изгнать с территории, и другие.
— Ну что?
— Выгнали.
— Вот подлецы! Больше терпеть нельзя.
— Может, мне сознаться? — вмешался Ньо Мья.
— Ни в коем случае. Ты что думаешь, они не знают, что это ты написал статью? Им нужен не ты и не я, а им нужно разгромить наш совет. А этого не будет.
Уже через несколько минут весть о втором исключении долетела до самых отдаленных уголков университета. И тут обнаружилось, что за последний год Аун Сан стал так популярен, что ни у кого не оставалось никаких сомнений — бастовать или нет. Бастовать!
И когда студенческий совет провел общее собрание студентов, резолюции его только повторили то, о чем говорили студенты. Началась всеобщая забастовка студентов университета.
Прямо с митинга студенты, не расходясь, сели в автобусы — тут помогли такины, выделив деньги и договорившись с шоферами, — и отправились к золотой пагоде Шведагон. Там, на склонах шведагонского холма, они разбили лагерь, создали забастовочный комитет, в который вошли представители всех факультетов, чтобы никто не мог обвинить студентов в анархии, беспорядках и хулиганстве. Ко Ну, Ко Аун Сан и Рашид стали «мозговым центром» забастовки. Выла создана также «разведка» и «контрразведка», которая должна была следить за маневрами университетского начальства и полиции и предупреждать забастовщиков о шагах противника. Снабжением занялись девушки с педагогического факультета.
Штаб разместился у Шведагона, но в университете остались «ударные группы», которые отвечали за срыв экзаменов. Дело в том, что в университете осталось несколько десятков штрейкбрехеров, тех «шелковых лоунджи», что хозяйничали раньше в студенческом совете, остались их подпевалы, сынки помещиков и чиновников. Надо было не допустить их к экзаменационным столам. Сделано это было так. Перед входом в каждое здание ложился забастовщик, и тому, кто хотел пройти внутрь, пришлось бы через него перешагнуть. Но нельзя нанести тяжелее оскорбления буддисту, чем перешагнуть через него. После такого оскорбления забастовщики за себя не ручались, и вряд ли кто осмелился бы осудить их за разбитый нос или синяк под глазом у оскорбителя. Знали об этом и «шелковые лоунджи». Экзамены были сорваны.
Тем временем «мозговой центр» готовил список требований к английским властям. В них были включены требования о восстановлении исключенных Ко Ну и Ко Аун Сана, требование демократизации университета, введения в его правление представителя студентов и другие.
А пока требования писались, делегаты забастовщиков разъехались по всей стране, призывая мандалайцев и таунджийцев, промцев и студентов Бассейна поддержать забастовщиков. Надо было быть в Бирме в те дни, чтобы увидеть, как сразу и горячо откликнулись на этот призыв бирманские студенты и школьники. Почти во всех школах, колледжах и институтах Бирмы занятия приостановились. В результате министерству просвещения пришлось перенести экзамены на более поздний срок.
С утра к шведагонскому холму собирались рангунцы. Тут были и родители забастовщиков, и знакомые, и просто сочувствующие. Многие несли узелки с завтраками, гроздья бананов, манго. Шведагонский холм казался местом праздничного гуляния. А власти ничего поделать не могли. Каждый может пойти к пагоде Шведагон. Нет такого правила, чтобы запретить это рангунцам.
Заволновались даже умеренные политики, бросили на время грызню в игрушечной палате и с завидным единодушием стали выражать свое сочувствие студентам, солидарность с ними. Часть их даже создала комитет помощи бастующим.
Приезжал к студентам У Со, тот, что начал карьеру адвокатом Сая Сана, и даже сам министр просвещения, нелюбимый Аун Саном Ба Mo, отправился к студентам с выражением сочувствия. Его визит был встречен холодно. Порядки в университете держались с его одобрения, и до забастовки он ничем не выражал своего несогласия с ними.
Но в то время Ба Mo, чувствуя, что англичане его недостаточно ценят, собирался уйти в оппозицию и создавал свою собственную партию, которую назвал «Синьета», что значит по-бирмански «Беднота».
Забастовка кончилась победой студентов. В конце концов Ко Аун Сан и Ко Ну были восстановлены в университете, в правление университета был введен представитель студентов, и закон об университете власти обещали рассмотреть в самое ближайшее время.
10 мая забастовка была прекращена, и студенты во главе со своими лидерами вернулись на берег озера Инья, в университет.
Главным в забастовке была не только победа студентов, не то, что эта победа была одновременно победой такинов и не то, что с этих пор имя Аун Сана стало пользоваться в Бирме все растущей популярностью, а главным было рождение в ходе забастовки Всебирманского союза студентов. Колледжи и институты страны присылали в Рангун своих представителей, которые выражали солидарность с бастующими и в переговорах с «мозговым центром» договорились о том, чтобы созвать конференцию студентов.
Конференция открылась за день до конца забастовки, 9 мая, и на ней 35 высших и средних учебных заведений Бирмы объединились во Всебирманский союз студентов. Первым президентом был избран Рашид.
На следующий год президентом его стал Ко Аун Сан.
6
После окончания забастовки Аун Сан вернулся в университет. Несмотря на то, что с каждым днем все меньше времени оставалось на учебу, он решил все-таки получить диплом. Он жил все в той же сто девятой комнате общежития, что давало возможность каждому гостю повторять надоевшую уже Аун Сану шутку о том, что он живет в тени сто девятой статьи английского уголовного кодекса, в которой говорилось что-то о возможности выдачи денежного залога и передачи преступника на поруки.
Теперь Аун Сан большую часть времени проводил в библиотеке университетского совета. Там иногда и спал на скамейке. Студенты и другие «подозрительные личности» могли появиться в совете в любое время дня и ночи, и как-то повелось, что бессменным дежурным в совете был Ко Аун Сан. Старик сторож приносил ему горячий чай — Аун Сан благодарил его рассеянно и снова углублялся в книгу.
Весной следующего года он с отличием защитил диплом, но университета не покинул, а остался в аспирантуре по международному праву. «Мне не хватает знаний, — жаловался Аун Сан друзьям, — и вот разрываюсь. Стране нужны политики образованные».
На каникулы он не поехал домой — некогда было, дела студенческие не оставляли уже свободного времени. Больше года он не видал мать, скучал без нее, но не смел написать ей, чтобы приехала. Она приехала сама, остановилась у родственников в пригороде. Когда Аун Сан узнал о ее приезде, у него сидел один из его друзей. Разговор был важным, и Аун Сан, чтобы не прерывать его, попросил товарища доехать с ним до родственников.
До Су разволновалась, увидев сына, засуетилась, стала доставать гостинцы — и говорила, говорила…
Аун Сан сидел, нахмурившись, еле отвечал ей, можно было подумать, что он вовсе не рад ее приезду. Товарищ старался вставлять свои реплики, чтобы как-то раскачать Аун Сана. А тот еще больше замыкался. Потом встал, попрощался с матерью и ушел.
Товарищ догнал его уже на улице.
— Чего же ты?
— Не приставай.
Через несколько дней они снова вдвоем поехали провожать До Су на вокзал. Когда поезд тронулся, Аун Сан сделал несколько шагов по платформе, будто хотел сказать что-то важное. Но остановился и так и не поднял головы, пока поезд не набрал скорость. А потом вдруг упал на колени на платформе, сложил руки ладонями вместе и поклонился до земли. Мать видела сына, может, секунду всего, пока поезд не скрылся за поворотом.
На обратном пути Аун Сан вдруг сказал товарищу:
— Ты знаешь ведь, я самый младший у нас в семье. И меня все любят. И у матери я самый любимый. А я ей не пишу совсем. Она не имеет ничего против того, что я занимаюсь политикой, — у нас в семье все политики. Но ей кажется, что я ее недостаточно люблю. И мне ее очень жалко.
Через несколько недель после этого Аун Сан неожиданно собрался, попрощался с товарищами, передал все дела заместителю и уехал в Натмаук. Его не было недели две. А однажды вечером, часов в десять, он объявился у Тейн Пе, который уже ушел из университета и жил на Барр-стрит. Аун Сан был неузнаваем. В новых лоунджи, в новой рубашке, поправившийся, веселый, в новых ботинках и аккуратно подстриженный. В руке у него был черный сундучок. Тейн Пе выглянул в окно, терзаемый страшными подозрениями. Так и есть — там стоит извозчик. Это уже было совсем необыкновенным расточительством.
Аун Сан понял растерянность товарища. И захохотал громко и заразительно.
— Я стал буржуем. Это все моя мать. Наконец-то я себя чувствую представителем эксплуататоров. Я тебе больше скажу — у меня есть пятьдесят рупий, тоже ее подарок. Всех кормлю. В какой хотите ресторан?
Ко Хла Пе, который оказался в этот час у Тейн Пе, вмешался в разговор.
— Десять рупий немедленно отдай мне. А то меня завтра с квартиры выгонят.
— Держи. Но у нас еще есть деньги на ресторан. Надо же раз в жизни как следует поужинать.
Теперь уже знакомых Аун Сана не смущали его манеры, резкие смены настроения, не обижало то, что порой, задумавшись, он забывал поздороваться. Он еще не всегда мог владеть собой, подавлять взрывы гнева. Однажды случилось так, что на одном из студенческих собраний студент выступил с нападками на Рашида, первого президента Всебирманского студенческого союза. Аун Сан слушал его, слушал, потом вскочил с места, стащил говорившего с трибуны и спросил:
— Когда тебе лучше со мной встретиться? Я тебе покажу, как оскорблять честных людей. Или ты хочешь, чтобы я тебе сейчас показал?
Он размахивал кулаками перед лицом перепуганного противника. И только подоспевшие друзья избавили студента от кулачного боя.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава вторая
Глава вторая Я очень смутно припоминаю свои занятия литературой в тот период. Не думаю, что даже тогда я воспринимала себя как писателя bonа fide. Кое-что я писала, да — книжки, рассказы. Их печатали, и я стала привыкать к тому, что могу рассчитывать на это как на надежный
Глава вторая
Глава вторая Итак, время шло, и происходящее вокруг стало представляться уже не кошмаром, а чем-то обыденным, казалось, что так было всегда. Обычным, в сущности, стало даже ожидание того, что тебя могут скоро убить, что убить могут людей, которых ты любишь больше всего на
Глава вторая
Глава вторая Один театральный вечер — премьера «Свидетеля обвинения» — особенно запечатлелся в моей памяти. С уверенностью могy сказать, что это единственная премьера, доставившая мне удовольствие.Обычно премьеры мучительны, их трудно вынести. Ходишь туда только по
Глава вторая
Глава вторая Дурно устроен календарь, – в нем мало праздников. Стивенсон Вот это годилось бы для рассказа!Грин резко обернулся, рассмеялся, разорвал карточку. Поймал себя на том, что следит за собою: оборачивается, рвет карточку. Сильно тоскует. Смотрит на шпиль
Глава вторая
Глава вторая Раздается звонок дверного колокольчика. Фрида открыла дверь. «Хозяин приехал!» — закричала она. Все стихло в доме. Артур обвел стены потускневшими серыми глазами. Рядом с ним стояла незнакомая женщина. Фрида, захваченная врасплох, взяла в руки чемодан и
Глава вторая
Глава вторая Мы развелись, но жили вместе с Машей еще несколько месяцев. Я еще больше замкнулась в себе, с Машей была немногословна, но зато мы меньше ругались. Мы по-прежнему вместе проводили время, и нас всё также все приглашали к себе в гости вроде как семейной парой. Нас
Глава вторая
Глава вторая Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли
Глава вторая
Глава вторая Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.Пасик – еланка и орешник – место буерачное и
Глава вторая
Глава вторая – Не тоскуй, касаточка, – говорил Епишка Анне. – Все перемелется в муку. Пускай говорят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожаловаться.– Ох, Епишка, хорошо только
Глава вторая
Глава вторая 1Времена меняются. Некоторые песни, прежде популярные, уходят. Дело не в их уровне, порой весьма достойном. Устарела их суть. Есть такие песни и среди тех, которые исполнял Бернес. К счастью, это вещи в его репертуаре второстепенные. Но звучит, как и звучала, его
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ …если Петербург есть посредник между Европою и Россиею, то Москва есть посредник между Петербургом и Россиею. В. Белинский АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАСЬЯНС День начался как обычно. За дверью прошаркал дежурный надзиратель Трофим Лукич, которого учащиеся
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ Федотов вместе со своим однокашником Своевым прибыл в Петербург 3 января 1834 года. На месте выполнили все положенное: представились командиру полка генерал-майору Офросимову, нанесли неофициальные (то есть без кивера и без обычного «здравия желаю») визиты
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ … и я знаю, что когда–нибудь где–то мы с Джоном всегда будем вместе. Синтия Леннон Твист, 1982 1Синтия Пауэл посвятила себя Джону со страстью религиозной фанатички. Человеку, более уверенному в себе, такое внимание могло бы быть в тягость, но Джон наслаждался.
ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…»
ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…» Страхиня-Бан Нушич к началу войны получил аттестат зрелости. Юноша, как и отец, был небольшого роста, крепкий, темпераментный. По возрасту его еще не брали в армию. Но в первые же дни войны он решил записаться в добровольческую роту,