Глава 18 Жизнь моей матери
Как только мои волосы заплели в косички для выпускного, я впервые начал пользоваться вниманием девушек. Я начал ходить на настоящие свидания. Временами я думал, что это потому, что я выгляжу лучше. Иногда я думал, что это потому, что им нравится тот факт, что я прошел через такую же боль, как они, чтобы хорошо выглядеть. В любом случае, так как я добился успеха, то решил особо не заморачиваться с его формулой. Я продолжал ходить в салон каждую неделю, каждый раз проводя там часы, пока мои волосы выпрямляли и заплетали. Мама только закатывала глаза. «Я бы никогда не смогла встречаться с мужчиной, который тратит на свои волосы больше времени, чем я», – говорила она.
С понедельника по субботу мама работала в офисе и возилась в саду, одетая, как бомжиха. Потом, для воскресного утреннего похода в церковь, она укладывала волосы и надевала красивое платье и туфли на высоком каблуке. Тогда она выглядела на миллион баксов. Когда она была при параде, то не могла устоять и не дразнить меня, давая легкие словесные тычки, как мы всегда давали друг другу.
– А теперь кто лучше всех выглядит в семье, а? Надеюсь, ты наслаждался всю неделю, будучи красавчиком, но теперь королева вернулась, малыш. Чтобы так выглядеть, ты четыре часа провел в салоне. Я – всего лишь приняла душ.
Она просто шутила со мной. Ни один сын не хочет разговаривать о том, какая горячая штучка его мать. Но, надо сказать правду, она была красива. Красива снаружи, красива изнутри. Она обладала такой самоуверенностью, которой у меня не было никогда. Даже когда она работала в саду, одетая в рабочую одежду и покрытая грязью, можно было видеть, насколько она привлекательна.
Я могу только догадываться, что в свое время мама разбила не одно сердце, но с того времени, как родился я, в ее жизни было только два мужчины – мой отец и мой отчим. Прямо за углом дома моего отца в Йовилле был автосервис под названием «Mighty Mechanics». Наш «Фольксваген» постоянно ломался, и мама отдавала его туда в ремонт. Там мы встретили этого действительно классного парня, Абеля, одного из автомехаников. Я видел его, когда мы приходили забрать автомобиль.
Автомобиль ломался часто, так что мы часто приходили туда. Со временем начало казаться, что мы были там даже тогда, когда с автомобилем все было в порядке. Мне было шесть, может быть, семь. Я не понимал всего, что происходило. Я просто знал, что этот парень вдруг стал близким.
Он был высоким и худым, но сильным. У него были длинные руки и большие кисти. Он мог поднимать автомобильные двигатели и коробки передач. Он был привлекательным, но не смазливым. Маме это в нем нравилось, она говорила, что есть такой тип уродства, который женщины находят привлекательным. Она называла его Аби. Он называл ее Мбуйи, сокращенно от Номбуйисело.
Мне он тоже нравился. Аби был обаятельным и веселым, у него была легкая, приятная улыбка. Он также любил помогать людям, особенно всякому, находящемуся в нужде. Если чья-нибудь машина ломалась на автостраде, он подходил посмотреть, что он может сделать. Если кто-нибудь кричал: «Держи вора!», он был тем парнем, который отправляется в погоню. Живущей по соседству старой даме надо помочь перенести коробки? Он был тем парнем. Ему нравилось нравиться миру, из-за чего мириться с его насилием было еще сложнее. Ведь если вы думаете про кого-то, что он чудовище, а весь мир говорит, что он святой, вы начинаете думать, что плохой – вы. Должно быть, в том, что происходит, виноват я. Это единственный вывод, к которому вы приходите, так как иначе: почему вы – единственный, на кого направлен его гнев?
Со мной Абель всегда был классным. Он не пытался быть мне отцом, к тому же мой отец все еще присутствовал в моей жизни, так что я не искал того, кто бы его заменил. «Это классный мамин друг» – вот как я думал о нем. Он стал приходить и оставаться с нами в Иден-Парке. Иногда он хотел, чтобы мы ночевали с ним в его гараже-квартире в Оранж-Гроув, что мы и делали. Потом я сжег дом белых, и с этим было кончено. С тех пор мы жили вместе в Иден-Парке.
Как-то вечером, когда мы с мамой были на молитвенном собрании, она отвела меня в сторону.
– Хочу тебе кое-что сказать. Мы с Абелем собираемся пожениться, – произнесла она.
– Не думаю, что это хорошая идея, – сказал я инстинктивно, даже не подумав.
Я не был расстроен, ничего такого. Просто у меня было предчувствие насчет этого парня, интуиция. Я почувствовал это еще до случая с тутовым деревом. Тот случай не изменил моих чувств к Абелю, просто наглядно показал мне, на что тот способен.
– Я понимаю, что это трудно. Я понимаю, что ты не хочешь нового папу, – сказала она.
Ему нравилось нравиться миру, из-за чего мириться с его насилием было еще сложнее. Если вы думаете про кого-то, что он чудовище, а весь мир говорит, что он святой, вы начинаете думать, что плохой – вы.
Должно быть, в том, что происходит, виноват я.
– Нет, – сказал я, – дело не в этом. Мне нравится Абель. Но ты не должна выходить за него замуж.
В то время я еще не знал слова «губительный», но если бы знал, то, вероятно, использовал его.
– В нем просто есть что-то неправильное. Я ему не доверяю. Я не думаю, что он хороший человек.
Я всегда прекрасно относился к тому, что мама встречается с этим парнем, но никогда не думал о возможности того, что он станет постоянным членом нашей семьи. Мне нравилось быть с Абелем так же, как мне понравилось играть с тигренком, когда я впервые посетил тигриный заповедник: это нравилось, было забавно, но я никогда не думал о том, чтобы взять его домой.
Если насчет Абеля и были какие-то сомнения, истина все это время была прямо перед нами. Она заключалась в его имени. Он был Абелем, хорошим братом, хорошим сыном, это имя заимствовано прямо из Библии. И он оправдывал его. Он был старшим сыном, послушным, заботившимся о матери, заботившимся о братьях и сестрах. Он был гордостью семьи.
Но Абель – это его английское имя. Его имя на тсонга – Нгисавени. Это означает «опасайся».
Мама и Абель поженились. Не было торжественной церемонии, не было обмена кольцами. Они пошли и подписали бумаги – вот и все. Примерно через год родился мой брат, Эндрю. Я только смутно помню, как мама исчезла на несколько дней, а когда вернулась, с ней была эта штука, которая плакала, гадила и ела. Но когда ты на девять лет старше своего брата, его появление мало что меняет в твоей жизни. Я не менял подгузники, я играл в компьютерные игры в торговом центре и носился по району.
Основным, что знаменовало для меня появление Эндрю, стала наша первая поездка к семье Абеля во время рождественских каникул. Они жили в Тзанеене, городе в Газанкулу, бантустане тсонга. В Тзанеене тропический климат, жарко и влажно. На белых фермах поблизости растут некоторые из самых замечательных фруктов: манго, личи, красивейшие из всех когда-либо виденных вами бананов. Именно там выращиваются все фрукты, которые мы экспортируем в Европу. Но на черной территории, в двадцати минутах дальше по дороге, почва истощена годами избыточного земледелия и избыточного выпаса скота.
Мать и сестры Абеля были абсолютно традиционными мамами-домохозяйками, а Абель и его младший брат, который был полицейским, обеспечивали семью. Они были очень добрыми и щедрыми, сразу приняли нас, как членов своей семьи.
Как я узнал, культура тсонга невероятно патриархальная. Мы говорим о мире, где женщины должны кланяться, когда приветствуют мужчину. Общественные отношения между мужчинами и женщинами ограниченны. Мужчины убивают животных, а женщины готовят еду. Мужчин даже не пускают на кухню. Я был девятилетним мальчиком, и это казалось мне фантастикой. Мне не позволяли делать ничего. Дома мама все время заставляла меня заниматься домашними делами: мыть посуду, подметать пол. Но когда она попыталась сделать это в Тзанеене, женщины не разрешили ей этого.
– Тревор, заправь свою кровать, – говорила мама.
– Нет, нет, нет. Тревор должен идти на улицу и играть, – протестовала мать Абеля.
Меня выгоняли на улицу веселиться, пока девочки, мои кузины по отчиму, должны были убирать дом и помогать женщинам готовить. Я был в восторге.
Саму традицию, что женщины кланяются мужчинам, мама нашла абсурдной.
Но она не отказывалась это делать.
Она делала это утрированно.
Мама ненавидела каждую проведенную там минуту. Для Абеля, сына-первенца, который привез домой своего сына-первенца, эта поездка была важным событием. В хоумлендах сын-первенец по умолчанию становится практически отцом/мужем, потому что глава семьи уезжает на заработки. Сын-первенец – хозяин в доме. Он растит своих братьев и сестер. Его мама обходится с ним с определенной долей уважения, как с замещающим отца. Так как это было торжественное возвращение Абеля домой с Эндрю, он ожидал, что моя мать тоже будет играть традиционную роль. Но она отказалась.
Женщины в Тзанеене в течение дня должны были выполнять разнообразную работу. Они готовили завтрак, готовили ланч, готовили обед, стирали и убирали дом. Мужчины круглый год работали в городе, чтобы содержать семью, так что здесь они были более или менее в отпуске. Они отдыхали, а женщины их обслуживали. Они могли зарезать козу или сделать что-то подобное – те мужские дела, которые должны были быть сделаны. Но потом они шли в район, предназначенный только для мужчин, общались и пили, пока женщины готовили и занимались уборкой.
Но моя мама тоже круглый год работала в городе, и Патрисия Ной не собиралась оставаться на чьей-то кухне. Она была вольной птицей. Она настаивала на том, чтобы прогуляться в поселок, пойти туда, где отдыхают мужчины, и разговаривать с мужчинами на равных.
Саму традицию, что женщины кланяются мужчинам, мама нашла абсурдной. Но она не отказывалась это делать. Она делала это утрированно. Она превращала это в насмешку. Другие женщины кланялись мужчинам с вежливым небольшим приседанием. Мама падала ниц и съеживалась, стелилась в пыли, словно молилась какому-то божеству, и оставалась в такой позе долго, на самом деле долго, достаточно долго для того, чтобы любой почувствовал себя неудобно.
Такой была мама. Не бороться с системой, а насмехаться над системой.
Для Абеля это выглядело так, будто жена его не уважает. Все другие мужчины женились на покорных девушках из деревни, и тут приезжает он, со своей современной женщиной, более того, женщиной-коса. А эта культура известна тем, что ее женщины особенно крикливы и распутны. Так что они все время ссорились и ругались, и после той первой поездки мама отказывалась ехать туда снова.
Вплоть до того момента я всю свою жизнь жил в мире, где главенствовали женщины. Но после свадьбы мамы и Абеля, и особенно после рождения Эндрю, я видел, как он пытается самоутвердиться и навязать свои идеи о том, какой, по его мнению, должна быть семья. Почти сразу выяснилось одно: в его представления о семье я не входил. Я был напоминанием о том, что до него у мамы была другая жизнь. Я даже не был одного цвета с ней. Его семьей были он, мама и новый ребенок. Моей семьей были мама и я. И я действительно ценил в нем это. Иногда у нас были дружеские отношения, иногда нет, но он никогда не притворялся, что наши отношения были чем-то другим, чем они были на самом деле. Мы обменивались шутками и вместе смеялись. Мы вместе смотрели телевизор. Он время от времени давал мне карманные деньги, когда мама говорила, что с меня хватит. Но он никогда не дарил мне подарок на день рождения или Рождество. Он никогда не дарил мне отцовскую любовь. Я никогда не был его сыном.
Присутствие Абеля в доме принесло с собой новые правила. Одно из первых, что он сделал, – выкинул из дома Фуфи и Пантеру.
– Никаких собак в доме.
– Но у нас собаки всегда были в доме.
– Больше такого не будет. В африканских домах собаки спят на улице. В доме спят люди.
Убрав собак во двор, Абель словно говорил: «У нас здесь все будет так, как оно должно быть». Когда они только встречались, мама все еще была вольной птицей, делала, что хотела, ходила, куда хотела. Постепенно ее окоротили. Я чувствовал, что он пытался ограничить нашу независимость. Он даже расстраивался из-за церкви.
Такой была мама. Не бороться с системой, а насмехаться над системой.
– Вы не можете быть в церкви целый день, – говорил он. – Моя жена уходит на целый день, и что скажут люди? «Почему его жена шляется? Где она? Кто уходит в церковь на целый день?» Нет, нет, нет. Это вызовет неуважение ко мне.
Он пытался помешать ей проводить так много времени в церкви, и одним из самых эффективных методов, которые он использовал, было прекратить чинить мамину машину. Он был механиком. Ее автомобиль постоянно ломался. Это был способ ограничить нашу свободу. Машина ломалась, и Абель специально не прикасался к ней.
Мама не могла позволить себе другой автомобиль, и она не могла починить машину где-нибудь еще. Ты замужем за механиком, и ты собираешься отдать свой автомобиль в ремонт другому механику? Это хуже, чем измена.
Так что Абель стал нашим единственным транспортом, и он мог отказаться везти нас в те или иные места. Мама, всегда непокорная, пользовалась микроавтобусами, чтобы добраться до церкви.
Потеря автомобиля также означала потерю доступа к моему папе. Нам приходилось просить Абеля, чтобы он отвез нас в город, а ему не нравилось то, зачем мы туда едем. Это оскорбляло его мужское достоинство.
– Нам надо поехать в Йовилл.
– Зачем вы собираетесь в Йовилл?
– Навестить отца Тревора.
– Что? Нет, нет. Как я могу взять свою жену и ее ребенка и отвезти вас туда? Вы оскорбляете меня. Что я должен сказать своим друзьям? Что я должен сказать своей семье? Моя жена в доме другого мужчины? Мужчины, который сделал ей этого ребенка? Нет, нет, нет.
Мы обменивались шутками и вместе смеялись.
Мы вместе смотрели телевизор.
Он время от времени давал мне карманные деньги.
Но он никогда не дарил мне подарок на день рождения или Рождество.
Он никогда не дарил мне отцовскую любовь.
Я никогда не был его сыном.
Я виделся с отцом все реже и реже. Вскоре он переехал.
Абель хотел традиционный брак с традиционной женой. Долгое время я удивлялся, почему он вообще женился на такой женщине, как моя мама, ведь она была во всех смыслах полной противоположностью его представлениям. Если ему нужна была женщина, которая кланялась бы ему, так в Тзанеене было полно таких девушек, которых растили единственно с этой целью.
Моя мама всегда объясняла это так: традиционный мужчина хочет покорную женщину, но он никогда не полюбит покорную женщину. Его привлекают независимые женщины. «Он похож на коллекционера экзотических птиц, – говорила она. – Он хочет только ту женщину, которая свободна, потому что его мечта – посадить ее в клетку».
Когда мы впервые встретили Абеля, он курил много травки. Он еще и пил, но в основном употреблял травку. Оглядываясь назад, я почти скучаю по тем марихуановым дням, потому что травка успокаивала его. Он курил, успокаивался, смотрел телевизор и засыпал. Мне кажется, подсознательно он понимал, что это было нужно ему, чтобы держать в узде свой гнев.
После того как они поженились, курить травку он бросил. Мама заставила его по религиозным причинам: «тело – храм» и так далее. Но никто из нас не предвидел того, что, бросив курить травку, он просто заменит это алкоголем. Абель начал пить все больше и больше. Он никогда не приходил с работы домой трезвым. В обычный день он выпивал шесть банок пива после работы. По вечерам в будни он был пьяным. Иногда по пятницам и субботам он просто не приходил домой.
Традиционный мужчина хочет покорную женщину, но он никогда не полюбит покорную женщину.
«Он похож на коллекционера экзотических птиц.
Он хочет только ту женщину, которая свободна, потому что его мечта – посадить ее в клетку».
Когда Абель был пьян, его глаза краснели, наливались кровью. Это был намек, который я научился читать. Я всегда думал об Абеле, как о кобре: спокойный, идеально неподвижный, затем – взрыв. Не было гневных тирад и брани, не было сжатых кулаков. Он был очень спокоен, и вдруг, откуда ни возьмись, появлялась жестокость. Глаза были для меня единственным намеком, что надо держаться подальше. Его глаза были всем. Это были глаза дьявола.
Однажды поздно ночью мы проснулись оттого, что дом был полон дыма. Когда мы отправились спать, Абель еще не пришел домой, поэтому я лег в маминой комнате с ней и Эндрю, который был еще младенцем. Проснулся я оттого, что она трясла меня и кричала: «Тревор! Тревор!» Дым был повсюду. Мы подумали, что дом горит.
Мама побежала по коридору в кухню, где обнаружила, что кухня в огне. Абель приехал домой пьяным, мертвецки пьяным, более пьяным, чем мы когда-либо видели. Он был голоден, попытался разогреть какую-то еду на плите, а пока она готовилась, уснул на диване. Кастрюля сгорела, загорелась стена кухни за плитой, дым клубился повсюду. Мама выключила плиту и открыла двери и окна, чтобы попытаться проветрить. Потом она подошла к дивану, разбудила его и начала бранить за то, что он чуть не спалил весь дом. Он был слишком пьян, чтобы его это волновало.
Мама вернулась в спальню, взяла телефон и позвонила моей бабушке. Она начала рассказывать об Абеле и его пьянстве. «Этот человек, он нас когда-нибудь убьет. Он почти спалил дом…»
Абель вошел в спальню, очень тихий, очень спокойный. Его глаза были кроваво-красными, веки набрякшими. Он положил палец на рычаг телефона и прервал звонок. Мама взвилась.
– Как ты смеешь! Ты прервал мой разговор! Что это ты творишь, а?!
– Не рассказывай людям о том, что происходит в этом доме, – сказал он.
– Ой, пожалуйста! Ты беспокоишься о том, что подумает мир? Беспокойся об этом мире! Беспокойся о том, что думает твоя семья!
Абель навис над мамой. Он не повышал голос, не злился.
– Мбуйи, ты меня не уважаешь, – сказал он мягко.
– Уважение?! Ты почти сжег наш дом. Уважение? Ой, пожалуйста! Заслужи уважение! Ты хочешь, чтобы я уважала тебя как мужчину, тогда веди себя как мужчина! Пропиваешь деньги на улицах, а где подгузники для твоего ребенка?! Уважение?! Заслужи уважение…
– Мбуйи…
– Ты не мужчина, ты ребенок…
– Мбуйи…
– Я не могу иметь ребенка вместо мужа…
– Мбуйи…
– У меня есть свои дети, которых надо растить…
– Мбуйи, заткнись…
– Мужчина, который приходит домой пьяным…
– Мбуйи, заткнись…
– И сжигает дотла дом со своими детьми…
– Мбуйи, заткнись…
– И ты называешь себя отцом…
Потом, ни с того ни с сего, как раскат грома, когда нет туч, – хлоп! Он с размаху двинул ее по лицу. Она ударилась о стену и упала, как груда кирпичей. Я никогда не видел ничего подобного. Она упала и лежала добрых тридцать секунд. Эндрю начал кричать. Я не помню, как я пошел взять его, но четко помню, как в какой-то момент держал его на руках. Мама поднялась, пытаясь устоять на ногах, и опять начала с ним спорить. Она явно была ошарашена, но пыталась вести себя с большей уверенностью, чем у нее была на самом деле. Я видел на ее лице выражение неверия. Такое случилось с ней впервые в жизни. Она посмотрела ему прямо в лицо и начала кричать на него:
– Ты только что ударил меня?
Глаза были для меня единственным намеком, что надо держаться подальше.
Его глаза были всем. Это были глаза дьявола.
Все это время в моей голове крутилось то же самое, что сказал Абель. Заткнись, мама. Заткнись. Ты сделаешь только хуже. Так как меня часто били, я знал, что возражения – именно то, что не помогает. Но она не успокаивалась.
– Ты только что ударил меня?
– Мбуйи, я говорил тебе…
– Ни один мужчина, никогда! Не думай, что можешь контролировать меня, когда ты не можешь контролировать даже…
Хлоп! Он снова ударил ее. Она отшатнулась, но на этот раз не упала. Она беспорядочно собралась, взяла меня, взяла Эндрю.
– Пошли. Мы уходим.
Мы выбежали из дома и пошли по дороге. Была глухая ночь, на улице было холодно. На мне не было ничего, кроме футболки и спортивных штанов. Мы шли в полицейский участок Иден-Парка, расположенный примерно в километре. Мама ввела нас внутрь, и там были черный полицейский и цветной полицейский, дежурившие за стойкой.
– Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение, – сказала она.
– Вы пришли, чтобы выдвинуть обвинение насчет чего?
– Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение против человека, ударившего меня.
До сегодняшнего дня я не забыл покровительственный, снисходительный тон, которым они с ней говорили.
– Успокойтесь, леди. Успокойтесь. Кто вас ударил?
– Мой муж.
– Ваш муж? Что вы сделали? Вы разозлили его?
– Я… Что? Нет. Он ударил меня. Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение против…
– Нет, нет. Мадам. Зачем вы хотите выдвинуть обвинение, а? Вы уверены, что хотите это сделать? Идите домой и поговорите с мужем. Вы знаете, что если вы выдвинете обвинение, то не сможете забрать заявление? У него будет судимость. Его жизнь никогда не будет прежней. Вы действительно хотите, чтобы ваш муж отправился в тюрьму?
Мама продолжала настаивать на том, чтобы они открыли дело, но они отказали. Они отказались написать протокол.
– Это семейное дело. Вы же не хотите вмешивать полицию. Может быть, вы еще подумаете и придете завтра утром? – сказали они.
Мама начала кричать на них, требовала встречи с начальником участка, и именно в тот момент в участок вошел Абель. Он успокоился. Он немного протрезвел, но все еще был пьян, когда ворвался в полицейский участок. Но это не имело значения. Он подошел к полицейским, и участок превратился в балаган. Словно они были старыми приятелями.
– Эй, ребята, вы знаете, как это бывает. Вы знаете, какими могут быть женщины. Я просто немного разозлился, вот и все.
– Все в порядке, парень. Мы знаем. Это случается. Не беспокойся.
Я никогда не видел ничего подобного. Мне было девять лет, и я до сих пор думал о полицейских как о хороших парнях. Ты попадаешь в беду, звонишь в полицию, появляются эти мигающие красно-синие огни, и тебя спасают. Но я помню, как стоял там и смотрел на маму, ошеломленный, испуганный тем, что эти полицейские не собираются помогать ей. Тогда я и осознал, что полицейские – не те, кем я их считал. Они были в первую очередь мужчинами и только во вторую – полицейскими.
Мы ушли из участка. Мама взяла меня и Эндрю, и мы отправились немного пожить у бабушки в Соуэто. Несколько недель спустя Абель приехал и извинился. Абель всегда был искренним и неподдельным в своих извинениях: он этого не хотел. Он знает, что был неправ. Он никогда так больше не сделает.
Бабушка убедила маму, что она должна дать Абелю второй шанс. Ее довод был прост: «Все мужчины делают это». Мой дедушка, Темперанс, бил ее. Уход от Абеля не гарантировал, что это больше не повторится, и Абель, по крайней мере, был готов извиниться. Так что мама решила дать ему еще один шанс. Мы вместе вернулись в Иден-Парк и несколько лет, да, лет, Абель не тронул ее ни пальцем. Или меня. Все вернулось на круги своя.
…
Абель был замечательным механиком, возможно, одним из лучших в округе в то время. Он учился в техническом колледже и закончил его лучшим из выпуска. Ему предлагали работать в «BMW» и «Mercedes». Его бизнес процветал благодаря рекомендациям. Люди со всего города пригоняли ему на ремонт свои машины, потому что он мог творить с ними чудеса. Мама действительно верила в него. Она думала, что поможет ему подняться, поможет с пользой использовать свой потенциал не только как механика, но и как владельца собственного автосервиса.
Мама была настолько своенравной и независимой, что оставалась женщиной, которая вносит свой вклад. Она вносила, вносила и вносила. Таков был ее характер. Она отказывалась прислуживать Абелю дома, но хотела, чтобы он преуспел как мужчина. Если бы она могла сделать их брак настоящим равным браком, то полностью влилась бы в него – так же, как она полностью отдавалась своим детям.
В какой-то момент хозяин Абеля решил продать «Mighty Mechanics» и уйти на пенсию. У мамы были некоторые сбережения, и она помогла Абелю купить этот автосервис. Они перенесли автосервис из Йовилла в промышленный район под названием Уинберг, сразу к западу от Александры, и «Mighty Mechanics» стал новым семейным бизнесом.
Когда ты впервые начинаешь заниматься бизнесом, существует столько вещей, о которых тебе никто не расскажет. Это особенно верно в том случае, если вы – два молодых черных, секретарь и механик, выходцы из тех времен, когда черным вообще не дозволялось владеть собственным бизнесом. Одна из вещей, о которых вам никто не скажет, заключается в том, что, когда вы покупаете дело, вы покупаете его со всеми долгами. После того как мама и Абель разобрались в бухгалтерских книгах «Mighty Mechanics» и полностью осознали, что они купили, они увидели, какие большие проблемы уже были у компании.
Я стоял там и смотрел на маму, ошеломленный, испуганный тем, что эти полицейские не собираются помогать ей.
Тогда я и осознал, что полицейские – не те, кем я их считал. Они были в первую очередь мужчинами и только во вторую – полицейскими.
Постепенно автосервис завладел нашими жизнями. Я уходил из школы и шел пять километров пешком от «Мэривейла» до автосервиса. Я часами сидел и пытался сделать уроки среди станков и окружающих меня ремонтных работ. Абель неизбежно задерживался с ремонтом какого-нибудь автомобиля, а так как возил нас он, нам приходилось ждать, пока он закончит, а потом уже отправляться домой. Это начиналось как: «Мы закончим поздно. Иди, поспи в машине, мы скажем тебе, когда соберемся отправиться». Я сворачивался калачиком на заднем сиденье какого-нибудь седана, они будили меня в полночь, и мы ехали обратно до Иден-Парка, где падали с ног. Вскоре это превратилось в: «Мы закончим поздно. Иди, поспи в машине, мы разбудим тебя утром, когда будет пора идти в школу». Мы начали спать в автосервисе. Сначала это было один-два раза в неделю, потом три или четыре. Потом мама продала дом и эти деньги тоже вложила в бизнес. Она была полностью поглощена им. Для Абеля она отказывалась от всего.
С того времени мы жили в автосервисе. Это, в общем-то, был склад. И не тот затейливый, романтичный склад, который хипстеры однажды превращают в лофт. Нет, нет. Это было холодное пустое помещение. Серые бетонные полы в пятнах масла и смазки, повсюду – старые раздолбанные машины и автомобильные запчасти. Рядом с входом, у выходящих на улицу рулонных ворот, находился маленький кабинет, выгороженный гипсокартоном, где можно было заниматься документами и подобным. В задней части была маленькая кухня, без плиты, просто – раковина и несколько шкафчиков. Для того чтобы помыться, был только таз, что-то вроде ведра для мытья полов, с прикрепленной над ним лейкой душа.
Когда ты впервые начинаешь заниматься бизнесом, существует столько вещей, о которых тебе никто не расскажет. Это особенно, если вы – два молодых черных, секретарь и механик, выходцы из тех времен, когда черным вообще не дозволялось владеть собственным бизнесом.
Абель и мама спали с Эндрю в кабинете на тонком матрасе, который раскатывали на полу. Я спал в автомобилях. Мне действительно было удобно спать в автомобилях. Я знал все лучшие для ночевки машины. Худшими были дешевые «Фольксвагены», дешевые японские седаны. Сиденья почти не откидывались, подголовников не было, обивка – из дешевого кожзаменителя.
Полночи я проводил в попытках не соскользнуть с сиденья. Они были еще и тесными. Я просыпался с ноющими коленями, потому что не мог вытянуть ноги. Немецкие автомобили были чудесными, особенно «Мерседесы». Большие мягкие кожаные сиденья, похожие на диваны. Сначала, когда ты на них только залезал, они были холодными, но они были хорошо теплоизолированы и прекрасно согревались. Все, что мне было нужно, – мой школьный пиджак, чтобы свернуться под ним, и в «Мерседесе» мне действительно могло быть уютно.
Но лучшими были, несомненно, американские автомобили. Я молился, чтобы клиент пригнал большой «Бьюик» с диванным сиденьем. Если я видел один из них, в мыслях я кричал: «Ура!» Американские автомобили пригоняли редко, но когда такое случалось, боже, я был на седьмом небе.
Так как «Mighty Mechanics» теперь был семейным бизнесом, а я был членом семьи, мне тоже приходилось работать. Больше не было времени играть. Не было времени даже на уроки. Я шел домой, снимал школьную форму, надевал рабочую одежду и залезал под капот какого-нибудь седана. Я уже мог самостоятельно выполнить основное обслуживание автомобиля и часто это делал. Абель говорил: «Это «Хонда». Незначительный ремонт». И я лез под капот. День за днем. Контакты, свечи, конденсаторы, масляные фильтры, воздушные фильтры. Поставить новые сиденья, поменять шины, сменить передние фары, закрепить задние фары. Сходить в магазин запчастей, купить детали, вернуться в мастерскую.
Мне было одиннадцать лет, и это было моей жизнью. Я отставал в школе. Я приходил с несделанными уроками. Учителя отчитывали меня:
– Почему ты не делаешь уроки?
– Я не смог сесть за уроки. У меня дома есть работа.
Мы работали, работали и работали. Но неважно, сколько часов мы вкладывали, бизнес продолжал оставаться убыточным. Мы потеряли все. Мы даже не могли позволить себе нормальную еду. Был один месяц, который я никогда не забуду, худший месяц в моей жизни. Мы были настолько нищими, что неделями ели только тарелки marogo – дикого шпината, приготовленного с гусеницами. Они назывались гусеницы-мопане. Гусеницы-мопане были в буквальном смысле самой дешевой едой, которую ели только беднейшие из бедных. Я рос бедным, но бывает бедность и бывает «Подожди, я ем гусениц».
Гусеницы-мопане были тем, на что даже жители Соуэто могли отреагировать так: «Э… нет». Это мохнатые яркие гусеницы размером с палец. Они ничем не напоминают эскарго, когда кто-то взял улиток и дал им причудливое название. Это чертовы червяки. Их черные шерстинки колют небо, когда ты их ешь. Когда ты кусаешь гусеницу-мопане, в твой рот нередко брызжут ее желто-зеленые экскременты.
Какое-то время гусеницы мне даже немного нравились. Это было что-то вроде кулинарного приключения. Но через несколько недель, когда приходилось есть их каждый день, изо дня в день, я больше не мог их выносить. Никогда не забуду, как однажды я раскусил гусеницу-мопане пополам, вытекла эта желто-зеленая гадость, и я подумал: «Я ем дерьмо гусеницы». Меня тут же чуть не вырвало. Я вскочил и побежал к маме, крича: «Я больше не хочу есть гусениц!» В тот вечер она наскребла немного денег и купила курицу. Как бы бедны мы ни были в прошлом, мы никогда не оставались без еды.
Гусеницы-мопане были в буквальном смысле самой дешевой едой, которую ели только беднейшие из бедных. Я рос бедным, но бывает бедность и бывает «Подожди, я ем гусениц».
Этот период своей жизни я ненавидел больше всего: работа весь вечер, сон в каком-нибудь автомобиле, подъем, мытье в тазу, чистка зубов над маленькой металлической раковиной, причесывание перед зеркалом заднего вида «Тойоты», попытка одеться так, чтобы школьная форма не была в масле и смазке и дети в школе не узнали, что я живу в автосервисе. О, как я это ненавидел! Я ненавидел автомобили. Я ненавидел сон в автомобилях. Ненавидел работу с автомобилями. Ненавидел, что у меня грязные руки. Ненавидел есть гусениц. Я ненавидел все.
Довольно забавно, но я не испытывал ненависти к маме или даже Абелю. Потому что я видел, как усердно все работают. Поначалу я не знал об ошибках, совершенных в управлении делом, из-за которых и приходилось тяжко трудиться, просто чувствовал, что мы находимся в тяжелой ситуации. Но постепенно я начал видеть, почему бизнес теряет значительные деньги.
Я часто ходил по магазинам и покупал запчасти и узнал, что Абель покупает детали в кредит. Продавцы устанавливали сумасшедшие наценки. Долг наносил вред компании, а вместо того, чтобы выплачивать долг, он пропивал ту жалкую наличность, что удавалось заработать. Он был великолепным механиком и ужасным бизнесменом.
В определенный момент для того, чтобы спасти автосервис, мама бросила работу в «ICI» и стала помогать ему руководить мастерской. Она посвятила все свое время автосервису и применила канцелярские навыки, чтобы вести бухгалтерские книги, следить за графиком, сводить баланс. И все шло хорошо, пока Абель не начал чувствовать, что бизнесом управляет она. Люди тоже стали высказываться по этому поводу. Клиенты забирали свои автомобили вовремя, продавцы получали выплаты вовремя, и они говорили: «Абель, теперь, когда твоя жена взялась за дело, дела у мастерской пошли намного лучше». Но это не помогло.
Мы жили в автосервисе почти год, а потом мама решила, что хватит. Она хотела помочь ему, но не в случае, если он собирается пропивать все доходы. Она всегда была независимой, могла себя обеспечить, но она теряла эту часть себя, отдаваясь во власть чьей-то несбывшейся мечты. В какой-то момент она сказала: «Я больше не могу этого делать. Я выхожу из дела. Все».
Она вышла из дела и получила работу секретаря в строительной компании. Каким-то образом, взяв деньги под залог какого-то остававшегося в автосервисе Абеля имущества, она смогла купить нам дом в Хайлендс-Норте. Мы переехали, мастерскую конфисковали кредиторы Абеля, так что этому пришел конец.
…
Каждый раз, когда мама меня била, я ее не боялся. Конечно, мне это не нравилось. Когда она говорила: «Я ударила тебя из любви к тебе», я не всегда соглашался с этой мыслью. Но понимал, что это – воспитание, это было сделано с определенной целью. Когда меня впервые ударил Абель, я почувствовал то, чего прежде никогда не чувствовал. Я почувствовал страх.
Я был в шестом классе, это был последний год моей учебы в «Мэривейле». Мы переехали в Хайлендс-Норт, и в школе у меня возникли проблемы из-за того, что я подделал мамину подпись на одном документе. Планировалось какое-то мероприятие, участвовать в котором я не хотел. И, чтобы отделаться, написал отказ от ее имени. Маму вызвали в школу, и когда я днем пришел домой, она спросила меня об этом. Я был уверен, что она собирается меня выпороть, но оказалось, это был один из тех случаев, когда это ее не волновало. Она сказала, что мне просто надо было сказать ей, она в любом случае подписала бы документ. Потом Абель, который сидел с нами на кухне и наблюдал все это, сказал: «Эй, я могу с тобой переговорить?» Он отвел меня в крошечную комнатенку, кладовую рядом с кухней, и закрыл за нами дверь.
Он стоял между мной и дверью, но я ни о чем таком не думал. До меня не дошло, что надо бояться. До этого Абель никогда не пытался меня воспитывать. Он даже никогда не читал мне нотаций. Это было всегда так: «Мбуйи, твой сын сделал это», а дальнейшее было делом матери.
Была середина дня. Он был абсолютно трезв, и это сделало то, что произошло дальше, еще более пугающим.
– Почему ты подделал подпись матери? – спросил он.
Я начал оправдываться.
– Ох, я, ну… забыл принести домой бланк…
– Не лги мне. Почему ты подделал мамину подпись?
Я начал, запинаясь, нести какой-то бред, не обращая внимания на то, к чему это ведет и, наконец, привело.
Первый удар пришелся мне по ребрам. В мозгу вспыхнуло: Это ловушка! Я до этого никогда не дрался, никогда не учился драться, но инстинкт подсказал мне приблизиться. Я видел, что могут сделать эти длинные руки. Я видел, как он сбил с ног маму, но, что важнее, я видел, как он сбивал с ног взрослых мужчин. Абель никогда не бил людей кулаком, я никогда не видел, чтобы он ударил кого-нибудь сжатой рукой. Но он умел ударить взрослого мужчину по лицу открытой ладонью так, что тот падал. Настолько сильным он был. Я смотрел на его руки и понимал: «Лучше тебе не находиться на том конце от них».
Я приблизился, уклоняясь от удара, а он бил и бил, но я был слишком близко от него, чтобы получать увесистые удары. Потом это дошло до него, он прекратил бить и начал пытаться схватить и побороть меня. У него это получилось, когда он захватил кожу на моих руках, защепил между большим и указательным пальцами и сильно вывернул. Боже, это было больно.
Это был самый страшный момент в моей жизни. Я никогда еще не был так напуган. К тому же это делалось без всякой цели – вот что пугало больше всего. Это не было воспитанием. Это никак не было связано с лучшими побуждениями. Это даже не казалось чем-то, что должно закончиться тем, что я усвою урок – мамину подпись подделывать нельзя. Это казалось чем-то, что закончится только тогда, когда он сам захочет это закончить, когда его ярость утихнет. Казалось, внутри него было что-то, желающее уничтожить меня.
Он умел ударить взрослого мужчину по лицу открытой ладонью так, что тот падал.
Настолько сильным он был. Я смотрел на его руки и понимал: «Лучше тебе не находиться на том конце от них».
Абель был намного крупнее и сильнее меня, но мы находились в тесном помещении, и это было моим преимуществом, так как у него не было пространства для маневра. Когда он схватил и ущипнул меня, я каким-то образом умудрился вывернуться, обогнуть его и проскользнуть в дверь. Я был быстрым. Я выскочил в дверь и побежал. Но Абель тоже был быстрым. Он преследовал меня. Я выбежал из дома, перепрыгнул через ворота и бежал, бежал, бежал. Когда я в последний раз обернулся, он огибал ворота, выбегая за мной со двора. До тех пор, пока мне не исполнилось двадцать пять лет, мне время от времени являлось в кошмарах выражение его лица, когда он выбежал из-за угла.
Как только я увидел его, я опустил голову и побежал. Я бежал так, словно меня преследовал дьявол. Абель был крупнее и быстрее, но это был мой район. Меня невозможно поймать в моем районе. Я знал каждый переулок и каждую улицу, каждую стену, через которую можно перелезть, каждый забор, между прутьями которого можно протиснуться. Я нырял между машинами, срезал путь через дворы. Я не знаю, когда он сдался, потому что ни разу не оглянулся. Я бежал, бежал и бежал, так далеко, как только могли унести меня ноги. Я остановился только тогда, когда оказался в Брэмли, в трех районах от дома. Я нашел укрытие в каких-то кустах, свернулся там и так просидел, как мне казалось, несколько часов.
Мне не надо давать урок дважды. С того дня и до тех пор, пока я не ушел из дома, я жил тихо, как мышь. Если Абель был в комнате, меня в комнате не было. Если он был в одном углу, я был в другом. Если он входил в комнату, я вставал и делал вид, что мне надо на кухню, а когда возвращался в комнату, старался быть поближе к выходу. Он мог быть в самом веселом, самом дружелюбном настроении. Не важно. Больше ни разу я не дал ему возможности оказаться между мной и дверью. Может быть, после того случая я пару раз был неосмотрителен, и он успевал ущипнуть меня или дать пинка до того, как я сматывался, но я больше никогда не доверял ему ни на секунду.
С Эндрю все было по-другому. Эндрю был сыном Абеля, плоть от плоти, кровь от крови. Хотя Эндрю был на девять лет младше меня, на самом деле он был старшим сыном в этом доме, первенцем Абеля, и это гарантировало ему уважение, которое не получали ни я, ни даже мама. И Эндрю не получал от этого человека ничего, кроме любви, несмотря на все свои недостатки. И из-за этой любви Эндрю (думаю, единственный из нас) не боялся. Он был укротителем льва, правда, этот лев растил его. И хотя он знал, на что способен этот зверь, от этого он не мог любить его меньше.
Если говорить обо мне, то первая вспышка гнева или бешенства со стороны Абеля заставляла меня бежать. Эндрю оставался и пытался утихомирить Абеля. Он даже вставал между Абелем и мамой. Я помню, как как-то вечером Абель кинул бутылку «Jack Daniel’s» в голову Эндрю. Она пролетела мимо и разбилась об стену. То есть Эндрю простоял довольно долго для того, чтобы в него кинули бутылку. Я никогда не торчал достаточно долго для того, чтобы Абель мог в меня прицелиться.
Когда «Mighty Mechanics» разорился, Абель должен был забрать оттуда свои автомобили. Кто-то завладел этой собственностью, его имущество было арестовано за долги. Возникла большая проблема. Именно тогда он начал превращать наш двор в свою автомастерскую. И именно тогда мама с ним развелась.
В африканской культуре есть официальный брак и традиционный брак. И то, что ты развелся с кем-то официально, не означает, что этот человек больше не является твоим супругом. Как только долги Абеля и его ужасные деловые решения начали негативно влиять на мамин кредит и ее способность обеспечивать своих сыновей, она решила выйти из игры. «У меня нет долгов, – сказала она, – у меня нет плохой кредитной истории. Я не участвую в этом с тобой». Мы все еще оставались семьей, и у них все еще был традиционный брак, но официально она развелась с ним – с целью разделить их финансовые дела. Она также вернула себе свою фамилию.
Так как Абель занялся нелицензированным бизнесом в жилом районе, один из соседей подал заявление, чтобы от нас избавиться. Мама обратилась с просьбой о выдаче лицензии, чтобы иметь возможность заниматься бизнесом на своей территории. Автомастерская простаивала, но Абель продолжал доводить дело до ручки, пропивая деньги. В то же время мама начала делать карьеру в строительной компании, в которой она работала, выполняя больше задач и получая большую зарплату.
Теперь его автомастерская почти превратилась в просто хобби. Предполагалось, что он должен оплачивать школу Эндрю и продукты, но он с опозданием платил даже за это, так что вскоре мама начала оплачивать все. Она платила за электричество. Она платила ипотеку. Он не вкладывал в буквальном смысле слова ничего.
Это стало переломной точкой. Когда мама стала зарабатывать больше и возвращать свою независимость, она увидела, как появляется дракон. Он стал пить больше. Он становился все более и более жестоким. Вскоре после того, как Абель напал на меня в кладовой, он второй раз ударил маму. Я не могу вспомнить подробностей этого, потому что сейчас это смешивается с другими случаями, которые последовали за этим. Я помню, что вызвали полицию. На этот раз они прибыли в дом, но это снова было похоже на балаган. «Эй, ребята. Эти женщины, вы знаете, каково с ними». Не было сделано заявления, не было возбуждено уголовное дело.
Когда бы он ни бил ее или ни нападал на меня, после этого мама находила меня плачущим и отводила в сторону. Каждый раз она говорила мне одно и то же:
– Молись за Абеля, потому что он не нас ненавидит. Он ненавидит себя, – говорила она.
Для ребенка это не имело смысла.
– Ну, если он ненавидит себя, почему он не бьет себя? – говорил я.
Абель был одним из тех алкоголиков, заглянув которым в глаза, когда они пьяны, невозможно увидеть знакомого вам человека. Я помню, как однажды ночью он пришел домой вдрызг пьяным и, спотыкаясь, шел по дому. Он ввалился в мою комнату, что-то бормоча себе под нос, а я проснулся и увидел, как он мочится на пол. Он думал, что находится в туалете. Вот до какой степени он мог напиться: он даже не знал, в какой из комнат дома он сейчас находится. Как часто по ночам он вваливался ко мне в комнату, вышвыривал меня из кровати и засыпал. Я кричал на него, но это было все равно, что говорить с зомби. Я отправлялся спать на диван.
Каждый вечер после работы он пил на заднем дворе со своими работниками, пропивал все деньги, которые они заработали за день. Они вместе напивались, а к концу вечера он дрался с одним из них. Они были пьяны, кто-то говорил что-то, что не нравилось Абелю, и он выбивал дурь из одного из своих парней. Парень не появлялся на работе во вторник или среду, но к четвергу возвращался, потому что нуждался в работе. Эта история повторялась каждые несколько недель, как по расписанию.
Он также пинал собак. В основном Фуфи. Пантера была достаточно умной, чтобы держаться от него подальше, но глухая дружелюбная Фуфи всегда пыталась подружиться с Абелем. Она перебегала ему дорогу или крутилась под ногами, когда он выпил лишнего, и он давал ей пинка. После этого она убегала и некоторое время где-то пряталась. Полученный Фуфи пинок был предупреждающим сигналом, что вот-вот начнется. Собаки и рабочие во дворе часто были первыми, кто пробовал его гнев, и это давало остальным знать, что надо затаиться. Обычно я шел искать Фуфи, где бы она ни пряталась, и был с ней.
Странным было то, что, когда Фуфи пинали, она никогда не лаяла и не визжала. Когда ветеринар диагностировал ее глухоту, он также обнаружил, что у нее какая-то патология, которая не позволяет ей в полной мере ощущать прикосновение. Она не чувствовала боли. Вот почему она всегда вела себя с Абелем так, словно ничего не было. Он ее пинал, она пряталась, на следующее утро она уже была на месте, виляя хвостом. «Эй. Я здесь. Я даю тебе еще один шанс».
И ему всегда давали еще один шанс. От симпатичного и обаятельного Абеля никогда не отворачивались. У него были проблемы с выпивкой, но он был приятным парнем. У него была семья…
Если вы растете в доме, где с вами плохо обращаются, то пытаетесь преодолеть ощущение, что вы можете любить человека, которого ненавидите, или ненавидеть человека, которого любите. Это странное чувство. Вы хотите жить в мире, где кто-то или хороший, или плохой, где вы его либо ненавидите, либо любите. Но так у людей не бывает.
По дому текла скрытая агрессия, но по-настоящему он поднимал руку не слишком часто. Я знал, что если поднял, то вскоре ситуация наладится. Как ни странно, именно хорошие периоды между побоями затягивали все это и обостряли до предела. Он ударил маму один раз, затем, через три года, еще раз, и ей досталось немного больше. Следующий раз наступил через два года, и ей снова досталось немного больше. Затем – через год, и ей опять досталось сильнее.
Это было достаточно нерегулярно для того, чтобы можно было думать, что этого больше не случится. Но достаточно часто, чтобы никогда не забывать, что это возможно. В этом был определенный ритм. Помню, однажды, после одного ужасного случая, никто не разговаривал с ним больше месяца. Ни слова, ни взгляда, ни бесед, ничего. Мы ходили по дому, как чужие, стараясь не пересекаться. Абсолютный бойкот. Потом, однажды утром, ты был на кухне, и вдруг кивок. «Привет». «Привет». Потом, через неделю: «Ты видел это в новостях?» «Да». Затем, на следующей неделе, шутка и смех. Медленно, медленно жизнь возвращалась в прежнее русло. Через шесть месяцев, через год ты делаешь это снова.
Однажды днем я пришел домой из «Сэндрингхэма», и мама была очень расстроена и взвинченна.
– Это невозможный человек, – сказала она.
– Что случилось?
– Он купил пистолет.
– Что? Пистолет? Что ты имеешь в виду под словами «он купил пистолет»?
В моем мире пистолет был чем-то совершенно диким. Я считал, что пистолеты есть только у полицейских и гангстеров. Абель пошел и купил девятимиллиметровый «парабеллум» «Smith & Wesson». Гладкий и черный, зловещий. Он не выглядел классным, как пистолеты в кино. Он выглядел как вещь, которая убивала.
– Зачем он купил пистолет? – спросил я.
– Не знаю, – ответила мама.
– Господь говорил со мной. Тревор.
Он сказал мне: «Патрисия, я ничего не делаю по ошибке. Я не даю тебе ничего, чего бы ты не смогла вынести».
Я беременна не просто так.
Я знаю, каких сыновей могу вырастить.
Я выращу этого ребенка.
Она поссорилась с ним из-за этого, и он ушел, сказав какую-то чушь насчет того, что миру надо научиться уважать его.
– Он считает себя полицейским всего мира, – сказала она. – И думает, что проблема в мире. Есть люди, которые не могут контролировать сами себя, вот они-то и хотят контролировать всех окружающих.
Вскоре после этого я переехал. Атмосфера стала для меня невыносимой. Я достиг того уровня, когда стал таким же большим, как Абель. Достаточно большим для того, чтобы отвечать ударом на удар. Отец не боится получить возмездие от своего сына, но я не был его сыном. Он это знал. Мама использовала такую аналогию: теперь в доме было два льва-самца.
– Каждый раз, когда он смотрит на тебя, он видит твоего отца, – говорила она. – Ты для него – постоянное напоминание о другом мужчине. Он ненавидит тебя, и тебе надо уйти. Тебе надо уйти, пока ты не стал таким, как он.
Кроме того, мне самое время было уйти. Вне зависимости от Абеля, мы всегда планировали, что после окончания школы я перееду. Мама никогда не хотела, чтобы я был, как мой дядя, то есть одним из тех мужчин – безработных и до сих пор живущих дома с матерью. Она помогла мне снять квартиру, и я переехал. Квартира была всего в десяти минутах пешком от дома, так что я всегда мог забежать, чтобы помочь с делами или изредка пообедать. Но самое главное – что бы там ни происходило с Абелем, я уже никак не мог быть замешанным.
В какой-то момент мама перебралась в отдельную спальню в доме, и с тех пор они были мужем и женой только на словах. Они даже не проживали совместно, просто сосуществовали. Такое положение дел длилось год, может быть, два. Эндрю исполнилось девять, и в своем мире я вел обратный отсчет времени до его восемнадцатилетия, думая, что это, наконец, освободит маму от этого жестокого мужчины. Как-то днем мама позвонила и попросила меня прийти домой. Я появился через несколько часов.
– Тревор, я беременна, – сказала она.
– Что, прости?
– Я беременна.
– Что?!
Боже мой, я был в ярости. Я был так зол.
– Как ты позволила этому случиться?
– Абель и я, мы сблизились. Я переехала обратно в спальню. Это была всего одна ночь, а потом… Я забеременела. Не знаю как.
Она не знала. Ей было сорок четыре года. После Эндрю ей перевязали трубы. Даже ее врач сказал: «Это невозможно. Мы не знаем, как это случилось».
Я кипел от ярости. Все, что мы должны были делать, – ждать, пока Эндрю подрастет, и со всем этим было бы кончено. А теперь все было так, словно она зачислилась на сверхурочную службу.
– То есть ты хочешь родить этого ребенка от этого мужчины?
Ты собираешься оставаться с этим мужчиной еще восемнадцать лет? Ты сошла с ума?
– Господь говорил со мной. Тревор. Он сказал мне: «Патрисия, я ничего не делаю по ошибке. Я не даю тебе ничего, чего бы ты не смогла вынести». Я беременна не просто так. Я знаю, какие дети могут появиться у меня. Я знаю, каких сыновей могу вырастить. Я смогу вырастить этого ребенка. Я выращу этого ребенка.
Через девять месяцев родился Исаак. Она назвала его Исааком, потому что библейская Сара забеременела, когда ей было около ста лет. Естественно, Сара не думала, что может иметь детей, и именно так она назвала своего сына.
После рождения Исаака я еще больше отдалился. Я приходил все реже и реже. Потом я зашел как-то днем, а в доме царил хаос, перед ним стояли полицейские автомобили – последствия очередной драки.
Полиция не поможет мне.
Правительство не защитит меня.
Только мой бог может защитить меня.
Он ударил ее велосипедом. Абель распекал во дворе одного из своих парней, а мама попыталась встать между ними. Она перечила ему на глазах наемного работника, поэтому он взял велосипед Эндрю и ударил ее. Она в очередной раз позвонила в полицию, и полицейские, приехавшие на этот раз, неплохо знали Абеля. Он ремонтировал их автомобили. Они были приятелями. Дело не было возбуждено. Ничего не произошло.
На этот раз я противостоял ему. Я теперь был достаточно большим.
– Ты не можешь продолжать так себя вести. Так нельзя, – сказал я.
Он чувствовал свою вину. Он всегда ее чувствовал. Он не надувал щеки, не уходил в оборону, ничего такого.
– Я знаю, – сказал он. – Мне жаль. Я не люблю этого делать, но ты знаешь, какова твоя мама. Она может много говорить, и она не слушает. Иногда мне кажется, что твоя мама меня не уважает. Она пришла и показывала неуважение ко мне на глазах моих работников. Я не мог позволить, чтобы эти мужчины считали меня человеком, который не справляется с женой.
После велосипеда мама наняла подрядчиков, с которыми была знакома благодаря строительному бизнесу, чтобы они построили для нее отдельный дом сзади, как маленький домик для прислуги. Туда она и переехала с Исааком.
– Самая безумная вещь, которую я когда-либо видел, – сказал я ей.
– Это все, что я могу сделать, – ответила она. – Полиция не поможет мне. Правительство не защитит меня. Только мой бог может защитить меня. Но против него я могу использовать только одно-единственное, чем он дорожит, и это – его гордость. Если я буду жить на дворе в лачуге, все будут спрашивать его: «Почему твоя жена живет в лачуге, а не в твоем доме?» Ему придется отвечать на этот вопрос, и неважно, что он скажет, каждый будет знать, что с ним что-то не так. Он любит жить для мира. Пусть мир увидит его таким, какой он есть. На улицах он святой. В этом доме он дьявол. Пусть увидят, каков он на самом деле.
Когда мама решила оставить Исаака, я был близок к тому, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни. Я больше не мог терпеть боль. Но видеть ее, получившую удар велосипедом, жившую, как заключенная, на собственном заднем дворе, было для меня последней каплей. Я был сломлен. С меня хватит.
– Одно-единственное? – сказал я ей. – Эту бессмысленную вещь? Я не буду в этом участвовать. Я не могу жить этой жизнью с тобой. Я отказываюсь. Ты приняла свое решение. Удачи тебе в твоей жизни. Я собираюсь жить своей.
Она поняла. Она совсем не чувствовала себя преданной или брошенной.
– Дорогой, я знаю, что ты испытываешь, – сказала она. – Однажды мне тоже пришлось отказаться от своей семьи, чтобы уйти и жить своей жизнью. Я понимаю, если тебе надо сделать то же самое.
Так я и сделал. Я ушел. Я не звонил. Я не заходил. Исаак пришел, а я ушел. И, хоть убей, не мог понять, почему она просто не может сделать то же самое: уйти. Просто уйти. Просто, к чертовой матери, уйти!
Я не понимал, что она испытывала. Не понимал, что такое домашнее насилие. Не понимал, как работают взаимоотношения взрослых. У меня никогда не было даже девушки, я был незрелой личностью. Мне было совершенно непонятно, как она могла заниматься сексом с человеком, которого ненавидела и боялась. Я не знал, как легко могут переплетаться секс и ненависть. И страх.
Я злился на маму. Ненавидел я его, но винил ее. Я считал Абеля выбором, который она сделала, выбором, который она продолжала делать. Всю мою жизнь она, рассказывая истории о том, как росла в хоумленде, брошенная родителями, всегда говорила: «Ты не можешь винить никого другого в том, что ты делаешь. Ты не можешь винить свое прошлое за то, кто ты. Ты отвечаешь за себя. Ты делаешь собственный выбор».
Он любит жить для мира.
Пусть мир увидит его таким, какой он есть.
На улицах он святой. В этом доме он дьявол.
Пусть увидят, каков он на самом деле.
Она никогда не позволяла мне считать нас жертвами. Хотя мы именно были жертвами, я и мама, Эндрю и Исаак. Жертвами апартеида. Жертвами жестокости. Но мне никогда не разрешалось так думать, и я не смотрел на ее жизнь с этой стороны. Вычеркнуть из нашей жизни моего отца, чтобы успокоить Абеля, – это был ее выбор. Поддерживать автомастерскую Абеля – это был ее выбор. Исаак был ее выбором.
Между тем деньги были у нее, не у него. Она не была зависима. Так что я считал, что именно она принимает решение.
Если смотреть со стороны, так легко обвинить женщину и сказать: «Тебе просто надо уйти». Мой дом не был единственным домом, где существовало домашнее насилие. Я вырос среди этого. Я видел это на улицах Соуэто, по телевизору, в кино. Куда уйдет женщина в обществе, где это считается нормальным? Когда полиция не поможет ей? Когда собственная семья не поможет ей? Куда уйдет женщина, когда она бросает одного мужчину, который ее бьет, но в итоге обычно находит другого мужчину, который ее бьет, может быть, даже хуже, чем первый? Куда уйдет женщина, когда она одна с тремя детьми и живет в обществе, которое делает ее парией, если она женщина без мужчины? Если за это ее считают шлюхой? Куда она уйдет? Что она будет делать?
Но в то время я ничего этого не понимал. Я был мальчиком с мальчишеским восприятием действительности. Отчетливо помню и наш последний спор на эту тему. Это было то ли после удара велосипедом, то ли когда она перебиралась в лачугу на заднем дворе. Я был расстроен, упрашивая ее в тысячный раз.
– Почему? Почему ты просто не уйдешь?
Она покачала головой.
– Ох, малыш. Нет, нет, нет. Я не могу уйти.
– Почему?
– Потому что если я уйду, он убьет нас.
Она не драматизировала излишне. Она не повышала голос. Она сказала это совершенно спокойно и прозаично, и я больше никогда не задавал ей этот вопрос.
В конце концов, она ушла. У меня нет ни малейшего представления о том, что подтолкнуло ее уйти, что стало последней каплей. Я отсутствовал. Уехал, став комиком, путешествовал по стране, выступал в шоу в Англии, вел радиошоу, вел телешоу. Я поселился вместе со своим кузеном Млунгиси и отделил свою жизнь от ее. Я больше не мог вкладывать себя, потому что это разбивало меня на множество осколков. Но однажды она купила новый дом в Хайлендс-Норте, встретила кого-то нового и переехала вместе со своей жизнью. Эндрю и Исаак продолжали видеться с отцом, который к этому моменту просто существовал, продолжая пить и драться, продолжая жить в доме, купленном его бывшей женой.
Годы шли. Жизнь продолжалась.
Потом, как-то утром, часов в десять, когда я был еще в кровати, зазвонил телефон. Это было в воскресенье. Я знаю, что это было в воскресенье, потому что все остальные члены семьи ушли в церковь, а я, к своему удовольствию, нет. Дни бесконечных хождений туда-сюда по церквям больше не были моей проблемой, и я лениво продолжал спать. Ирония моей жизни заключается в том, что именно тогда, когда замешана церковь, все идет чертовски не так. Например, как в тот раз, когда нас похитили жестокие водители микроавтобуса. По этому поводу я тоже всегда поддразнивал маму. «Вся эта твоя церковь, этот твой Иисус, что хорошего они принесли?»
Я посмотрел на телефон. На нем высвечивался мамин номер, но когда я ответил, оказалось, что звонил Эндрю. Его голос звучал совершенно спокойно:
– Привет, Тревор, это Эндрю.
– Привет.
– Как дела?
– Хорошо. Что случилось?
– Ты занят?
– Я типа сплю. А что?
– В маму выстрелили.
Так. В этом звонке были две странности.
Во-первых, почему он спросил, не занят ли я? Начнем с этого. Когда в твою маму выстрелили, первое, что должно вылететь из твоего рта: «В маму выстрелили». Не «Как дела?» Не «Ты занят?» Это меня смутило.
Второй странностью было то, что, когда он сказал: «В маму выстрелили», я не спросил: «Кто выстрелил в нее?» Мне это было не надо. Он сказал: «В маму выстрелили», а мой разум автоматически дополнил остальное: «Абель выстрелил в маму».
– Где ты сейчас? – спросил я.
– Мы в больнице Линксфилда.
– Понятно, еду.
Я выскочил из постели, побежал по коридору и заколотил в дверь Млунгиси. «Парень, в мою маму выстрелили! Она в больнице». Он тоже выскочил из постели, мы сели в автомобиль и помчались в больницу, которая, к счастью, была всего в пятнадцати минутах езды.
В тот момент я был расстроен, но не испуган. Эндрю был таким спокойным, разговаривая по телефону, он не плакал, в его голосе не было паники, так что я думал: «С ней все должно быть в порядке. Это должно быть не слишком плохо». Я перезвонил ему из машины, чтобы узнать подробности.
– Эндрю, что случилось?
– Мы шли домой из церкви, – сказал он, снова абсолютно спокойно, – а папа ждал нас у дома, и он вышел из своей машины и начал стрелять.
– Но куда? Куда он ей попал?
– Он выстрелил ей в ногу.
– Ох, ладно, – сказал я с облегчением.
– А потом он выстрелил ей в голову.
Когда он это сказал, мое тело просто обмякло. Я точно помню, на каком светофоре я был. Секунду царила полная тишина, а потом я зарыдал так, как никогда раньше не рыдал. Я разразился тяжелыми всхлипываниями и стонами. Я плакал так, словно все другое, о чем я плакал в жизни, было недостойно слез. Я рыдал так сильно, что, если бы я тогдашний мог вернуться назад во времени и увидеть всех себя, плачущих раньше, я похлопал бы их по плечу и сказал: «Не стоит плакать из-за такой ерунды».
Я разразился тяжелыми всхлипываниями и стонами. Я плакал так, словно все другое, о чем я плакал в жизни, было недостойно слез.
Эти рыдания – не плач от огорчения. Это не катарсис. Не жалость к самому себе. Это – выражение дикой боли, результат того, что твое тело неспособно выразить эту боль любым другим способом, в любой другой форме. Она была моей мамой. Она была моим товарищем по команде. Мы всегда были вместе, я и она. Я и она против всего мира. Эндрю сказал «выстрелил в голову», и я сломался пополам.
Свет померк. Я даже не мог видеть дорогу, но я вел автомобиль сквозь слезы, думая: «Только бы добраться туда, только бы добраться туда, только бы добраться туда». Мы подъехали к больнице, и я выпрыгнул из машины. У входа в отделение неотложной помощи была зона отдыха под открытым небом. Эндрю стоял там и ждал меня, один. Его одежда была испачкана кровью. Он все еще выглядел абсолютно спокойным, абсолютно невозмутимым. Но в тот момент, когда он поднял глаза и увидел меня, он сломался и начал реветь. Казалось, он все утро держал это в себе, а потом все это разом вырвалось, и он потерял самообладание. Я подбежал к нему, обнял, а он все плакал и плакал. Но его плач отличался от моего. Мой был вызван болью и гневом. Его плач был от беспомощности.
Я повернулся и побежал в отделение неотложной помощи. Мама была там, лежала в приемном отделении на каталке. Врачи занимались ею. Все ее тело было покрыто кровью. В ее лице была дыра, зияющая рана над губой, часть носа исчезла.
Она была такой же спокойной и невозмутимой, как всегда. Она смогла открыть один глаз, повернула голову, посмотрела на меня и увидела выражение ужаса на моем лице.
Эти рыдания – не плач от огорчения.
Не жалость к самому себе.
Это – выражение дикой боли. Она была моей мамой. Она была моим товарищем по команде.
Я и она против всего мира.
– Все хорошо, малыш, – прошептала она, почти неспособная говорить из-за крови в горле.
– Ничего хорошего.
– Нет, нет, я в порядке, я в порядке. Где Эндрю? Где твой брат?
– На улице.
– Иди к Эндрю.
– Но, мама…
– Ш-ш-ш. Все хорошо, малыш. Я в порядке.
– Ты не в порядке, ты…
– Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Я в порядке, в порядке, в порядке. Иди к брату. Ты нужен своему брату.
Врачи продолжали заниматься делом, а я ничего не мог сделать, чтобы помочь ей. Я вышел на улицу, чтобы быть с Эндрю. Мы сели рядом, и он рассказал мне историю.
Они возвращались домой из церкви, большой группой – моя мама, Эндрю и Исаак, ее новый муж и его дети, и другие члены его большой семьи, тети и дяди, племянницы и племянники. Они только заехали на подъездную дорожку, когда подъехал Абель и выскочил из своего автомобиля. У него был пистолет. Он посмотрел прямо на маму.
– Ты украла мою жизнь, – сказал он. – Ты отняла у меня все. Теперь я собираюсь всех вас убить.
Эндрю встал перед отцом. Он встал прямо перед пистолетом.
– Не делай этого, папа, пожалуйста. Ты пьян. Просто убери пистолет.
Абель посмотрел на сына.
– Нет, – сказал он. – Я убью всех, а если ты не отойдешь, я застрелю тебя первым.
Эндрю отошел в сторону.
– Его глаза не лгали, – сказал он мне. – У него были глаза дьявола. В тот момент я мог сказать, что мой отец исчез.
Да, в тот день я чувствовал огромную, невыносимую боль. И все же, оглядываясь назад, я понимаю, что боль Эндрю была сильнее, чем моя. В мою маму выстрелил мужчина, которого я презирал. Как бы там ни было, я чувствовал подтверждение своей правоты. Все это время я был прав насчет Абеля. Я мог направить свой гнев и ненависть прямо на него без малейших стыда или чувства вины. Но в маму Эндрю выстрелил его отец, отец, которого он любил. Как он мог согласовать любовь с этой ситуацией? Как он мог вынести любовь к обеим сторонам? Обеим сторонам его самого?
Исааку было всего четыре года. Он не полностью осознавал, что происходит, и, когда Эндрю отошел в сторону, Исаак заплакал:
– Папа, что ты делаешь? Папа, что ты делаешь?
– Исаак, иди к своему брату, – сказал Абель.
Исаак подбежал к Эндрю, Эндрю взял его. Потом Абель поднял пистолет и начал стрелять. Мама прыгнула перед пистолетом, чтобы всех прикрыть, тогда-то она и получила первую пулю, не в ногу, а в ягодицу. Она упала и, когда падала на землю, закричала:
– Бегите!
Абель продолжал стрелять, и все побежали. Они рассыпались. Мама пыталась снова встать на ноги, когда Абель подошел и встал над ней. Он прицелился ей в голову из пистолета, в упор, словно это была казнь. Потом он нажал на курок. Ничего. Осечка. Клик! Он снова нажал на курок. То же самое. Потом опять и опять. Клик! Клик! Клик! Клик! Четыре раза он нажимал на курок, и четыре раза пистолет давал осечку. Пули с хлопком выскакивали из ствола, выпадали из пистолета, падали на маму и с цоканьем приземлялись на асфальт дорожки.
Абель остановился, чтобы посмотреть, что не так с пистолетом. Мама в панике вскочила. Она оттолкнула его, побежала к машине, прыгнула на водительское сиденье.
Его глаза не лгали. У него были глаза дьявола.
В тот момент я мог сказать, что мой отец исчез.
Эндрю бежал следом и прыгнул на пассажирское сиденье, рядом с ней. Как только она повернула ключ зажигания, Эндрю услышал тот последний выстрел, и ветровое стекло покраснело. Абель выстрелил, стоя за автомобилем. Пуля вошла в мамин затылок и вышла через лицо, повсюду была кровь. Ее тело рухнуло на руль. Эндрю действовал, не задумываясь, он перетащил маму на пассажирское сиденье, перевалился через нее, сел на водительское сиденье, дал по газам и помчал в больницу в Линксфилде.
Я спросил Эндрю, что было с Абелем. Он не знал. Я был полон ярости, но ничего не мог сделать. Я чувствовал себя совершенно бессильным, но знал, что должен сделать хоть что-нибудь. Так что я взял телефон и позвонил ему. Я позвонил человеку, который только что выстрелил в мою маму, и он, как ни странно, взял трубку.
– Тревор.
– Ты убил мою маму.
– Да.
– Ты убил мою маму!
– Да. А если бы мог найти тебя, то убил бы и тебя.
Потом он повесил трубку. Это был самый жуткий момент. Это было страшно. Как бы взвинчен я ни был, когда позвонил ему, я немедленно потерял запал. До сего дня я не знаю, о чем я думал. Я не знаю, какого события ожидал. Я просто был взбешен.
Я продолжал задавать Эндрю вопросы, пытаясь получить больше информации. Потом, когда мы разговаривали, на улицу вышла медсестра и огляделась в поисках меня.
– Это вы семья? – спросила она.
– Да.
– Сэр, возникла проблема. Ваша мать сначала немного разговаривала. Теперь она не говорит, но из того, что мы слышали, нам удалось получить информацию, что у нее нет медицинской страховки.
– Что? Нет, нет. Это не может быть правдой. Я знаю, что у мамы есть медицинская страховка.
Но у нее не было. Как выяснилось, за несколько месяцев до происшествия она решила: «Медицинское страхование – мошенничество. Я никогда не болею. Я откажусь от него». Так что теперь у нее не было медицинской страховки.
– Мы не можем лечить здесь вашу мать, – сказала медсестра. – Если у нее нет страховки, мы должны отправить ее в государственную больницу.
– В государственную больницу? Что… нет! Вы не можете. Маме выстрелили в голову. Вы собираетесь положить ее обратно на каталку? Отправить ее на машине «Скорой помощи»? Она умрет. Вам надо лечить ее прямо сейчас.
– Сэр, мы не можем. Нам нужна форма оплаты.
– Я ваша форма оплаты. Я заплачу.
– Да, люди так говорят, но без гарантии…
Я достал кредитную карту.
– Вот, – сказал я. – Возьмите это. Я заплачу. Я заплачу за все.
– Сэр, больница может быть очень дорогой.
– Неважно.
– Сэр, я думаю, что вы не понимаете. Больница может быть действительно дорогой.
– Леди, у меня есть деньги. Я заплачу за все. Только помогите нам.
– Сэр, вы не понимаете. Нам придется сделать очень много исследований. Только одно исследование может стоить две, три тысячи рэндов.
– Три тыся… что? Леди, мы говорим о жизни моей матери. Я заплачу.
– Сэр, вы не понимаете. В вашу мать выстрелили. В ее мозг. Она будет в реанимационном отделении. Одна ночь в реанимации может стоить пятнадцать, двадцать тысяч рэндов.
– Леди, вы меня не слушаете? Это жизнь моей матери. Это ее жизнь. Возьмите деньги. Возьмите их все. Мне неважно.
– Сэр! Вы не понимаете. Я видела, как это бывает. Ваша мать может провести в реанимации недели. Это может стоить вам пятьсот тысяч, шестьсот тысяч. Может быть, миллион. Вы будете в долгах до конца вашей жизни.
Я не собираюсь вам лгать: я задумался. Я сильно задумался. В тот момент все, что я понял из слов медсестры: «Вы лишитесь всех своих денег». За долю секунды в уме пронесся десяток различных сценариев. «Что, если я потрачу эти деньги, а она все равно умрет? Получу ли я возмещение?» Я на самом деле представил свою мать, такую бережливую, выходящей из комы и говорящей: «Ты потратил так много? Ты идиот. Ты должен был сберечь эти деньги, чтобы растить своих братьев». А что насчет братьев? Теперь ответственность за них лежит на мне. Я должен содержать семью, чего не смогу сделать, если буду в миллионных долгах. На какую-то секунду я даже начал думать: «Ладно… сколько ей, пятьдесят? Это довольно хорошо, так? Она прожила хорошую жизнь».
Люди все время говорят, что сделали бы все для тех, кого они любят. Но в действительности? Сделали бы вы все? Отдали бы все? Не уверен, что ребенку знаком этот вид беззаветной любви. Матери – да. Мать схватит своих детей и выпрыгнет из едущего автомобиля, чтобы им не причинили вред. Она сделает это, не раздумывая. Но не думаю, что ребенок знает, как это делать, это – не инстинктивно. Это то, чему ребенок должен научиться.
Я вложил свою кредитную карту медсестре в руку.
– Делайте все, что надо. Просто, пожалуйста, помогите моей маме.
Остаток дня мы провели в неопределенности, ожидая, расхаживая вокруг больницы. Иногда забегали члены семьи. Наконец, несколько часов спустя из отделения неотложной помощи вышел врач, чтобы сообщить нам новости.
– Как дела? – спросил я.
– Ваша мать стабильна. Она не в операционном блоке, – сказал он.
– С ней все будет в порядке?
Он подумал секунду о том, что собирался сказать.
– Я не люблю использовать это слово, – сказал он, – потому что я человек науки и не верю в это. Но то, что произошло с вашей матерью сегодня, – это чудо. Я никогда это не говорю, потому что ненавижу, когда люди так говорят, но не могу объяснить это как-нибудь по-другому.
Мать схватит своих детей и выпрыгнет из едущего автомобиля, чтобы им не причинили вред.
Она сделает это, не раздумывая.
Но не думаю, что ребенок знает, как это делать, это – не инстинктивно.
Это то, чему ребенок должен научиться.
Пуля, которая попала маме в ягодицу, прошла навылет. Она вошла, вышла и не причинила настоящего вреда. Другая пуля, прошедшая через затылок, вошла под черепом, в верхней части шеи. Она прошла на волосок от спинного мозга, мимо продолговатого мозга, и прошла через голову прямо под мозгом, не задев ни одну из крупных вен, артерий или нервов. Траектория пули продолжалась, она направлялась прямо в мамину левую глазницу и должна была выбить глаз, но в последнюю секунду ее движение замедлилось, и она ударила в скулу, раздробив скуловую кость, отрикошетив и выйдя через левую ноздрю.
На каталке в приемном покое из-за крови рана выглядела намного хуже, чем была на самом деле. Пуля содрала только небольшой кусок кожи с боковой поверхности ноздри, она вышла целиком, внутри не осталось фрагментов пули. Ей даже не понадобилась операция. Они остановили кровотечение, зашили ее сзади, зашили ее спереди и оставили выздоравливать.
– Мы ничего не могли сделать, потому что ничего не надо было делать, – сказал врач.
Через четыре дня мама вышла из больницы. Через семь дней она вернулась на работу.
Остаток того дня и ночь врачи продержали маму на снотворных, чтобы она отдохнула, а нам сказали идти домой. «Она стабильна, – сказали они. – Вы ничем не поможете. Идите домой и отдыхайте». Так мы и сделали.
Следующим утром я первым делом вернулся в больницу, чтобы быть с мамой в ее палате и ждать, когда она проснется. Когда я вошел, она еще спала. Ее голова была перевязана. На лице были швы, нос и левый глаз были прикрыты марлей. Она выглядела хрупкой и слабой, уставшей, это был один из немногих случаев в моей жизни, когда я видел ее такой.
Я сидел рядом с ее кроватью, держа ее за руку, ожидая и следя за ее дыханием, а в моей голове тек поток мыслей. Я все еще боялся потерять ее. Я был зол на себя за то, что меня не было там, зол на полицию за все те случаи, когда они не арестовывали Абеля. Я говорил себе, что должен был убить его еще годы назад, что было довольно забавной мыслью, потому что я не способен никого убить, но все равно об этом думал. Я был зол на мир, зол на бога. Потому что все, что мама делала, – молилась. Если бы был фан-клуб Иисуса, мама определенно входила бы в первую сотню, и вот – что она за это получила?
Примерно через час ожидания она открыла тот глаз, на котором не было повязки. В тот момент, когда она это сделала, я потерял самообладание. Я начал реветь. Она попросила воды, и я дал ей чашку, она немного потянулась вперед, чтобы попить через соломинку. Я продолжал реветь, реветь и реветь. Я не мог держать себя в руках.
– Ш-ш-ш, – сказала она. – Не плачь, малыш. Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Не плачь.
– Как я могу не плакать, мама? Ты чуть не умерла.
– Нет, я не собираюсь умирать. Я не собираюсь умирать. Все хорошо. Я не собираюсь умирать.
– Но ты чуть не умерла. Я думал, что ты мертва. – Я продолжал реветь и реветь. – Я думал, что потерял тебя.
– Нет, малыш. Малыш, не плачь. Тревор. Тревор, послушай. Послушай меня. Послушай.
– Что? – сказал я, по моему лицу катились слезы.
– Дитя мое, ты должен смотреть на светлую сторону.
– Что? О чем ты говоришь, «на светлую сторону»? Мама, тебе выстрелили в лицо. Здесь нет светлой стороны.
– Конечно, есть. Теперь ты официально самый красивый человек в нашей семье.
Она широко улыбнулась и начала смеяться. Я тоже начал смеяться сквозь слезы. Я выплакал себе все глаза и одновременно истерически смеялся. Мы сидели, она сжимала мою руку, и мы вместе помирали со смеху, как делали всегда, мать и сын, смеющиеся вместе через боль в палате интенсивной терапии в ясный, солнечный прекрасный день.
КОГДА В МАМУ ВЫСТРЕЛИЛИ, ОЧЕНЬ МНОГОЕ ПРОИЗОШЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО. Мы могли только собрать всю историю по кусочкам, факт за фактом, собирая различные свидетельства всех, кто там был. В тот день, когда мы ждали у больницы, у нас было великое множество вопросов, на которые не было ответов. Например: «Что случилось с Исааком?» Мы это выяснили только после того, как нашли Исаака, и он рассказал нам.
Когда Эндрю умчался оттуда с мамой, оставив четырехлетку одного на лужайке перед домом, Абель подошел к своему младшему сыну, поднял его, посадил мальчика в свою машину и уехал. Как только машина тронулась с места, Исаак повернулся к своему папе.
– Папа, почему ты убил маму? – спросил он, думая в тот момент (как и мы все), что мама мертва.
– Потому что я очень несчастен, – ответил Абель. – Потому что у меня большое горе.
– Да, но ты не должен был убивать маму. Куда мы сейчас едем?
– Я собираюсь отвезти тебя в дом твоего дяди.
– А ты куда поедешь?
– Я собираюсь убить себя.
– Не убивай себя, папа.
– Нет, я собираюсь себя убить.
Дядя, о котором говорил Абель, на самом деле был не дядей, а другом. Абель оставил Исаака у своего друга и уехал. Он провел этот день, навещая всех родственников и друзей и прощаясь с ними. Он даже рассказывал людям о том, что он сделал. «Вот что я сделал. Я убил ее, а теперь собираюсь убить себя. Прощайте». Он провел весь день в этом странном прощальном туре, пока, наконец, один из его двоюродных братьев не назвал вещи своими именами.
– Тебе надо взять себя в руки. Не будь трусом. Тебе надо явиться с повинной. Если ты был достаточно смел, чтобы сделать это, ты должен быть достаточно смел, чтобы ответить за содеянное, – сказал его двоюродный брат.
Абель сломался и отдал пистолет кузену, а тот отвез его в полицейский участок. Так Абель явился с повинной.
Пару недель Абель провел в камере, ожидая рассмотрения судом меры пресечения. Мы подали ходатайство против освобождения под залог, потому что он показал, что представляет собой угрозу. Так как Эндрю и Исаак были еще несовершеннолетними, подключились социальные работники. Нам казалось, что дело открыли и закрыли, но однажды, спустя примерно месяц, нам сообщили, что он внес залог. Самым парадоксальным было то, что он был отпущен под залог, так как сказал судье, что если он будет находиться в камере, то не сможет зарабатывать деньги на содержание своих детей. Но он не содержал детей, детей содержала мама.
Итак, Абель вышел на свободу. Дело медленно перемалывалось судебной системой, и все обращалось не в нашу пользу. Из-за того, что моя мама чудом осталась жива, обвинение было понижено с убийства до покушения на убийство. И так как ни в одном из тех случаев, когда мама вызывала полицию, чтобы заявить на Абеля, домашнее насилие не было инкриминировано, у него не было прежних судимостей. У него был хороший адвокат, который при рассмотрении дела в суде продолжал давить на то, что у Абеля дома дети, которые в нем нуждаются. Судебного процесса по делу не было. Абеля признали виновным в покушении на убийство. Он получил условный срок – три года. В тюрьме он не провел ни одного дня. Он остался совместным опекуном своих сыновей. Он разгуливал по Йоханнесбургу, совершенно свободный. Последнее, что я о нем слышал, что он до сих пор живет где-то в Хайлендс-Норте, недалеко от мамы.
Последний кусок истории рассказала мама, после того как пришла в себя. Она рассказала, как это выглядело с ее стороны.
Мама помнила, как Абель остановился и направил пистолет на Эндрю. Помнила, как упала на землю, получив пулю в задницу. Потом Абель подошел и встал над ней, нацелил пистолет ей в голову. Она подняла глаза и смотрела на него прямо под дулом пистолета. Она начала молиться, и именно тогда пистолет дал осечку. Потом он снова дал осечку. Затем – снова осечка и снова. Она вскочила, оттолкнула его и побежала к автомобилю. Эндрю вскочил в машину следом за ней, она включила зажигание… А потом уже ничего не помнила.
До сего дня никто не может объяснить, что случилось. Даже полиция ничего не поняла. Потому что это не похоже на то, что пистолет был неисправен. Он выстрелил, потом не выстрелил, а потом выстрелил в последний раз. Каждый, кто хоть что-то знает об огнестрельном оружии, скажет вам, что девятимиллиметровый пистолет не может дать осечку так, как дал этот. Но на месте происшествия полиция нарисовала мелом маленькие круги на подъездной дорожке, каждым кружком обведена стреляная гильза от выстрелов Абеля. А были еще те четыре пули, нетронутые, выпавшие, когда он стоял над мамой, – никто не знает почему.
Общий счет за мамино лечение в больнице составил 50 000 рэндов. Я оплатил его в тот день, когда мы покидали больницу. Те четыре дня, что мы были в больнице, приходили члены семьи, разговаривали и проводили с нами время, смеялись и плакали. Когда мы собирали вещи перед отъездом, я думал о том, какой безумной была вся неделя.
– Тебе повезло, что ты выжила, – сказал я маме. – Но я до сих пор не могу поверить, что у тебя нет медицинской страховки.
– О, но у меня есть страховка, – ответила она.
– Есть?
– Да. Иисус.
– Иисус?
– Да.
– Иисус – твоя медицинская страховка?
– Если бог со мной, кто может быть против меня?
– Ладно, мама.
– Тревор, я молилась. Я говорила тебе, что я молилась. Я не молюсь понапрасну.
– Знаешь, – сказал я, – на этот раз я не буду спорить с тобой. Пистолет, пули – я не могу это объяснить. Так что сейчас я тебе уступаю.
Но затем я не смог удержаться от последней маленькой подначки.
– Но где был твой Иисус, когда надо было оплачивать счет за больницу, а? Я точно знаю, что это оплатил не он.
– Ты прав, – сказала она, подмигивая. – Не он. Но он даровал мне сына, который это сделал.
* * *
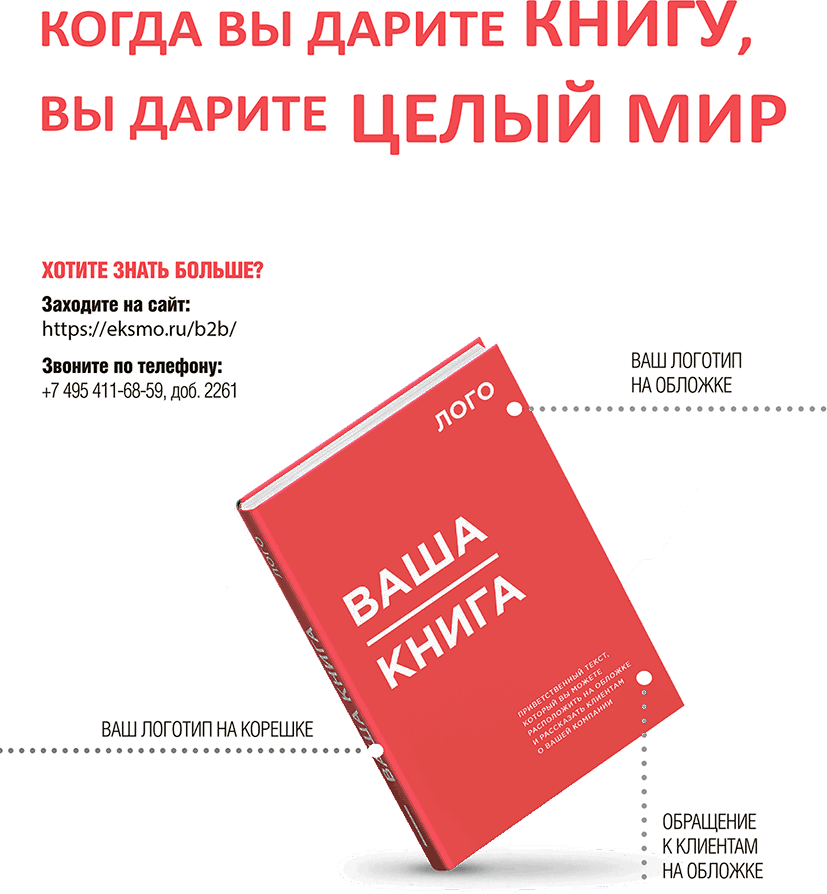
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК