ПОБЕГИ ИЗ ПОДЕБРАД
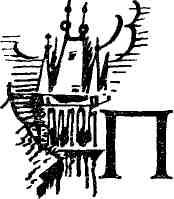
Подебрады — небольшой курортный городок, расположенный возле старинного замка чешского короля Подебрада, чья конная статуя украшает центральную площадь. Мы вдвоем приехали сюда осенью на отдых и лечение.
В конце прошлого века здесь был открыт горячий целебный источник. Один наш пражский друг сказал как-то:
— Чехословакия стоит на горячих ключах и подземных целебных озерах. Там, где их воды прорываются наружу, мы строим курорты.
Так произошло и в этом случае: после открытия источника городок стал быстро развиваться и превратился в благоустроенный курорт. Он не так знаменит, как Карловы-Вари и Марианске-лазне, но именно это нас и соблазнило. Кроме того, мы знали, что главный врач санатория доктор Филипп — известный знаток болезней сердца.
Правда, мы забыли о том, что от Подебрад до Праги всего пятьдесят километров. Было трудно удержаться от соблазна и не ездить в прекрасную стобашенную столицу Чехословакии.
А чем больше мы смотрели на Прагу, тем больше нам хотелось смотреть еще и еще. И до сих пор, закрыв глаза, я могу показать себе чудесный цветной фильм. Вот я стою на площади перед Градом — резиденцией чешских королей. Здесь, в мрачном зале заседаний, бурные политические споры в былые времена нередко кончались тем, что более сильная партия подвергала своих противников «дефенестрации» (от латинского fenestra — «окно»), то есть попросту выбрасывала их из окна на мостовую.
Позади меня собор святого Витта. Он чем-то напоминает причудливую остроклювую птицу. Впереди — Тынский собор, похожий на межпланетный корабль. Оба храма стремительно вознесли свои шпили в бесплодном усилии взлететь к звездам.
Наука избрала другой путь. Дорогой смелых догадок, точных вычислений, дорогой свободных усилий ума наука оторвала тяжесть от Земли и бросила ее в межпланетное пространство, чтобы постичь то, что казалось непостижимым.
А на Земле так и остались стоять символы религиозного устремления ввысь — построенные лучшими зодчими, украшенные лучшими художниками и скульпторами своего времени готические соборы Европы. Внизу, подо мной, розовые водопады черепичных крыш ступенями сбегают к Влтаве. Цветущие вишни и яблони окружают дома громадными белыми букетами.
Среди расступившихся зданий, в скверах, на площадях, — памятники народным героям, музыкантам, ученым. Одни задумчиво сидят в своих тяжелых одеждах, другие грузно застыли на конях, третьи проповедуют, простирая бронзовые руки.
На высоком постаменте стоит танк. По обе стороны пьедестала — нимфы. Они трубят в горны, возвещая победу. Это первый советский танк, ворвавшийся в Прагу. На нем следы боевых ранений и многих дорог. Он поставлен здесь как символ благодарности освобожденного народа нашим воинам.
А что за венок лежит у стены старинного дома? Здесь были расстреляны фашистами в 1945 году чешские патриоты. Имена их начертаны на мемориальной доске. Такие доски и просто надписи, украшенные цветами, часто встречаются в городах Чехословакии. Мимо этих скорбных надписей невозможно пройти равнодушно, и мы не раз присоединяли свои букеты к безымянным венкам у стены.
Группа советских граждан возложила венок на могилы советских воинов, павших в боях за Прагу. В торжественной и скорбной тишине мы шли между ровными рядами могил. Неугасимый огонь горел в светильниках. У памятника сменялся караул. Пражане смотрели на нас. Некоторые из них пришли с цветами и положили их на солдатские могилы. Я заговорила с какой-то женщиной. Она объяснила мне, что каждый раз, навещая могилу матери, заходит и на это кладбище, чтобы возложить цветы на могилы советских солдат.
Здесь же я увидела небольшой старинный памятник. Из надписи я узнала, что он поставлен в 1815 году на братской могиле русских офицеров, скончавшихся от ран, полученных в битвах при Дрездене и Кульме. Сорок пять русских фамилий, с указанием звания, года рождения и принадлежности к полку, высечены на памятнике. Среди них я прочла имя Андрея Толстого, восемнадцати лет, младшего офицера. Может быть, этот юноша, почти мальчик, погибший далеко от Родины, имеет отношение к великому русскому писателю?
Один французский офицер записал в дневнике слова простого солдата, сказанные в 1813 году: «Черт возьми, хорошую штуку мы выкинули! Пошли за русскими в Москву, чтобы привести их во Францию!»
История повторяется. Через 129 лет после нашествия Наполеона немцы подошли к Москве, чтобы «привести» русских в Германию.
На пражском кладбище рядом лежат предки и потомки, погибшие за честь и свободу своей Родины, за независимость народов Европы.
* * *
Санаторий в Подебрадах — четырехэтажное здание в конструктивистском стиле. Внизу — медицинские кабинеты, столовая и ванны. Вода углекислая, похожая на нарзан. Нас встретил пожилой услужливый привратник, записал в книгу наши фамилии и отнес вещи. Оказалось, что он еще и телефонист, и лифтер, он же продает газеты, почтовые принадлежности и ведает вешалкой. И он никогда никому не говорит: «Закрывайте за собой двери, здесь швейцаров нет».
Конечно, мы сразу же запутались в чешской речи, хотя в ней и угадывались знакомые слова. Вернее, именно из-за этих знакомых слов мы и запутались. Когда я спросила в столовой: «Это сбитые сливки?» — за соседними столиками засмеялись. По-чешски «сбитые сливки» значит — «отшлепанные помои». Когда подали меню, мы никак не могли понять значения воинственного слова «брамбор». Радушные чехи пришли на помощь: нам рисовали в воздухе кружки, один рабочий из Остравы изобразил целую пантомиму: выдергивал что-то из пола, потом отряхивал это что-то и складывал в сторону. И вдруг донесся зычный хриплый голос:
— Картошка! Брамбор — это картошка!
К нашему столу подошел невысокий сутуловатый старик с крупным рыхлым лицом. На голове у него была вязаная шапочка, на шее между золотых цепочек висел старинный амулет из бирюзы. Так мы познакомились с другом Маяковского Давидом Бурлюком. Недавно по приглашению Союза советских писателей Бурлюк провел в нашей стране почти полгода…
— Как вы сказали? — переспросил Бурлюк, когда мой муж назвал себя.
— Райкин.
— Кто такой?
— Артист.
— Не слыхал! — отрезал Бурлюк и познакомил нас со своей женой Марией Никифоровной.
Это стройная, бледная, седая старушка, с задорным носиком, изящным ртом и вялой улыбкой. На ней была кружевная кофточка, прикрытая прозрачным оренбургским платком. У Марии Никифоровны больное сердце, поэтому она осторожна, бережлива в движениях. Во время нашей беседы она несколько раз выпрастывала из-под платка худенькую ручку и, положив ее на шершавый кулак мужа, произносила, склонив голову набок, как птичка:
— Папочка, ты обещал мне не говорить о политике.
Бурлюки много и интересно рассказывают. Между прочим, от них мы узнали о бесславной судьбе бывшего солиста Большого театра Жадана, перебежавшего к немцам во время войны. Он живет в Америке, во Флориде, неподалеку от Бурлюков. Работает в кузнице при конюшнях Рокфеллера.
О своем пребывании в СССР старики вспоминают с глубоким волнением. Многое их радостно поражает и трогает. Все свои архивы Бурлюк завещал Библиотеке Ленина и постепенно пересылает в Москву переписку, дневники, фотографии.
И у Бурлюка, и у его жены превосходная память. Если Бурлюк задерживается на секунду, чтобы вспомнить дату или фамилию, Мария Никифоровна тут же подсказывает ему тихим голосом, слегка в нос, моргая белыми веками.
Бурлюки — неугомонные путешественники. Они сказали нам, что им надо съездить еще в Австралию, а уж тогда можно спокойно умереть — на земле не останется страны, где бы они не побывали.
* * *
В сквере садовники высаживают осенние цветы вместо летних. Через дорогу, напротив входа в санаторий, — цветочные часы. Маленький бородатый человечек в красном колпаке отбивает каждый час молоточком по шляпке железного мухомора. Родители с детьми ждут, когда карлик зашевелится. Старшие дети держат отцов и матерей за руки, младшие, запряженные в кожаные вожжи, стоят в своих никелированных колясках, как римские воины в колесницах. Некоторые мальчики солидно ждут, заложив руки за спину, другие еще бегут, чтобы не опоздать, и тормозят у самых часов. Динь-н-н! — ударил карлик. Он бьет двенадцать раз. «Воины» прыгают в своих колесницах. Остальные серьезны. Наконец карлик застыл с поднятым молоточком, и все разошлись.
Вечером заходим в здание, которое можно бы назвать «увеселительным комбинатом»: тут небольшое кафе, где танцуют под джаз, открытая веранда для летних концертов на свежем воздухе и закрытый концертный зал с эстрадой. Зрители, сидя за столиками, пьют лимонад или пиво, жуют тонко нарезанную хрустящую жареную картошку — она продается в целлофановых мешочках. Официанты бесшумно порхают с полными подносами. Публика слушает музыку. Иногда все тихо подпевают, покачиваясь. Часто слышны советские песни. Чехи любят и умеют петь хором.
Во время гастролей нашего Театра миниатюр мы как-то всей труппой выехали из Остравы на прогулку в горы. Был солнечный летний день, и после черной остравской пыли горный воздух на Радогощи — так называлась гора — показался нам особенно свежим, чистым. Мы прокатились с одной вершины на другую на подвесной дороге — каждый ехал в отдельном кресле, подвешенном к тросу на металлическом стержне. Вся труппа театра вдруг оказалась развешанной в воздухе, как белье на веревке, и растянулась на целый километр. Казалось, что земля близко, и хотелось спрыгнуть или покачаться, как на качелях, но, очевидно, кто-то до нас уже осуществлял это намерение, потому что на столбах было написано: «Не гупат». — «Не раскачиваться».
Вскоре мы очутились среди лесистых холмов и полян, поросших травой и цветами. Солнце мягко грело, освещало далекие зеленые низины. Воздух опьянил нас, мы развеселились, и кто-то даже скатился боком с небольшого пригорка, совсем как в детстве.
Вдруг мы увидели группу детей. Мы заметили их, когда они рассаживались на траве возле леса, как стайка птиц. Они глядели на нас и перешептывались. Добродушный полнощекий молодой человек в коротких шортах, берете и красной рубахе навыпуск наклонился к мальчику в очках и что-то сказал. Дети еще оживленнее зашушукались, потом наступила тишина, и неожиданно в прозрачном теплом воздухе послышалась песня. Детские голоса зазвенели на поляне, как один большой серебряный голос. Дети пели одну песню за другой — и советские, и чешские.
— Это для вас, — сказал молодой человек в берете. — Ведь вы из Советского Союза?
Мы побежали к детям, они — к нам. И вот мы уже сидим одной тесной группой, обнимая маленьких крепких веселых ребятишек.
— Теперь вы спойте, — просят они.
И мы затягиваем песни — одну, потом другую — из кинофильмов, из наших спектаклей. Дети довольны и весело аплодируют.
— Какие молодцы! — сказали мы ребятам и молодому человеку в берете. — Как хорошо поет ваш класс!
Но молодой человек ответил, что он вовсе не учитель, а студент факультета русского языка Пражского университета, что этих детей он видит впервые и что это не класс, а просто разные дети из разных школ Остравы, что они приехали в воскресенье за город, или, как выразительно говорят в Чехословакии, «на вылет».
За полгода до этого в Подебрадском концертном зале мы с удовольствием слушали, как взрослые люди, покачиваясь, тихо подпевают оркестру. Пению здесь учат с детства. Недаром говорят, что Чехословакия — страна инженеров и музыкантов.
* * *
Я иду по старинному парку. Он разбит возле замка короля Юрия Подебрада на берегу Лабы, знаменитой реки, — по Германии она течет под названием Эльба.
В липовых аллеях падающие листья то качаются в воздухе, медленно, зигзагами опускаясь на землю, то мечутся на ветру, как пестрые птицы. Седые ивы полощут ветви в быстрой воде Лабы. Пруды заросли зеленью. Пахнет осенней сыростью и сосняком. Он тянется за парком ровными шеренгами. На земле, между тонкоствольными сажеными сосенками, сумеречно и чисто — ничто не растет. Деревья стоят, как в обнимку, тесно. Солнце скупо процеживается сквозь широкие кроны. Приятно вдыхать свежий густой воздух.
Прохожу мимо старинной церкви. Из нее тянет холодом склепа. Передо мной молодая женщина катит коляску по шуршащим, ломким осенним листьям. Крошечная барышня спит в коляске. Она положила кулачки возле ушей. А ушки у нее украшены тоненькими сережками с бирюзой. В прозрачных светлых волосах голубой бант. Глаза ее закрыты, щеки разрумянились. Гиканье и крики с Лабы не могут прервать крепкий сон маленькой чешки.
На Лабе — соревнование. Студенты Электротехнического института, расположенного в замке, с задорным криком обгоняют друг друга на восьмерках и байдарках.
На скамье под деревом сидит пожилая дама. На ней черный костюм, отделанный каракулем. Седые волосы подкрашены по последней моде — голубым. Черная шапочка, сиреневый шарфик. Пожилая дама очень живописна на фоне желтых листьев, темных стволов, тускло-зеленой травы и голубого неба. Она читает книгу и взглядывает на меня поверх книги зоркими глазами. Наши взгляды встречаются. Я кланяюсь ей — никогда не мешает поклониться старому человеку. И вдруг она отвечает такой милой, приветливой улыбкой, что я присаживаюсь на скамью, говорю по-чешски: «Добрый день». Она отвечает мне что-то, я не понимаю. Но все-таки мне кажется, что она сказала: «Как красиво в парке».
Я соглашаюсь: «Да, здесь очень красиво. Немного похоже на наши ленинградские Острова!» — «О Ленинград!» Она откладывает книгу, берет меня за руку и произносит длинную тираду. В ней нет ни одного знакомого слова, но я понимаю, что дама восхищается моим городом. Мы продолжаем смотреть друг на друга и смеемся несколько смущенно, потому что не можем разговаривать свободно. «Парле ву франсе?» — спрашивает моя собеседница, и я отвечаю одной из немногих фраз, оставшихся в моей памяти от французского языка (я знала его в детстве): «Нон, же не парль па-франсе». — «Шпрехен зи дойч?» — «Найн, их шпрехе нет дойч», — отвечаю я. Ведь я учила немецкий в школе… «Ду ю спик инглиш?» — «О, вери бэдли», — отвечаю я и чувствую, что краснею…
Так мы посидели еще немного, оживленно «разговаривая», пока я не услышала, как старая дама произнесла «Эрмитаж» и «Рубенс». Тут мы с ней стали понимать друг друга. Она оказалась искусствоведом, профессором эстетики. Она прекрасно знала картины Эрмитажа, хотя никогда в нем не была.
Мы вспомнили могучих красавиц Рубенса, его мускулистых героев, вспомнили и чувственную плачущую Магдалину Тициана, и рембрандтовского «Блудного сына». Если название было непонятно, профессор эстетики изображала позу героев картины, а я, в свою очередь, не отставала от нее, и в результате мы быстро догадывались, о каком произведении идет речь. Мы с увлечением вспоминали шедевры Эрмитажа, изображая все, что угодно, и остановились только тогда, когда старая дама попыталась изобразить льва с картины Делакруа. Мы расхохотались. Потом моя собеседница взглянула на часы, ахнула — она опаздывала на ванну, — попрощалась и быстро ушла. Я смотрела ей вслед. Желтый лист слетел мне на плечо, как канарейка.
* * *
Райкин выступает по телевизору в Праге. Он участвует в передаче «100 минут». Это еженедельник. Он открывается звучными стихами Витезслава Незвала о Праге. Стихи иллюстрируются рисованными видами города. Потом молодой актер из театра «АБЦ» поет лирические песенки. Затем манекенщицы из пражского Дома мод показывают несколько новых фасонов платьев.
Одежда в Чехословакии практична. Законодатели мод отличаются хорошим вкусом. Вместе с тем одежда современна, несмотря на то что художники-модельеры совершенно отказываются от экстравагантности и вычурности, насаждаемых большинством французских фирм. Эти свойства чешских моделей принесли пражскому Дому мод первую премию 1958 года на международном конкурсе в Вене, где принимали участие лучшие французские фирмы.
Вообще в Праге одеваются просто и удобно: юбки, узкие или широкие, в зависимости от фигуры, шерстяные или силоновые кофточки, всевозможные костюмы, главным образом — спортивные. Красивая, удобная обувь — на это чехи тоже большие умельцы. По старинным мозаичным тротуарам Праги невозможно ходить на тонких каблуках — придется все время вытаскивать свой «гвоздик» из щелочки между камнями. Пражанки предпочитают носить на улице спокойную низкую обувь.
* * *
Райкина представляют телезрителям. По ходу беседы выясняется, что Райкин отдыхает в подебрадском санатории, что он оттуда удрал в Прагу тайком от доктора. Райкин просит зрителей из Подебрад не говорить об этом доктору. Потом Райкин показывает несколько сцен.
В студии тихо, несмотря на то, что она полна народу. Все стоят — сесть негде. Прикрывая рот рукой, смеются беззвучно. Блестят веселые внимательные глаза. Это осветители, операторы, режиссеры, гримеры, шумовики и артисты, участвующие в передаче. Райкин отходит в сторону, передача идет дальше. Композитор играет на рояле свою новую вещь, писатель читает последний рассказ, идет кусок нового фильма, сцена из будущей премьеры театра, потом опять стихи Незвала, виды Праги.
Мы идем в маленькую гостиницу на длинной улице, которая без мудрствований так и называется «Длоуга трида», что значит «Длинная улица». Гостиница носит имя Ирши Волкера, чешского революционного поэта. В ней живут советские специалисты — ученые, учителя русской школы, инженеры, приезжающие в Чехословакию для обмена опытом.
Утром мы должны уехать в Подебрады. Мне хочется погулять по Праге. Я ухожу одна. Прага рано засыпает и рано встает. В шесть утра все уже идут на работу. Когда я вышла, на улицах уже было пусто.
Сворачиваю за угол. Нарядные витрины освещены мягким голубоватым светом. Плоские неподвижные дамы в силоновом белье остолбенело улыбаются за стеклом. Вот маленькая будочка. Человек в белом халате продает горячие «шпекачки» — жирные короткие сардельки с хлебом и горчицей. Из покупают редкие прохожие, главным образом те, кто возвращается с ночной смены.
Я прошла мимо Тынского костела, и Карлова улица вывела меня на Карлов мост — одно из самых замечательных сооружений Праги. Этот мост строила вся страна. Сотни тысяч яиц привезли сюда крестьяне по приказу короля. На яичных желтках и белках замешен цемент, скрепляющий каменную кладку. Тридцать скульптурных групп разных веков украшают мост на всем его протяжении. Первая поставлена в середине семнадцатого века, последняя — в 1928 году.
Старинные башни охраняют вход на мост с двух сторон. Впереди, наверху, под самой луной, неровной линией режут небо крыши пражского Кремля. Лунная дорожка мелко дрожит на быстрой воде Влтавы.
Долго любовалась я этой молчаливой красотой. Внезапно подул прохладный ветер, луна разбрызгалась в воде, я озябла, захотела вернуться на свою «Длинную улицу» — и сразу же заблудилась. Дома закружились вокруг меня каменным хороводом. Они, как люди — то приземистые, то высокие, то нарядные, то строгие, — серьезно смотрели на меня. Неожиданно я очутилась перед небольшим, вросшим в землю зданием с высокой узкой крышей. Я уже видела это здание однажды и узнала его — это была готическая синагога, построенная в XVI веке… иезуитами! Орден иезуитов имел монополию на постройку молитвенных зданий. Нетерпимость фанатичных христовых слуг к иноверцам отступила перед деньгами — синагога так синагога!..
Одна из улиц вдруг вытекла на площадь. На моем пути возник костел с крепостными стенами, отделанными каменными кружевами. Его длинные стрельчатые окна лунно поблескивали. Мрачные святые тайны хранились за тяжелыми, черными, литыми воротами.
Где же дом, в котором я живу? Вся Прага — дом, в котором я живу!.. И когда я уже окончательно потеряла надежду найти свою гостиницу, передо мной возникла знакомая дверь со звоночком. Ноги гудят, как телеграфные столбы. Вот я уже сплю…
— Где ты была?
— Я знакомилась с Прагой с глазу на глаз.
* * *
Утром мы уже в Подебрадах. После завтрака идем гулять. Передача «100 минут» очень популярна. Видно, многие сидели вчера у телевизоров. Встречные улыбаются, некоторые пожимают Райкину руку: «Мы ничего не скажем доктору, соудруг Райкин, не бойтесь!» Широкоплечий пожилой человек в рабочем комбинезоне, плаще и кепке с козырьком, поставленным дыбом, хитро глядит на Райкина сквозь толстые очки и, задерживая его руку в своей, говорит тихо, как заговорщик: «Ни я, ни моя жена, ни мои дети не скажем доктору, что вы удирали в Прагу. Я могу ручаться за все Подебрады — у нас предателей нет».
Заходим в магазин. Продавец показывает зонтики. Достает их с полки, из-под прилавка. Потом приносит особенный зонтик — красный муаровый, с тонкой ручкой, похожей на лебединую шею. Но нам нужен простой черный зонт от дождя. Продавец заворачивает его и, когда мы уже собираемся уходить, прикладывает палец к губам, всем лицом и выражением глаз показывая, что с доктором все будет шито-крыто.
На следующий день доктор делает обход. Это человек лет пятидесяти, спортивного вида, очень серьезный и образованный врач. Он сосредоточенно выслушивает и выстукивает Райкина.
— Не дышите, — говорит он. Потом, сворачивая фонендоскоп, добавляет: — А ведь мне так никто и не сказал, что вы были в Праге на телевидении! Так что можете быть совершенно спокойны, я ничего не знаю…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК